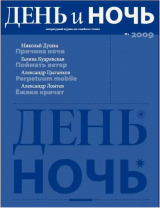
Текст книги "День и ночь, 2009 № 05–06"
Автор книги: Михаил Лермонтов
Соавторы: Яков Полонский,Валентин Курбатов,Александр Щербаков,Эдуард Русаков,Николай Переяслов,Наталья Данилова,Зинаида Кузнецова,Владимир Алейников,Оскар Уайлд,Константин Кравцов
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц)
Нам прикажут – мы идём, Нам прикажут – мы стоим, Нам прикажут – мы лежим И, до приказа, в гробе спим!
Мы, поляки: профессор Жоховский, Мирецкий, Юзек Богуславский и я, шли тесной группкой. Только стихла эта песня, проникнутая безграничной безнадёжностью, – подбежал к нам Фёдор Достоевский:
– Слышали, господа!.. Слышали эту песню? Молодцы! Молодцы красноярцы! Ах, с такой дисциплинированной армией, с такой армией можно совершать чудеса… Можно одерживать такие победы и. Александра Македонского превзойти. Можно завоевать Цареград… Победоносные российские знамёна будут реять над Босфором и Геллеспонтом… Можно захватить и покорить весь мир!..
Он говорил возбуждённо, с сияющим лицом и пламенным взором.
Выглядел он горделиво.
Расправил плечи, как будто тоже… тоже видел перед собой воплощение лучезарной мечты.
Тем временем мы уже подошли к частоколу, окружающему крепость.
Конвойный потянул за колокол, подвешенный у ворот.
Заскрипели двустворчатые ворота. Партия каторжников вступила на территорию острога.
Ефрейтор принялся считать вернувшихся с работы:
– Первый!.. Второй!.. Третий!.. Четвёртый! – выкрикивал, дотрагиваясь длинной тростью до плеча каждого из нас.
Закончив, отправился в своё жилище в доме при офицерских апартаментах, а каторжники заспешили на обед на кухню.
Нам, полякам, идущим вместе, загородил дорогу Фёдор Достоевский:
– А то, о чём я говорил вам давеча, господа, должно исполниться… должно, – подчёркнуто повторял с упором, – Я вам это говорю, Я.
Мы не ответили ни единым словом, и ни единым движением.
Адам Мицкевич в Семипалатинске
В пути на каторгу в партию, состоящую из нескольких десятков рецидивистов, включили и трёх политических преступников поляков[22], в сентябре 1849 г. нам полагался трёхдневный отдых в Семипалатинске.
Остановили нас в крепости за полверсты от города.
Крепость и город получили название от развалин каких-то семи зданий (палат), во время моего пребывания ещё хорошо сохранившихся и свидетельствовавших о их прочности и великолепии.
В Семипалатинске в то время пребывало много поляков, политических преступников, простых солдат, однако с высшим образованием, и экс-каторжников, которые после принудительных работ, уже как поселенцы, получали должности в разных конторах и благодаря учтивости и образованию добивались высоких чинов в чиновничьей иерархии.
Как только по городу пошёл слух, что в этой партии тоже есть поляки, на следующее утро после нашего прибытия в крепости появились дорогие наши земляки с приветами и новостями.
Из земляков, Юзеф Хиршфельд, экс-солдат, уполномоченный и управляющий всеми делами богача Попова, занимал в Семипалатинске высокое, даже, можно сказать, видное положение. Благодаря своему разуму и покладистому характеру, он пользовался полным доверием своего хозяина и всеобщим уважением.
Притом ему одному известными способами, умел сообразоваться с взглядами властей, с которыми, по причине разнообразных интересов купца Попова, должен был общаться и поддерживать постоянные и тесные связи.
Поэтому без особого труда ему удалось получить у начальника батальона Белихова позволение, чтобы мы – профессор Жоховский, Юзик Богуславский и я – провели целый день в его доме и вместе с ним побывали в городе.
Семипалатинск над Иртышом и Семипалатинка в 1849 году выглядели как настоящий восточный город.
Восточные черты придавали ему девять мечетей, мусульманские школы, удобные караван-сараи, население преимущественно киргизско-казахское, а россияне неохотно вспоминали времена, когда в Семипалатинске обитал и правил хан. Это были не столь уж далёкие времена, а именно 28 годами ранее, в 1818, российская власть упразднила ханство, а Семипалатинскую область отдала во владение и под правление губернатора Западной Сибири.
Вернувшись после осмотра города в дом Хиршфельда, мы застали там уже ожидавших нас товарищей.
Тут оказался интендантский урядник Орлинский, каторжанин с 1825, был солдат Ян Май, мобилизованный в русскую армию из Варшавской Духовной Академии, был солдат Рокицкий и поселенец Зелинский, урядник таможенного управления.
Был также россиянин, капитан Тарасов, который свою военную карьеру начал в Королевстве Польском, о котором сохранил самые радужные воспоминания.
Было ещё несколько россиян, очень симпатизирующих Полякам, ещё много земляков-поселенцев, имена которых в течение долгих лет мы позабыли.
Вся компания была отлично подобрана.
Нам троим на каждом шагу давали почувствовать и убедиться, что мы – главные лица в этом собрании, самые дорогие гости, долгожданные товарищи.
В этой атмосфере истинно братской сердечности – в такой атмосфере, от которой мы за время этапов и в тюрьмах отвыкли, легче было вспомнить о тяжкой и неумолимой недоле, которая уже на нас обрушилась, и которая, кто бы знал?.. могла стать нашим уделом на всю жизнь.
Мы собрались в большой квадратной светлой комнате с восемью окнами, выходящими на просторную площадку, буйно заросшую уже желтеющей травой.
Обстановка в комнате была небогатая.
Юзеф Хиршфельд за свою работу получал от купца Попова вознаграждение, если считать по тому времени, высокое, и распоряжался большими материальными средствами, а притом свои личные потребности свёл до минимума, считая, что изгнаннику излишества не подобают, и что они даже греховны в такое время, когда тысячи братьев-земляков терпят тяжкую нужду в этом северном крае, столь отдалённом от их Отчизны.
Но тем не менее в комнате Юзефа Хиршфельда было нечто, что притягивало взоры поляков и радовало их сердца.
Это несколько десятков старых и даже довольно потрёпанных сборников стихов.
Одетые в скромные, чёрные, будто бы траурные рамки, висели также портреты двух последних представителей рода Ягеллонов, Стефана Батория, покидающего Вену, Костюшки, Казимира Пулавского, князя Юзефа и Наполеона.
Никто не беспокоил Юзефа Хиршфельда из-за этих портретов, поскольку, кроме Наполеона, это были лица неизвестные в этом уголке мира, и только для польских изгнанников неописуемым счастьем было видеть эти обожаемые лики!..
Беседа в этом избранном кружке текла живо и свободно. Её стержнем и непрерывным сюжетом оказались рассказы об ураганах, которые нас вырвали из Отчизны и пригнали аж в эту страну изгнания, рассказы о наших личных невзгодах, о судьбах других братьев, с которыми некогда связывали нас узелки общих целей и совместной деятельности: о судьбах тех, с кем мы встречались в тюрьмах, на этапах, в походах.
Поистине, – тема, богатая событиями и неисчерпаемая!..
Во время наших разговоров в избе появился какой-то юнец. Он быстро осмотрелся, нашёл взглядом хозяина, и отозвал его на минуту.
Оба вышли. Вскоре Хиршфельд вернулся смущённый.
– Что за несчастливый случай! – обратился он к профессору Жоховскому. – Как раз, когда у меня такие дорогие сердцу гости, как вы, съезжаются отовсюду купцы, с которыми ведёт торговлю мой хозяин. Вам, дорогие мои, могу сказать, что наши торговые связи простираются в далёкие края, в Бухару, на Кавказ, в Китай. И представьте – ни раньше ни позже – из разных стран прибыли сегодня грузы! Ковры, шелка, табак, кони. Будто, как назло, все эти купцы назначили себе сегодня рандеву в Семипалатинске! Так что я должен идти в контору, чтобы самые важные и ответственные дела снять с плеч, остальные отложу до утра. Постараюсь вернуться к вам возможно скорее.
– Иди, брат, одно слово, служба не дружба, – ответил профессор Жоховский.
Подошёл к нам капитан Тарасов.
– Похоже, подвезли коней, заказанных губернатором, князем Горчаковым. Значит, их надо будет отвести в конюшню. Может быть, господа хотели бы на них посмотреть? Тогда станьте к окну. Уверен, что их стоит внимательно оглядеть.
– Конечно же, охотно полюбуемся. Каждый польский шляхтич – прирождённый любитель лошадей.
– Ну, вы только посмотрите, господа! – воскликнул Тарасов, когда мы встали рядом с ним около открытого окна. – Правда же, великолепные аргамаки?
– Аргамаки? А что это за порода?
– Туркестанская. Аргамак – наилучшая скаковая лошадь в мире! Удивительно послушный, выдержанный, выносливее в деле, чем арабский конь – без шуток – может сотни вёрст проскакать без остановки, будто его изящные сухощавые ножки наделены крыльями, их и подковывают очень редко.
– Прекрасные животные! – восхищался капитан Тарасов, когда перед окнами прошли шесть искусно подобранных коней, злато-гнедых, с мягкой лоснящейся шерстью, шелковистыми гривами, небольшой головой, маленькими ушками и большими, огневыми глазами.
Видно, и темперамент у коней был огневой, несмотря на усталость после долгого похода.
– В Туркестане, – рассказывал Тарасов, – аргамакам к обычному корму подмешивают бараний жир. Который кони едят охотно. Единственный недостаток чудесных скакунов – их высокая цена. Ах, если бы человеку было дано перед смертью хотя бы на один только год обладать таким конём. Какое это было бы счастье!
Во время нашей беседы вернулся Юзеф Хиршфельд с ещё несколькими мужчинами, которые окружающих приветствовали весьма сердечно, как давних добрых и привычных знакомых.
Хиршфельд позвал их к нам и представил по-русски:
– Мои приятели, грузины. И указал на нас:
– Мои братья, поляки.
Затем назвал имена грузинов и наши.
Молодые люди, с которыми нас познакомил хозяин, были одеты в чёрные суконные кафтаны, присборенные у пояса, опоясанные широкими наборными злато-серебряными ремнями, с которых свисали длинные кривые сабли.
На груди – богатые газыри, за поясом пистолеты и кинжалы с великолепной серебряной инкрустацией на рукоятках.
Большие бирюзовые, оправленные в золото заколки скрепляли воротники их белых сорочек. Чёрные башлыки из мягкой шерстяной ткани, слегка подвязанные под шеей, спадали им на плечи и на спину, нисколько не портя совершенного облика этих высоких, худощавых юношей, от которых веяло энергией, благородной сдержанностью и вместе с тем уверенностью в собственной силе и неустрашимой отваге.
Все они принадлежали к знатным грузинским фамилиям, подавленным и обедневшим после утраты Грузией независимости. Они получили высшее образование в лицее Ришелье в Одессе. И, хорошо зная французский, немецкий и русский языки, выбрали себе торговую карьеру, которая обеспечивала им личную свободу и, что ещё важнее, независимость политических убеждений.
Они много путешествовали и, как агентам богатых купцов, им не раз приходилось из какого-нибудь полудикого азиатского уголка попадать в цивилизованную Европу.
Между нами быстро установились сердечные отношения.
Polenuli[23], как нас уверяли юноши, пользовались большой симпатией у грузинов.
Хиршфельд угощал своих гостей по старопольским обычаям. Общая приязнь окутывала атмосферу юмора и весёлых розыгрышей.
Затем Зелинский басом, от которого сотрясались стены комнаты, запел:
Хватит, братья, в уголке сидеть, Ничего не слышать, Ничего не видеть, Давайте петь!..
– Конечно, конечно же, споём. Но первый номер концерта уступим грузинам, – сказал Хиршфельд.
И тут же один из юношей вышел. Но вскоре вернулся к нам. За ним слуги внесли большой, тяжёлый, окованный ящик из красной кожи.
Из него извлекли духовые музыкальные инструменты, видом похожие на кларнет.
Грузины сели в круг посреди комнаты и все пламенно сыграли кавказскую лезгинку.
Музыка эта была шумлива, в быстрейшем allegro[24], порывистая, как буря, как вихрь, околдовывающая, как исступление.
Прервалась она внезапно, как промчавшаяся буря, и сразу же, без всякого перерыва, без какой-либо даже самой короткой паузы, один из грузинов запел.
Текст песни (о котором мне потом рассказали) пересказывал унижения, перенесённые народом покорённой Грузии… Тенор Григория Руставолли был полон бесконечной печали.
Порой казалось, что этот дивный голос сорвётся, сломается в заглушённом рыдании… что певец разразится плачем – столько было в том голосе правдивого и искреннего отчаяния.
Аккомпаниаторы отлично подстраивались под голос певца.
Поистине, не услышав, трудно бы поверить, что с помощью такого простого инструмента, как кавказская зурна, можно передать столько мелодий, столько экспрессий.
– Непривычное дело, чтобы музы своими дарами оделяли тех, кто служит Меркурию. Пан, видно, является исключением, владея необычно чистым и звонким голосом, – сказал я Григорию Руставолли.
Он поклонился и, смеясь, ответил:
– Поляки от веку слыли образцом вежливости и приятности в обиходе. Поэт Георгий Эристави тоже об этом поминает. А вы слышали об Эристави?
– Стыжусь, но должен сознаться, что нет.
– А ведь он долгое время пребывал среди вас. Как писатель, в 1834 г. был изгнан и перевезён в Вильно. На счастье! Можно ему только позавидовать за такое место изгнания. Потом жил в Варшаве, где выучился польскому языку. Настолько, что воспользовался этим и перевёл на грузинский импровизации «Конрад и Крымские сонеты». Эти переводы познакомили меня с вашей культурой. Когда я учился в лицее Ришелье в Одессе, то привык уважать Адама Мицкевича. Там память об Адаме жива, там всё ещё цветёт его культ среди молодёжи. Там каждый юнец знает поэзию Мицкевича, может прочесть её по памяти.
– Неужели? Что в нашем крае всё происходит так же, это не удивительно.
– И в Одессе тоже. Там тоже много поляков… И каждый счастливый обладатель напечатанной поэзии Мицкевича вынужден прятать своё сокровище, как преступление, за которое карают очень сурово. Кроме того, поэзия Мицкевича кружит среди молодёжи в списках, отдельными страницами, вырванными из книг. Пару лет тому назад, я собирал эти вырванные страницы, как драгоценные жемчужины, так что мне удалось собрать целых два тома полностью. Я давно мечтал отблагодарить господина Юзефа Хиршфельда каким-нибудь подарком за его доброту, сердечность, гостеприимство. Сейчас я могу наконец предложить ему такой драгоценный подарок. Возьми, пан!
Он достал шёлковый мешочек, который носил спрятанным на груди, и из него вынул два томика. Я взглянул на них.
Это был «Пан Тадеуш», изданный в 1834 году. «Пан Тадеуш», составленный из тех самых страничек, что кружили среди молодёжи.
«Пан Тадеуш» переходил из рук в руки… Каждому хотелось увидеть эту книжку, состоящую из страничек, которые от постоянного многолетнего чтения пожелтели и несколько истрепались.
Каждому хотелось почтительно дотронуться до них, посмотреть на эту книжку хотя бы издалека…
Нам, ещё недавно прибывшим с Родины, это издание «Пана Тадеуша» было известно.
Потому мы тактично отошли в сторонку.
Казалось, от этой книжки в скромном сером переплёте исходит странное сияние, как от реликвария в оправе из драгоценных камней.
Профессор Жоховский взял книжку. Прижал к груди.
Поднял её вверх и преклонил перед ней свою седую голову.
Солнечные лучи, преломляясь в чистых стёклах мелких форточек, словно общим ореолом окружили древнего старца и запечатлённые в печати образы и мысли гениального поэта.
Наконец профессор Жоховский открыл книжку и дрожащим от волнения голосом начал читать:
Отчизна моя! Ты – как здоровье, Лишь тот тебя ценит, Кто тебя потерял.
После этих слов послышался стон.
И тут же из наших глаз полились «чистые и обильные слёзы», слёзы тоски о возлюбленной. о той, что от нас так далека. далека. далека.
И в комнате, где минутой ранее царил весёлый говор, сгустилась тишина.
Порой лишь слышались вздохи. Иногда – шёпот…
Отчизна моя! Ты – как здоровье, Лишь тот тебя ценит, Кто тебя потерял.
– Богуславский! Токаржевский! Жоховский! Господа! Прошу собираться! Время идти в острог, прошу покорно, поспешите! Чары разрушились.
Очаровательная мечта уплыла, развеялась, как сон, когда человека вдруг грубо разбудят.
Из экстаза вывел нас резкий жёсткий голос, который пытался казаться мягким и доброжелательным.
Это был голос прапорщика.
Он стоял на пороге в окружении четырёх солдат с заряжёнными карабинами на плечах.
Это была «свита», которая должна была сопутствовать нам, полякам, отверженным, и сопроводить нас обратно в тюрьму, в Семипалатинский острог.
Щедро угощённый Юзефом Хиршфельдом и задаренный им прапорщик был необычайно доброжелателен и вежлив.
Выкрикивая наши имена, имена преступников и каторжан, он не поскупился добавить: «господа» и «прошу покорно»…
Настало время расставанья.
С братьями-изгнанниками, с грузинами, с Никитой Николаевичем Тарасовым, со всеми окружающими. На прощанье долго и крепко обнимали друг друга.
Ничьи уста не смели сказать: «До свиданья!».
Ибо сердце разрывалось от смутного предчувствия, что не скоро мы сойдёмся и не встретимся таким кружком, полным сердечности.
«Пана Тадеуша» на прощание тоже приветствовали долгими и горячими поцелуями.
– Эти поляки… не пойму я их! Вот прочитали патриотическую книжку и, кажется, уже готовы в любую минуту кинуться в огонь, лететь на край света, угодить в тюрьму, пройти сквозь строй, идти на каторгу… Любопытно, хоть кто-нибудь из наших, для примера, ну!.. Радищев[25], допустим, хотел бы нарваться на такие беды?.. Странный народ эти поляки! Бог с ними! – вполголоса рассуждал сам с собой Тарасов, а прапорщику, повернувшись, скомандовал:
– Пошли вон! В сенях обождите! Я сам этих господ отведу в крепость.
Уже последние блики догорали на западе, когда мы после дня, полного впечатлений, проведённого в гостеприимном доме Юзефа Хиршфельда, вернулись в Семипалатинскую крепость.
По приказу капитана Тарасова, прапорщик с конвойными держались далеко позади. А сам Тарасов специально повёл нас через настоящий лабиринт улочек старого и нового Семипалатинска.
Движение было, в основном, в центре города, новые центральные кварталы были шумными, оживлёнными, особенно во время приезда купцов и привоза товаров.
Сейчас посреди серых низких домов, похожих на длинные каменные прямоугольники, мы встречали только приезжих, киргизов в мохнатых коричневых круглых бурнусах, азиатов с пограничья Персии в длинных плащах, с волосами и бородами, крашенными хной в рыжий цвет.
В этой тёмной пустоши мы не встретили ни одну женщину.
Зато часто встречали байгушов[26], с поблекшими, изнурёнными, тёмными лицами, в дырявых войлочных накидках.
Видно, они укрывались в этом старом квартале, неухоженном, убогом, отдалённом от центра города, а к ночи прятались в свои халупы.
При виде офицеров высшего чина и солдат, сопровождавших в острог за город трёх мужчин в арестантской одежде, убыстряли ход и боязливо скрывались за углами домов или ныряли в их тёмные недра.
Беседуя с Тарасовым и слушая его объяснения, мы бодро прошли двухверстовый путь от города до острога.
Перед тем как войти в крепость, я ещё раз обозрел город и его окрестности.
Барнаульский бор, исчезающий за далёким горизонтом, тянулся широкой линией, овеянный лёгкой фиолетовой дымкой.
В городе минареты вздымались ввысь рядом с круглыми византийскими куполами.
С минаретов мечетей муэдзины протяжным и каким-то сдавленным голосом выкрикивали:
– Хиллали! халлала! Илла ху! Алла ху! Аллах! Аллах!
Поскольку был сочельник по старому стилю, церковные звоны звали православных на вечерний молебен.
В городе уже горели фонари около чиновных зданий, зажгли свет и в домах.
Старинные руины во славе своего заката тихо лежали, будто в море крови.
«Was Hände bauten, können Hände stürzen.
Das Haus der Freiheit hat uns Gott gegründet»[27]…
– Что пан сказал? – спросил капитан Тарасов.
– Что сказал? Да так, ни с того ни с сего припомнил некое двустишие Шиллера, – ответил я. – Видите ли, Никита Николаевич, – Каминский, учитель немецкого языка в Щебжезинской школе, где я учился, был любителем и пламенным поклонником этого поэта. Мы, ученики, должны были учить наизусть целые долгие страницы из Шиллера… Как-то во время летних каникул с огромным успехом мы поставили на немецком языке, – представьте себе! – целый акт из Вильгельма Телля.
Успящей красавицы
Ярмарки в Минусинске во время первого моего изгнания в Сибирь были важным событием, имевшим огромное значение.
Обычно они начинались в мае, продолжались в июне, июле и кончались в сентябре, и могу сказать без преувеличения, что за эти пару месяцев через Минусинск проезжали и проходили многие, многие тысячи человек.
Кому требовалось завязать торговые связи с китайскими, а даже и с европейскими купцами, кому требовалось сделать какие-нибудь значительные закупки или кто просто хотел развлечься, увидеть всякие забавы, недоступные или просто незнакомые в иных местах Сибири, – тот во время ярмарки отправлялся в Минусинск, где можно было заключать с кочевниками буквально сказочно выгодные торговые операции, а если после этого душа просила «погулять», – была бы только щедрая рука и прежде всего хорошо набитый кошелёк.
Во время ярмарки жизнь и деятельность в Минусинске текли широким и бурным потоком.
Большие состояния, заботливо копившиеся в течение многих лет, не раз истаивали за пару часов в игорных заведениях.
И если такой экс-богач, проигравшийся до нитки, до последней рубашки, возвращался домой, не выпрашивая кусок хлеба на пропитание, то только благодаря щедрости соседей или родственников, с которыми из далёких окраин себе на погибель приехал в Минусинск на ярмарку.
О таких сгубивших своё состояние несчастливых игроках, о таких шулерах, богатевших одним взмахом карт, о разных подозрительных обстоятельствах, хитростях китайцев и саянцев, о разных изумительных происшествиях, вкупе с невиданной роскошью и заграничными чудесами, которые можно увидеть на такой ярмарке, я был наслышан и в Омске, и на Большом Участке.
Всё это часто служило богатой темой для пересудов во время семейных и соседских встреч. Не помню, чтоб эти рассказы вызывали во мне особое любопытство или разжигали острое желание поучаствовать в таких праздниках и увидеть ярмарочные дива, и потому я не очень обрадовался, когда как-то вечером мой начальник вломился ко мне в жилище с криком:
– Едем на ярмарку в Минусинск! Я и вы, Шимон Себастьянович, – идёт? Ну-с, конечно, вы согласны, правда?.
– Ну, – рассмеялся я, – должен быть согласен, раз вы так решили.
– Да, решил, решил, и сейчас мы распределим обязанности. Я добываю деньги, моя жена позаботится о еде и напитках, то есть о припасах на дорогу, а вы, пане, молодой человек, пакуете ваши одежки. Утром, чуть свет, айда! В дорогу! Вы так усердно и успешно работали всю зиму, что вам полагаются отдых и развлечения. Ну-с, и мне тоже. Жалеть не будем ни рублей, ни копеек. Развлечёмся, погуляем… А уж чудеса увидите, пан молодой человек!
Он радостно захохотал во всё горло, похлопал себя по бёдрам, а меня, по-приятельски, по плечам и, чуть не облизываясь и кивая головой, повторял:
– Чудеса! Чудеса! Сами увидите, пан, молодой человек!
Представление о развлечениях у меня и Светилкина сильно разнились и перспектива развлечений и «гулянки» с ним в его компании, хоть и не радовала, но и не претила мне, учитывая его благие намерения, притом не хотелось его обижать, так что я смолчал и сразу же занялся приготовлением в путь.
Минусинский округ, занимающий примерно две тысячи квадратных миль, представляет собой одну из живописнейших частей Сибири.
Поскольку по дороге через эти живописные окрестности я ехал уже не впервые, она не показалась мне ни слишком долгой, ни утомительной.
Когда я впервые попал в этот край, кроме урядников в самом Минусинске, и во всей этой огромной части Енисейской губернии вообще было мало россиян, не считая, конечно, войска.
Немного было и крестьян, оседлых и ведущих хозяйство на земле, – много политических заключённых и разных российских народностей, подвластных России, немало экс-каторжников, осуждённых на пожизненное поселение, а в остальном, преимущественную часть населения составляли кочевые племена.
Из глубин девственных, мрачных пущей, где они занимаются охотой, а кое-где рыболовством, из цветущих долин и заросших буйными травами пастбищ, где бытуют стада скота и табуны коней, тянулись кочевники со своими жёнами, детьми, со всей своей скотиной и передвижным скарбом.
Вокруг города они разместились в юртах из древесной коры или из заранее заготовленных звериных шкур.
Так они образовали посады, что служили наглядным образцом способа жизни и обычаев в древней доисторической эпохе.
Всё это для цивилизованного европейца казалось оригинальным и необыкновенно интересным. Это был настоящий неисчерпаемый кладезь для этнографического изучения.
Мой начальник Светилкин придерживался порядков, заведённых в его доме, с той только разницей, что теперь он направо и налево широкой рукой и с лёгким сердцем швырял уже не копейки и даже не рубли, а сотни рублей, к своему собственному удовольствию и к радости своих ублаготворённых компаньонов, целый штаб коих пристал к нам сразу по приезде в Минусинск.
Когда Светилкин понял наконец что все его усилия втянуть меня в круг его знакомств и в мир излюбленных городских развлечений и забав тщетны и таковыми останутся впредь, он предоставил мне полную свободу распоряжаться собой и своим временем.
Осчастливленный подобной свободой мысли и действий, я с утра до вечера бродил вдоль и поперёк, с одного конца Минусинска до другого и по ближайшим его околицам.
Необыкновенно занимала меня разнородность типов рас, обычаев, языков и диалектов людей, с которыми я мог встречаться; а ещё – мозаичное разнообразие и пестрота одежд, украшений, упряжек, огромное обилие разных видов чая, шёлковых тканей[28], мехов, китайского фарфора и не поддающихся пересказу видов и сортов товаров.
В южной стороне Минусинска на пастбищах усердные и работящие китайцы на время ярмарки построили временный городок, который выглядел так, как будто его перенесли без всяких изменений в Минусинск прямо из Небесной Империи с берегов Хуанхэ или Янцзы.
Маленькие домики с фантастично изогнутыми крышами встали среди миниатюрных огородов, полных золотистых дынь, тыкв, светло-зелёных огурцов, салата со свежими кудрявыми листьями, серебристых крупнолиственных трав и разноцветных, чудесно расцветших маков, которые колыхались на тонких, гибких, высоких стеблях.
Как бы в дополнение к экзотической картине, по-за маленькими домиками, на взгорке, возвышалась маленькая пагода с фарфоровой крышей и прекрасные башенки.
За живыми изгородями огородов мелькали сапфировые шёлковые богато расшитые курмы[29]косооких красавиц, а их мужья и отцы прохаживались по улочкам, выложенным мелкими каменными плитками.
Одетые в длинные шёлковые халаты, в чёрных шляпах, завязанных под подбородком жёлтыми лентами, или в лёгких совершенно плоских шапочках, мастерски сплетённых из рисовой соломки, с длинными спадающими на плечи косами, обутые в жёлтые или красные башмаки с загнутыми кверху носками, косоокие мужчины ходили степенно, молчаливо, будто погружённые в важные размышления.
По реке, словно проворные ласточки, сновали джонки[30], доставляющие грузы товаров к кораблям, что плыли по Енисею.
Средину улицы занимали обычные ослики, арбы[31], которые везли джонерикши[32], довозившие в Минусинск товары, что заполняли китайские магазины и склады.
Временами в этой толкотне, искусно лавируя, появлялся паланкин какого-нибудь китайского вельможи или знатной дамы-китаянки.
Теснота, крики, разноязычный говор, словно на каком-нибудь всесветном торжище, царили в этом временном китайском городке с первыми лучами рано утром и стихали только с заходом солнца.
Как-то привлёк моё внимание человек, который в этой цветастой и пёстрой толпе выделялся совершенно особым и отличным от всех видом.
Высокий, крепко сложённый, с длинной, белой как молоко, бородой.
На голове он носил шапку, так называемую баторовку, с чёрными завязками по бокам. Одет он был в капот из серого грубого сукна, похожий по крою на свитки литовских мужиков.
Я сразу же понял, что этот человек не Россиянин, не уроженец Сибири и тем более не из оседлых кочевников.
Так кто же он?
Возможно, политический ссыльный? – Ах! А вдруг он поляк, – подумал я и тут же решил утвердиться в своих предположениях и обратился к нему по-польски.
Однако было легче принять такое решение, нежели его выполнить.
Обладатель баторувки и серой свитки превратился для меня в неуловимый призрак. То приближался ко мне, был, только что был тут. тут. то исчезал с глаз долой, терялся среди разномастной толпы, то снова над толпой высилась его красивая голова, и я вот-вот. догонял его, именно догонял, пока с запруженных улочек не перешли на тропинку средь поляны, засаженной кукурузой и чумизой[33].
Несколько лиственниц среди деревьев, деревянный домик – вот куда устремлён был обладатель шапочки-баторувки.
Очевидно, это была его усадьба, о чём нетрудно было догадаться – так гармонично подходила хатка и её окружение к чертам и всему облику этого человека.
Он отворил запертые двери, толкнул сильно рукой, оставил открытыми настежь и вошёл.
За ним в тёмную маленькую комнатку проникали полосы солнечного света… Он открыл окно с небольшими створками и выглянул наружу. Сорвал пару подсолнухов, что росли перед домишкой, повернув свои золотые головки к солнцу, сорвал несколько стебельков резеды и настурций, которые росли в маленьком садике близ стены, а потом исчез в избе.
Тем временем я медленно приблизился, придумывая, как обратиться к этому полуземляку, которого случайно встретил в другой части света, за тысячи миль от Отчизны.
Пока я стоял так в раздумье, из домика послышалась песня:
С жаворонками взялись до работы, Спать пойдём на вечерней зорьке, Но и в гробах мы всегда скитальцы И всего лишь божья рать.
Кто раз присягнул Господу Христу И шёл к Святому краю без неволи, Тот из глубин[34] хоть тёмного кургана Подымется на трубный глас.
Теперь я уже не сомневался… хозяин или, может, жилец этого древнего домика был поляком – был политическим преступником, как и я, и так же, как и я, был поселенцем.
Сейчас уже нечего было раздумывать, сочинять в уме приветственный диалог, я сделал шаг…
Вошёл.
Мой любопытный взор мигом оглядел избу.
Скарб в ней был самый простой, деревянный: два стула, два стола, полочка с нехитрой кухонной утварью, другая – с несколькими старыми книжками. На одной стене висела двустволка, два смычка, скрипка, похоже, сработанная в этом же доме… Над кроватью Распятие, Образы Остробрамской и Ченстоховской Божией Матери.
С потолка свисали большие и малые связки пахучих засушенных трав.
От каждого угла этой избы веяло убогостью, но, одновременно, чистотой, симметрией, порядком…
Единственным предметом «излишества» здесь была большая и роскошная китайская ваза, в которой красовались свежесорванные подсолнухи, резеда и настурции.
Когда я вошёл, хозяин как раз разжигал огонь в печи.
– Хвала Иисусу Христу! – сказал я, обнажая голову, и остановился на пороге.
Хозяин быстро обернулся.








