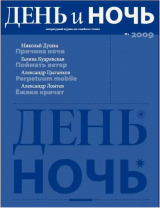
Текст книги "День и ночь, 2009 № 05–06"
Автор книги: Михаил Лермонтов
Соавторы: Яков Полонский,Валентин Курбатов,Александр Щербаков,Эдуард Русаков,Николай Переяслов,Наталья Данилова,Зинаида Кузнецова,Владимир Алейников,Оскар Уайлд,Константин Кравцов
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
– Может, декан ему и не звонил? – спросила Островского Жукова.
– Да нет, звонил, родители с ним давно знакомы, зачем ему врать. Правда, может, деньги ещё не передал, я же у Лощинина про это не спрашивал, – с неохотой ответил Островский.
– С бюджетного места тебя за три пересдачи бы уже отчислили. Ты хоть определения выучи, не до конца же тебя тупость одолела, – немного презрительно улыбнулась молодому человеку Жукова, про себя уверенная как раз в обратном.
– Придётся, наверное, – угрюмо ответил тот. Прошёл Татьянин день и студенческий бал, и у Жуковой появился очередной поклонник в дополнение к остальным. Свободного времени у неё не было, и всё-таки Жукова не оставила своего старого замысла немного развлечься и поболтать с Лощининым. Не то чтобы она была злопамятна. Скорее, она обладала другими свойствами – способностью к неожиданным поступкам, последовательностью и любопытством.
Если бы нашёлся тот, кто сказал бы ей, что эти свойства, взятые в комбинации, могут приводить к изрядной жестокости, Жукова бы рассмеялась моралисту в лицо.
Закончилась первая неделя февраля, и Лощинин в очередной раз принял оставшихся двоечников. С некоторых пор он старался не оставаться с очередным двоечником с глазу на глаз, предпочитая, чтобы его вопросы и ответы студента слышали бы и другие пересдающие экзамен. Так было и на этот раз; причём Островский, к удивлению Лощинина, всё же ответил на три простых вопроса из пяти, за что и был вознаграждён положительной оценкой.
Когда профессор вышел из аудитории в коридор, его там уже ждала Жукова.
– Владимир Алексеевич, а можно пригласить вас на чашку кофе? – с нежностью в голосе спросила Лощинина красивая девушка, на которую в ипостаси собеседника за кофе он посмотрел первый раз. Профессор удивился, однако учебной нагрузки на сегодня не предвиделось, семестр в других вузах начинался только со следующей недели, и ему некуда было спешить. Он внимательно посмотрел на Жукову, но не заподозрил ничего дурного.
– Что ж, почему бы и нет.
Когда они вышли из здания Академии и пошли по улице, Жукова взяла профессора под руку. Лощинин удивился ещё сильнее и сказал:
– Жукова, я ещё не настолько одряхлел.
– Что вы, Владимир Алексеевич, это я хочу за вас подержаться; здесь так скользко… – Жукова смотрела ему прямо в глаза и улыбалась.
Петербургские улицы в феврале приобретают специфическое покрытие под совместным влиянием воды, мороза, песка и различных химических ингредиентов, разбрасываемых дорожными службами. Идти по улице можно только танцевальным скользящим шагом, которому коренные жители обучаются с детства. Периодически студентка ойкала и висла у профессора на руке, прижимаясь корпусом так, что он был вынужден её ловить. Она с удивлением обнаружила, что у её спутника сильные руки и что ей это приятно.
– О чём вы хотели со мной поговорить? – спросил Лощинин, когда они уселись в кофейне и сделали заказ.
– Видите ли… вы мне нравитесь, профессор, – произнося эту фразу, Жукова то опускала, то поднимала глаза и усиленно хлопала ресницами.
«Они совсем обалдели, что ли», – безрадостно подумал о молодых девушках Лощинин. Вслух он, однако, произнёс нейтрально-уточняющее:
– В смысле?
«Вот же гад», – ласково подумала про профессора Жукова. «Другие на его месте уже подпрыгивали бы от счастья, а этот. избалованный», – и она пошла ва-банк:
– Во всех смыслах.
Лощинин мрачно посмотрел на неё и ответил:
– Если во всех смыслах, то тогда вы меня определённо пугаете, Жукова. Давайте сосредоточимся на чём-то одном или прекратим этот странный разговор.
– Я хочу в магистратуру, а потом и в аспирантуру – но именно к вам.
– Магистратура, а тем более аспирантура предполагают наличие эрудиции, желания думать и решать нестандартные задачи, а наша академия сейчас превратилась в профессионально-техническое училище. Я не имею в виду ничего плохого – мы выпускаем квалифицированных бухгалтеров, финансистов, менеджеров, даём им специальные навыки для работы на предприятии. Но базовые курсы, связанные с теорией, историей, философией, математической статистикой у нас читаются из рук вон плохо, да студенты и не понимают, зачем они нужны. По гамбургскому счёту, у нас в целом уже нет образования и науки, остались только просвещение и ремёсла. Вам, если вы серьёзно хотите учиться, надо в Москву, Елена. как вас по батюшке?
– Васильевна, но можно просто Лена.
– Так вот, Елена Васильевна, я могу дать рекомендацию в Московскую экономическую академию к профессору Татарникову. Думаю, он вас возьмёт.
– В Москву я не хочу. Я хочу к вам.
– Это я уже слышал. Но пока не понимаю причину. Что из моих работ вы читали?
Жукова покраснела, так как лощининских работ не читала вовсе: ей это просто не приходило в голову. Она смутилась. Лощинин спокойно смотрел на неё и отхлёбывал кофе. После паузы он сказал:
– Понятно. Ничего не читали. Так прочтите, вы же не знаете, чем я занимаюсь. Возможно, это будет вам совсем не нужно и не интересно.
– А если прочту, и будет интересно… к вам на диплом можно будет попасть?
– Можно, – наконец дёрнул брылями Лощинин.
– Я всё прочту, – сообщила профессору Жукова. Потом помолчала, похлопотала лицом, помялась, и сказала:
– Можно спросить?
– Спрашивайте, – расслабился Лощинин.
– Владимир Алексеевич, а почему вы Островскому тройку поставили?
– Потому что он на вопросы ответил.
– Я тут с сокурсниками поругалась, они говорят, что вам за оценки платят. Через деканат.
Лощинин внешне остался спокойным.
– Мне деканат ничего не платил, всё, что я в академии получаю, идёт через бухгалтерию. Островский же сдавал и сдал экзамен в компании других студентов, так что у его ответа есть свидетели. А на что вам сдался этот двоечник?
– Мы с ним дружим. Он сказал, что родители декану платили за ваш экзамен. А я ему ответила, что вы наверняка даже не в курсе.
– Вы с Островским могли бы это написать… скажем, ректору – и поставить свои подписи?
– Я с ним поговорю, но – вряд ли. У Островского же не только с вашим предметом были проблемы…
– Понимаю, – тихо сказал Лощинин. Потом помолчал и добавил – Неприятно, однако.
Жукова внутренне торжествовала. Лощинин заплатил за кофе, а когда она стала протестовать и пытаться доставать деньги, сказал:
– В следующий раз заплатите вы.
Жукова логично рассудила: из этого следует, что у них будет по крайней мере ещё одно личное свидание. Она уже знала, что профессор живёт один. У неё не было насчёт него каких-то определённых планов, но – кто знает, что может получиться? В целом она осталась довольна собой и проведённым разговором.
А Лощинин дома долго думал над этим разговором и решил, что Жукова ему не врала. «И ведь правда поди говорят, что я взяточник. И ничего с этим не сделаешь – не идти же с этим в деканат», – думал Лощинин, глядя в светящийся экран ноутбука. Было противно, ни спать, ни писать, ни считать не моглось. Профессор нашёл в своём компьютере записи Александра Вертинского, полез в холодильник, достал бутылку водки, очередную банку маринованных огурцов и сделанные в Латвии шпроты. Посмотрел на шпроты, поставил их обратно в холодильник и достал колбасу, решив, что шпроты он оставит к шампанскому, которое с Нового года стояло у него в холодильнике. Может, когда-нибудь к нему зайдёт в гости дама, которую он угостит этим набором. И зачем он купил шампанское, шпроты и конфеты месяц назад? Теперь он уже не мог ответить себе на этот вопрос. Тем более что конфеты он съел.
Защита у Мельниковой в Новосибирске прошла гладко. Из-за новогодних праздников и последующих каникул совет долго не собирался, поэтому в тот день было назначено три защиты; Анна шла второй в очереди. Председатель постарался ограничить вопросы, в дискуссии для порядка выступил один человек, и вся процедура уложилась в полтора часа. Когда всё кончилось, Мельникова повторила старую остроту – «один час позора, зато потом кандидат наук на всю жизнь». Но в этот раз диссертацию только хвалили наряду с самой аспиранткой. И Анна мысленно благодарила Лощинина.
После этого она собралась отвезти документы и диссертацию в ВАК, в Москву, а заодно заехать и в Петербург. Её стали немного тяготить отношения с Белкиным, который часто звонил со своего квартирного телефона ей на мобильный, спрашивая, в лучших традициях голливудских эротических мелодрам, какое на ней в данный момент надето бельё. Она не отвечала на мейлы с цитатами из стихов Высоцкого, Цветаевой и Шекспира в переводе Маршака (этих она идентифицировала) и других поэтов (которых она не могла узнать, но подозревала, что это были тексты самого Белкина). С другой стороны, в памяти занозой сидел и Лощинин, воспоминания о котором сразу же вызывали у Анны приступы нежности и жалости. Петербургский узел нужно было развязывать, и она настроилась произносить разные твёрдые и решительные слова.
Приехав на свидание с Белкиным, Мельникова решила, что ей нужно сохранить необходимое чувство дистанции, при котором мужчина остаётся на поводке, однако его скулёж уже не слышен хозяйке. Ей самой понравилось это сравнение, она улыбнулась и тут же решила, что никогда не произнесёт его вслух, даже в женской компании, или тем более – в женской компании, которая не преминёт сделать его достоянием мужской общественности.
Был слякотный мартовский вечер. Андрей и Анна встретились в Екатерининском садике в восемь и пошли танцевать, решив сохранить мимолётную традицию своих свиданий. В квартире доцента они оказались только в час ночи и сразу же принялись целоваться.
Около семи, когда свеча на ночном столике недалеко от дивана погасла, Анна проснулась от неожиданно захрапевшего во сне Белкина. Она встала с постели, накинула мужской банный махровый халат и пошла на кухню, плотно прикрыла дверь, стараясь не шуметь, зажгла свет в вытяжке над плитой и засыпала кофе в кофеварку. Потом, потягиваясь, подняла плечи и сунула руки в карман халата.
В правом кармане обнаружился некий предмет. Она автоматически достала его. Это оказалась пустая коробка из-под презервативов, в которой, если верить надписи, их было когда-то пять штук. Анна прищурилась, вспоминая – сегодня ими был использован только один, и Белкин достал его из недр ночного столика, а не из кармана халата. «Похоже, Андрей Михайлович ведёт бурную личную жизнь», – подумала она, и образ трогательного скулящего щенка исчез из её памяти.
К запаху кофе примешивался ещё какой-то запах, который неприятно тревожил Анну, – где-то сладко пахло лилиями, а она очень не любила этот запах. Она подняла воротник халата и повернула голову. Пахло от воротника. Тяжёлые женские французские духи «Гипноз», определила Анна и опустила воротник.
Она почувствовала, что проголодалась, полезла в холодильник и, осматриваясь, обнаружила ещё одно подтверждение своим выводам: на боковой полке, среди таблеток активированного угля, «Спазмалгона» и «Алказельцера» лежала пара упаковок «Виагры». Тут ей стало немного жалко философа: похоже, он отнюдь не был уверен в своей мужской силе. Анна улыбнулась своим мыслям, взяла сыр и закрыла холодильник.
Белкин проснулся от шума воды в ванной, посмотрел на часы – была половина восьмого утра. «Вот же ведь здоровье у сибирских девушек», – подумал он и повернулся на другой бок: он решил, что после душа Анна вернётся к нему под одеяло. В следующий раз он проснулся оттого, что кто-то дёрнул его за нос. Открыв глаза, он увидел Мельникову, которая стояла перед ним в лёгкой дублёнке и зимних сапогах, собираясь уходить.
– Доброе утро, философ. Вас ждут великие дела, а мне пора идти. Я уже выпила кофе и съела твой сыр. Спасибо за всё.
Спросонья Белкин плохо соображал, что делать и говорить. Он спросил:
– Мы ещё увидимся?
– Если захочешь, – ответила Анна и ушла. Белкину нужно было закрыть за ней входную дверь, поэтому он решил встать. Но халата рядом с диваном он не обнаружил, поэтому пошёл в коридор голым. Запер дверь, обнаружил халат, который висел здесь же на вешалке, надел его, посмотрел на себя, всклокоченного, в зеркало стенного шкафа и засунул руки в карманы халата точно таким же движением, как это сделала Анна два часа назад. Наткнулся на упаковку из-под презервативов, достал, хмыкнул: «Неудобно получилось». Потом подумал, улыбнулся-фыркнул и решил: «Позвоню завтра. Интересно, что она скажет».
Жукова забрала свои конспекты у Островского.
– Вроде они тебе помогли?
– Ага.
– Мог бы и спасибо сказать.
– Спасибо.
– Так Лощинин брал деньги или нет?
– Откуда я знаю, я же свечку не держал при передаче.
– Если брал, как твои родители говорят, так чего же зачёт сразу не поставил?
– Так они же все уроды моральные, преподы. Им денег мало, надо себя показать, власть свою ощутить над человеком. Вот и выдрючиваются. Нормальные люди все бизнесом занимаются, а эти же не умеют деньги зарабатывать, вот и сидят здесь в вузах. Нищета. Это же полный отстой, чему у них научиться-то можно?
– Если ты такой умный, то чего здесь на платном паришься? Ехал бы куда-нибудь в Сорбонну, – последнее слово Жукова произнесла с четырьмя «н» в конце вместо двух, – или Кембридж, – в названии английского города «е» у Жуковой прозвучало как «э».
– Здесь я потому, что мне диплом нужен для дальнейшей жизни. А за рубеж пока не еду по причине развития ихней ксенофобии.
– Чиво?? – спросила Жукова, округлив глаза.
– Ксенофобии. Не любят они там русских, лягушатники праворульные.
Анна позвонила Лощинину в тот же день, когда ушла от Белкина.
– Можно приехать к тебе?
– Нельзя. Это будет неправильно по отношению к Андрею.
– Ты зря волнуешься. У нас с ним ничего нет.
– Поссорились?
– Типа того.
– Ладно.
– Что ладно?
– Приезжай после шести. Я буду дома.
Анна купила бутылку французского коньяка и коробку конфет и принесла их в гостиницу. Приняла душ. Достала из потайного отделения кейса, в котором возила ноутбук и свои бумаги, связанные с диссертацией, сто восемьдесят тысяч рублей пятитысячными купюрами. Упаковала их в конверт, перевязав резинкой. Написала записку: «Если ты передумаешь, я тебя жду. Анна». Положила в конверт. Обнаружила, что на её сапогах выступила соль. Она её отчистила. Обработала ногти. Занялась своим туалетом.
Когда Анна была уже готова, она ещё раз взяла конверт, вынула записку, перечитала и порвала её. «Детство какое». Потом подумала и положила в безразмерную дамскую сумочку полиэтиленовый пакет с шёлковым халатиком. Подумала ещё раз – и выложила. Пошла к двери. Остановилась. Вернулась. «Чёрт побери». И опять положила халатик в сумочку.
Лощинин проводил её в свою комнату, достал из холодильника банку шпрот, задумался и спросил:
– Анна, а вы шампанского не хотите?
– Нет, Владимир Алексеевич. Я шампанское не люблю.
Лощинин вздохнул, достал сыр, колбасу и пару яблок. Порезал всё на ломтики и кусочки, поставил на стол. Открыл коньяк. Подумал ещё и всё-таки открыл шпроты. Достал хлеб и пару рюмок. Наконец взял коробку конфет, которую принесла Анна, открыл и её.
– Смотрите, какой у нас с вами богатый стол получился. Будем пировать и праздновать, а ты мне всё-всё расскажешь. Как там защита прошла?
– Успешно, – Анна пустилась в недолгий рассказ о своих учёных обстоятельствах.
– А что у вас с Белкиным? – и Лощинин, и Анна отчего-то чувствовали себя неловко и постоянно переходили с «ты» на «вы» и обратно.
– Примерно то же самое, что у вас со мной. У меня с ним нет будущего. Наверное, он слишком для меня хорош.
– Это как прикажешь понимать? Что ты для меня слишком хороша или наоборот? – попытался пошутить Лощинин.
– Он такой же, как я, только старше, умнее. Он знает, чего я хочу, и старается мне угодить. С ним – удобно.
– Вот и прекрасно. Выходи за него замуж и переезжай в Питер.
– Мне с ним не только удобно, но и скучно. Когда меня не будет рядом, у него будут другие женщины. А когда его не будет рядом, у меня будут другие мужчины. И это – тоже скучно.
– А я?
– А ты… кипятишь мне кровь, – Анна встала, обошла стол и села профессору на колени. – Я никогда не знаю, что ты мне скажешь дальше, как ты поступишь. Тебя я люблю, а его – нет. Да и Андрей не любит меня. Хотя мы говорим с ним все нужные слова, но оба в них не верим. Так что ты прав, сейчас на дворе другая эпоха.
Их вечер продолжался, постепенно переходя в ночь. Анна тихо порадовалась, надевая свой халатик. Похвалила она себя и за то, что купила литровую бутылку коньяка, а не пол-литровую. Лощинин продолжал потихоньку пить, перемежая коньяк и кофе, и их странный разговор всё продолжался и продолжался. Нервы Анны были напряжены, и ей тоже требовался коньяк. Ей, как и большинству людей, ведущих здоровый образ жизни, казалось, что она только слегка под хмельком и что коньяк её бодрит. Она пила наравне с профессором.
– Помнишь, ты говорил, что сейчас время действий? – спросила профессора Анна, лаская лощининскую шевелюру, касаясь его лба и щёк. – Я звала Белкина на Новый год кататься на лыжах в Шерегеш. Потом приглашала его к себе на защиту. Он не приехал. Понимаешь?
– Понимаю.
– Я люблю тебя. А ты меня любишь?
– Да.
– Больше жизни?
– О да. Значительно больше.
– Тогда давай жить вместе. – Анна отхлебнула довольно большой глоток коньяка. – Переезжай ко мне. У меня там сосны. и небо. Высокое небо в соснах. А тут оно низкое – и всё в проводах.
– Не могу. Там Лёша Шведов и моя официальная жена.
– Тогда я перееду к тебе. Сюда. Ты же меня не прогонишь?
– Не прогоню. Только эта комната не моя. И это – не мой дом. Может, подождёшь чуть-чуть?
– Чего? Ты того и гляди помрёшь скоро. Так Татарников сказал.
– Что за мысли… вроде бы у тебя не было причин жаловаться на моё здоровье этой ночью.
– Или я влюблюсь в кого-нибудь. Тебя ведь можно возненавидеть. Ты это знаешь?
– Знаю.
– У тебя другой такой не будет.
– Это уж точно.
Анна заснула. Усталость наконец взяла своё. Лощинин погасил настольную лампу, служившую им вместо ночника, убрал со стола, почистил зубы и долго сидел, глядя на девушку, спавшую в его постели. Потом убрал коньяк в шкаф, прилёг с краю, попробовал обнять Анну, но под его пальцы попала молодая упругая грудь, и он отдёрнул руку, будто обжёгся. «Так не пойдёт», – решил он про себя, достал запасной комплект белья, приспособил свою куртку вместо подушки и улёгся рядом с тесным диваном. И всё равно ещё долго лежал без сна. Видимо, профессор выпил слишком много кофе.
На следующий день Лощинин провёл очередные пары и успел на Миллионную как раз тогда, когда Анна уже собралась уходить из гостиницы. Когда бывшая аспирантка увидела профессора, на её глаза навернулись слёзы.
– Я всегда хотела, чтобы ты встречал и провожал меня.
– Наконец у меня это получилось, – улыбнулся Лощинин.
– Слишком поздно. Сейчас не нужно, иначе я буду плакать, а я не хочу, чтобы ты запомнил меня такой.
– Хорошо.
– Я там тебе кое-что оставила, у тебя в комнате. Под бутылкой коньяка, в книжном шкафу.
– Хорошо, – продолжал тупить Лощинин.
– Теперь я тебе ничего не должна. Поцелуй меня. Уже поздно, такси ждёт.
И он наконец поцеловал Анну. Это был долгий, страстный поцелуй. И ещё это был первый раз, как потом вспоминал Лощинин, когда он наконец по-настоящему поцеловал Анну на публике.
У себя в комнате он нашёл конверт с деньгами. «Ещё и альфонсом сделала», – уныло подумал Лощинин. Он налил себе сто пятьдесят коньяку в стакан – бокалов-тюльпанов у него не было, взял оставшиеся конфеты и включил телевизор. «А вот теперь хорошо бы умереть», – мелькнула мысль. Он выпил стакан залпом, закусил конфетами, посмотрел на экран, дожидаясь, пока придёт опьянение, потом выключил телевизор, быстро разделся и лёг в постель. Подушка пахла духами Анны – почувствовал, проваливаясь в сон, профессор. Он заплакал от жалости к себе и заснул.
Весна раздевает любой город, перед тем как помыть и одеть его снова, – и он становится грязным, угловатым и беззащитным. Петербург не исключение – в начале апреля почки деревьев ещё не распустились, зато сошла штукатурка с части старых домов. а в воздухе смешиваются пыль и вода. Сверху то и дело начинает падать то ли снег, то ли дождь. Для того чтобы в этом времени почувствовать будущее пробуждение парадного, зелёного и золотого, тёплого и солнечного Петербурга белых ночей, нужно его очень сильно любить.
Но днём в начале апреля иногда уже припекает солнце, и раскрываются зонтики, под которыми располагаются перекусить туристы. В Екатерининском и в Потёмкинском садах уже подолгу сидят шахматисты, играющие блиц, а на Елагином острове папы и мамы гуляют с детьми и смотрят на уток, белок и оленей. Тиньковские пивоварни на Казанской наращивают объёмы. Скоро вверх по Неве пойдёт корюшка, на улицах запахнет свежим огурцом и начнётся столпотворение рыболовов на набережных и мостах.
У Лощинина после долгого перерыва вышла статья в хорошем журнале. Он приятно удивился и обрадовался тому, что его тихие зимние упражнения вдруг принесли какой-то результат. Лощинин зашёл за Белкиным на кафедру философии, подписал приятелю оттиск своей статьи, и они двинулись в заведение «Толстый фраер», в котором когда-то облюбовали красное пиво из местной же пивоварни.
В пивной висели плакаты, иллюстрирующие отдых трудящихся и тунеядцев в годы застоя СССР. Под потолком на растяжке висела фигура, изображавшая персонаж, в честь которого называлось пивная. Лощинин и Белкин выпили по кружке за традиции и преемственность, закусив чесночными гренками.
– Встречаетесь ли вы с Анной? – спросил Лощинин. – Не собирается ли она в Петербург? Мне бы надо её повидать.
– Похоже, она на меня немного обиделась, – ответил Белкин. – А я ей такие письма писал, приятно вспомнить. Сам от себя не ожидал. С цитатами. Но когда я ей в последний раз звонил, в марте, она сказала, что нам более незачем видеться, поскольку я её в Петербург не зову и сам в Сибирь не собираюсь.
– То есть она имела в отношении вас матримониальные намерения? – дёрнув брылями, расплылся в улыбке Лощинин.
– Этого я как раз и не понял. Во всяком случае, она ни разу мне об этом не говорила, а я действительно ей ничего не предлагал. Хотя, Владимир Алексеевич, теперь я задним числом осознал, что был влюблён и счастлив, а сейчас всё ещё влюблён и несчастен.
– Душевные страдания способствуют философическим настроениям.
– Этим остаётся утешаться. Перефразируя древних римлян и их авгуров, если Анна меня любила, что возможно, или не любила, что вероятно, пусть и то и другое было бы ей только на пользу, даже если сама она не видит никакой пользы во всей этой истории.
– Хорошо сказано, – Лощинин отсалютовал пивной кружкой товарищу. – У меня тоже интересный сюжет в этом году вышел. Со студентами. – И профессор пересказал Белкину свой февральский разговор с Жуковой.
– Непросто студентам с вами, уважаемый профессор. Ваше существование искажает их картину мира.
Лощинин вопросительно поднял брови.
– Ситуация-то, видите, какая: к вам даже обратиться с предложением взять деньги боятся. Поэтому действуют через деканат. Мешаете вы трогательной гармонии интересов студентов и преподавателей. Двойки можно ставить, но чтобы потом ещё и деньги не брать за пересдачу. Вы и подарки поди не берёте? Скажем, три бутылки коньяка «Хеннесси VSOP» или там сотовый телефон?
– Не беру. Раньше предлагали, теперь, впрочем, уже и не предлагают.
– Видите. Так чего вы, собственно, от них хотите?
– Как чего? Знаний.
– Неправильный ответ. Они считают, что знают достаточно и больше им не надо, вы считаете, что они не знают. Здесь нет почвы для компромисса. А ещё чего-нибудь хотите?
– Ничего. – Лощинин потряс головой, подумал. – Хотя… нет, может быть, всё-таки хочу немного уважения.
– Вот. И это – самое страшное. Вы хотите от молодых людей того, чего они в принципе не могут понять.
Они заказали шашлыки и ещё пива.
– Вы меня смутили, – сказал профессор, отпив из кружки. – Я полагал, что дело во мне как мастодонте из другой эпохи, а молодёжь. как всегда, молодёжь. Может, только более свободная – во всех смыслах свободы. И всё.
– Вы требуете от них невозможного. Уважение к человеку возникает тогда, когда другой может его понять, оценить то, что он сделал. В противном случае вместо уважения может быть только страх, смешанный с ненавистью, если этот другой их сильнее, или презрением, когда другой – слабее, но может доставить неожиданные неприятности. Вы же их пугаете. Вы им слова непонятные говорите, что само по себе неприятно, а им нужно терпеть. С другой стороны, ещё и денег не берёте. Брали бы – так вас бы боялись и презирали. А так – как с вами обращаться? Вы, Владимир Алексеевич, для студентов – стихийное бедствие. Никакого от вас спасения.
– Гиперболизируете, прямо как инженер Гарин из детского романа Алексея Толстого. Какое стихийное бедствие? Тупо зазубрили и сдали. И через две недели забыли.
– Могу вас утешить – запоминают студенты вас надолго, как пожар или наводнение. Вы остаётесь одним из самых ярких воспоминаний об учёбе в нашей академии.
– Хоть это и сомнительный комплимент, но приятно слышать.
И они выпили пива за приятность сомнений.
– Однако в этом что-то есть, экзистенция какая-то, – задумчиво продолжил Лощинин. – Солнце, пиво… не за горами лето, которое, как известно, маленькая жизнь. И я до всего этого дожил, так и не прибившись ни к какому берегу.
Хотя Татарников, который как раз мне и напоминает вот этого доброго толстого фраера под потолком, тоже прав, выдвигая тезис о невозможности существования одиноких бродячих профессоров.
– Всё так и должно быть.
– Вы говорите парадоксами. У меня как раз это «всё» не сочетается с понятием «моя жизнь».
– Правильно. Это и есть гиперреализм, как я его понимаю, – задумчиво сказал Белкин и погрустнел. – Говоря банальностями, самая красивая женщина может отдать вам только то, что у неё есть.
– Само собой.
– Однако даже самый умный мужчина может взять только то, что он чувствует. Понимаете? Только то, что у него есть внутри. В противном случае он не поймёт, что ему отдают.
– Это. это не банально.
– Понимаете? Иначе вы будете играть в шахматы, а с вами играют в поддавки. Оттого-то вы и чувствуете солнце, вкус пива, ожидание лета, что не прибились ни к какому берегу. Я вот чувствую сейчас не солнце, а тепло, не пиво, а алкоголь, не лето, а отпуск. Ощущаете разницу?
– Да.
И они долго молчали. Потом Лощинин сказал:
– Вы не поверите, но я квартиру однокомнатную построил. Сейчас отделываю. Потом вселюсь и буду обычным, нормальным профессором, каковым, собственно, и являюсь. Буду работать в академии – и в ещё одном вузе, на полставки, а третий брошу. И с женой разведусь. – Лощинин подумал и добавил – Может быть.
– Да. А я найду девушку, которая меня полюбит, и заключим мы с ней брачный контракт, по которому она не сможет претендовать на мою жилплощадь, – ответил Белкин. – И будет нам всем счастье.
И они выпили ещё пива за гармонию с окружающим миром здесь присутствующих. А потом Лощинин сказал:
– Может быть, вы и правы насчёт того, что я – лишняя деталь в Министерстве нашего образования и науки, сокращённо Минобразине, вносящая ненужный диссонанс. Я и сам, бывает, это чувствую. Но, как любят говорить ваши философские коллеги, если не удаётся переделать мир, то всегда можно изменить своё отношение к нему. В конце концов, и мир, и я – мы оба в равной степени не хотим, чтобы нас меняли или переделывали. Так что вы всё-таки преувеличиваете насчёт стихийных бедствий.
– Да бросьте, профессор, не кокетничайте. Миру нужны грозы и ураганы. И вы всем нам нужны, просто бывает трудно сказать об этом.
Лощинин и Белкин допили пиво, расплатились и пошли гулять по апрельскому Петербургу. Солнце стояло высоко, и, по оценке Белкина, до заката можно было не торопясь обойти ещё три бара, пропуская везде по кружечке за его счёт, – как сказал доцент, должен же он когда-то отблагодарить профессора за поездку на Байкал и своё знакомство с красивой, умной девушкой.
– Истина – она в вине, – напомнил Лощинин. – И мы её найдём.
И приятели отправились на дальнейшие поиски.
ДиН диалог
Юрий Беликов
Леонард Постников
Реликт, живущий у горы


В последнее время он не часто показывается на публике – его ничем уже не удивишь, а вот он в свои 82 удивлять продолжает. Постникова можно увидеть лишь случайно, как лох-несское чудище над поверхностью мифического озера. Что, собственно, и произошло несколькими месяцами ранее, когда в Чусовской этнографический парк нагрянула экспедиция российских журналистов, изучающая «тупики и перспективы Горнозаводской цивилизации в XXI-ом веке». Один из её участников, Юрий Юдин, представлявший кемеровскую газету «Сибирский край», никогда доселе не лицезревший Постникова, выйдя из «Трапезной», где проходил «круглый стол», обомлел: – Да-а, реликт!
По верхней дороге («Трапезная» ниже) действительно проплыл призрак Леонарда – медленный и огромный. Но телевизионщики, сопровождавшие экспедицию, запечатлеть его не успели. Поэтому попросили меня, как одного из экспонатов «Музея писательских судеб» в постниковском парке, вызвать основателя уральского града Китежа и прилегающей к нему детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва «Огонёк» на улицу – даже не для разговора перед телекамерой, а просто для зрелища – чтобы мы прошли с ним от одного домика к другому. Увидев Постникова, экспедиционщики радовались, как дети. Сам Леонард!..
Тут самое время хотя бы кратко очертить, что же такое этнографический парк Постникова.
Часовни, наполненные яркой живописью Павла Шардакова, повествующей о приращении Сибири Ермаком Тимофеевичем; кузня, дышащая, как доисторический ящер мехами, раздувающими огонь; торговая лавка с распахом товаров начала XX века; дом крестьянина-промысловика со всеми половичками, прялками, маслобойками, детской зыбкою и глинобитной печью; собрание деревянной игрушки; и собственно «Музей писательских судеб».
Он начинается на улице изящным и воздушным каркасом, скрепляющим макет аэроплана, на котором летал над Пермью один из первых русских лётчиков и уже известных в то время поэтов Василий Каменский.
А внутри домика – экспозиции, связанные с жизнью и творчеством Виктора Астафьева, Марии Корякиной-Астафьевой, Валентина Курбатова, Леонида Бородина, Бориса Черныха, Василя Стуса (последние три были заключёнными чусовской политзоны), Юрия Влодова, запустившего когда-то в народ звонкое двустишие «Прошла зима.
Настало лето. Спасибо Партии за это!» Да, и не забудьте чуть отбитый по переносью бюст Аркадия Гайдара, стоящий у входа в музей. Уже в новейшие времена Постников подобрал его на мусорном отвале и предоставил политическое убежище в своём этнографическом парке.
Десятки раз уже был свидетелем: неуклюжий гений Леонарда создал на берегу речки Архиповки нечто такое, что может называться по-разному – «улочкой русского сопротивления», «очагом для воспарения души», «пращой для перемещения из одного века в другой», – но всякий раз заставляет задаться вопросом «Где я?!», как с истошным изумлением спросил ссаженный за безбилетный проезд на 136-м километре (где парк) один незадачливый пассажир.








