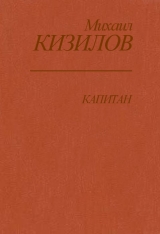
Текст книги "Капитан"
Автор книги: Михаил Кизилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
На том месте, где сопка подходит к крутому отвесному обрыву, видны в земле глубокие, словно вырытые, ямки от копыт. Множество таких следов. За крайним к обрыву дубом – навесик. В ствол вбиты две скобы, а в кроне – прочный настил из досок.
Здесь все усеяно рытвинками-копытцами. Видно, звери любовались видом с отвесной стены.
– Где земля сильно истоптана, – объясняет Валек, – пробивают колом ямки, сыплют в них соль, а сверху опять землей притрушивают. Пройдет дождь, соль размокнет, земля парит, и соленый запах притягивает изюбрей. Они и собираются в это место, чтобы соленую землю полизать. Вот тут их и увидишь, с настила. А чтоб зверь человека не учуял, охотник натирается полынью и затихает. Не все смотреть сюда ходят… Если изюбрь даже слегка ранен, от следующего выстрела он подается к обрыву и… Оттуда его и достают потом. На мясо.
Мы молча отправились в обратный путь, за мотороллером. Но Валентин чуть скосил в сторону, ведя меня и тем же путем, и не тем же – по вырубке. Здесь уныло. Место захламлено сгнившими стволами и пнями. Кое-где пробивается зелень молодых кедров. Они не выше чем до колен. Валентин сказал, что им уже десять – пятнадцать лет, а до первых шишек ждать – лет тридцать – сорок.
Миновав проплешину, мы вышли к рядам таких же молоденьких кедров, взбирающихся по склону сопки.
– Угу, штурмуют, – гордый за них, сказал Валентин. И повеселел: – Вечером в баньку… А пока, – он оглядел меня с ног до головы пристальным взглядом, – а пока… У тебя глаз не завистливый, нет?
Я пожал плечами, не понимая – о чем он.
– Да нет вроде. Ну тогда я тебе еще кое-что покажу.
На мотороллере проехали низину и снова оставили своего «коня» дожидаться, а сами пошли к распадку. Лес становился плотней, начиналась власть тьмы и хаоса: поваленные один к другому сгнившие стволы, колючая аралия, витки непроходимого лимонника и винограда. Потом как будто просветлело, попадались сосны, кедр, лиственница. Тень ярусами, как покрывала темные.
– Только т-с-с! – шепнул Валек.
Я приготовился прикоснуться к какой-то тайне этого леса.
Проломившись через очередной барьер валежника, но все же стараясь не шуметь, мы очутились на открытом среди деревьев месте. Лучи солнца покачивались на хвойных лапах. Больше я ничего не видел.
– Да ты пригнись, пригнись, – шепнул Валентин.
Я присел на корточки. Перед моими глазами – горсть ягод на длинном стебле. Дальше еще точно такой же стебель с ягодами цвета рубина.
– Женьшень! – догадался я, выпрямляясь.
Вся поляна перед нами была в красных шапочках ягодных гроздьев. Выше, ниже друг над другом, с тремя и пятью резными листьями.
– Можешь потрогать, – разрешил он. – В Москве расскажешь.
– Все равно не поверят, – вздохнул я. – Про поляну женьшеня не поверят…
Отчего-то на коленях, я подполз к женьшеню-патриарху, аккуратно притронулся к листьям, понюхал ягоды.
– Ты его копаешь? – спросил как о само собой разумеющемся.
Валентин улыбнулся:
– Зачем? Я и так сто лет проживу. Пусть растет. И после меня… Пока люди не найдут… Жалко. Мне поглядеть – год без тоски плаваю… Ну, поехали, что ли…
Домой домчались быстро. Евгений обещал сводить в настоящую сибирскую баню. Он был дома, когда я вернулся. Но я не торопился рассказывать об увиденном. Спросил между прочим:
– Жень, а что ж своей бани не построил, чужую идешь топить?
– А, – безнадежно махнул рукой и взглянул на Светлу. – Строил. Три…
Я понял, что ему неприятно вспоминать, неприятна эта тема. Перевел на другую:
– А тот, чья баня, что за человек?
– Вчера, еще утром, не помнишь, встретился – Фомич? Корявый такой, коротконогий. Он вот и пригласил… Помыться с гостем. Я ему сказал, что приезжает друг мой – шишка из Министерства лесного хозяйства. Вот он, гад, и подсуетился…
Я вспомнил мужика, который вчера при случайной встрече пожал мне руку. Рука была гладкой, цепкой. Он нес мешок на плечах.
– Что в мешочке-то? – спросил ехидно Женька, когда тот остановился поздороваться. – Не иначе козочка?
– Откуда, голубчик, откуда! Папороть собирал. Посушить хочу немного, зимой козочке кушать, – и, мне показалось, подмигнул Женьке.
– Что ж поздно папоротник собираешь?
– Припоздал маленько. Баньку строил, не до этого было…
– Ну-ну, – только и ответил Женька, – Давай, собирай.
Он пошел дальше.
– Ох и хитрюга, ох и браконьер! Где ускользнет, где откупится. За семьдесят уже, а по сопкам бегает, как молодой козел… Травку он несет… Козочке…
– Что ж не останавливаешь, если видишь.
– Это тебе не на трамвае без билета прокатиться – застукают сразу. Это, дружочек, тайга…
Помолчал и продолжил:
– Было дело. В мае Фомич изюбриху подстрелил. Сколько мог, унес, остальное закопал… вместе с приплодом.
– Откуда ты узнал?
– Собака моя нашла, Таймырка. Раскопала. Никто не мог, кроме него. И доказательство потом было. Ему осинка для баньки потребовалась, меня к себе зазвал, упрашивал без волокиты, без бумажек всяких разрешить… Ну и угощал маленько. Изюбрятиной. Так-то вот.
Я опешил. Он посмотрел на меня долгим внимательным взглядом, как гипнотизер, и сказал, едва заметно оправдываясь:
– Хоть раз сам выстрелишь, трудно потом наказывать…. Так-то вот. Ты – не судья. Ты здесь чужак. И – понимай, как хочешь.
…Топить баньку Женька меня не взял. Отдыхай, сказал, сам справлюсь.
Мы со Светлой уселись за ясеневый стол под черемухой пить чай. Сначала не о чем было говорить. Я снова спросил про баню – почему Женька не построил свою? Меня как будто заклинило на этом, может, из-за неприятного Фомича, к которому предстояло идти мыться.
– Не везет ему с баньками, – улыбнулась красиво Светла. – Первая, из кедрача, сгорела, вторая, осиновая, тоже, а третью так и не достроили. Наваждение… – Усмехнулась: – Вам не кажется, у злых людей всегда есть незащищенное место. Как ахиллесова пята…
Мне показался странным ход ее мыслей. Но, почувствовав ее желание выговориться, я не возражал против подобного философствования красивой женщины.
– Как сказать, – замямлил я, пряча глаза от ее хитроватого взгляда. – Я не задумывался. А что, разве Евгений злой человек?
Как говорят, точно – попал в яблочко. Ей надо было поделиться об отношениях с Женькой. А с кем, если не со мной – другом детства? Да при этом она еще и чувствовала мою симпатию, вернее сказать, любование – человека городского, искушенного, как ей, видно, казалось, женской красотой.
– И да, и нет. Тут по-другому. Человек добрый – он часто перебарщивает. Начинает отмерять от себя, возомнив, что он единственно справедливый на всем белом свете. И тогда – он злость в чистом виде. Но если в чем сам виноват – тут другая крайность: якобы не имеет морального права судить… Но если он прав – больше никто не прав… Попробуй не подчинись.
– А вы?.. Пробовали не подчиняться?
Она горько, что никак не вязалось с ее простодушными светлыми глазами, усмехнулась:
– Пробую. Веточку старую вон подвязала.
– Но… но ведь так же трудно понимать друг друга. – Я хотел сказать «любить» и не смог почему-то произнести этого слова.
– Трудно, – Она помолчала. – Всю жизнь мой Женечка за королевой охотился. Чтоб такая – одна во всей Вселенной, и его. Мы с ним познакомились в редакции какого-то журнала, уж и не помню. Я с подружкой туда зашла и – увидела! Стихи приносил. Самобытный, не чета всем этим, – она процокала языком, подражая стуку копытец. – Он тогда уже на Дальнем Востоке жил. Я – за ним. Вот. А мне пророчили, по меньшей мере, скрипку Амати… Я тоже москвичка.
– И бросили?
– А что ж! Таких мужиков одних не оставляют, охранять надо. Они сами бросают.
– И думаете, Женька может бросить вас?
Она опять горько усмехнулась.
– Нет, теперь не бросит… – Помолчала. – У меня никогда не будет детей. А так бы глазом не моргнул, оставил, я уверена. И он узнал – что не королева. Вот так и живем.
Я понял теперь ее постоянно услужливую улыбку.
– Не бросит, – продолжала она уверенно. – Зря я, что ли, столько картошки переполола, да окучила, да любимых его кушаний наготовила! Но – всегда начеку. Хотя… он без поводыря не может… Вот я аккуратно вожу…
Я почувствовал, что мы заходим в разговоре в опасную зону – интимную. И быстро спросил:
– А почему ваша деревня так странно называется? Про себя подумал: «Что за черт! Приехал задать всего два вопроса, получается!»
Она, как истинная женщина, поняла мою неловкость от ненужных откровений, легко поддержала другую тему:
– Наверное, тот, кто назвал, хотел передать ощущение святости этих мест… Я так думаю. Чтоб люди чище…
– Что – чище? – неожиданно громко, еще где-то за калиткой, спросил Женька. – Кстати, о чистоте! Пошли, дружок, баня готова!..
…По дороге он продолжил незаконченный рассказ о Фомиче.
– Он когда-то здесь был лесником. Покос – к Фомичу на поклон, лес нужен – опять к нему, дрова – к кому же еще? Другой бы разрешил – и дело с концом. Этот нет – покуражиться надо. Себе сено косишь – и мне накоси. Дров хочешь – выполи Фомичу огород. Потешился в свое время, гад. А куда вся злость делась – все забыто. Здороваются, хоть бы что. А жа-а-дный! Супружницу свою, Егоровну, в черном теле держит, гроша лишнего не даст. Обновка когда на ней была – никто не вспомнит… Да ну его. Давай, рассказывай, как вы с Вальком поохотились.
С чего было начинать? Конечно, с женьшеня.
– Где? – вспыхнул Евгений. – Да ты говори, не бойся, я у него травинки не трону. В какой стороне?
Я объяснил, как смог.
– Сколько корней, как стоят?
Но я рассказывал совсем о другом – о цвете ягод, о необычном чувстве, испытанном рядом с корнем жизни. Женька как будто не слушал.
– Ох и разыграем же сейчас гада! – сказал он вдруг, сощурясь зло. – Только ты не испорти спектакль. Не понимаешь? Ну и не надо. Я его сейчас на жадности стравлю…
Мы подошли к баньке Фомича.
…Женька перевязывал рассыпавшиеся прутья веника и бурчал:
– Пожалел новый дать, старый хрыч, а! Ничего, сейчас, как по спецзаказу, организуем сандуновский комплекс. Приготовься. И веники свежие будут, и еще кое-чего… – он засмеялся в предвкушении удачи.
Только мы выбрались в предбанник передохнуть, явился Фомич. Поздоровался степенно, неторопливо разделся, из-под лавки вытащил веник и прошел в баню. Мы за ним.
Парился он как следует: в шерстяной лыжной шапочке, в брезентовых рукавицах, хлестал себя с протяжкой – снизу вверх, сверху вниз. Температура в баньке градусов сто. Через минуту вывалились снова в пребанник – отдышаться.
– Фу-ух, хорошо! – блаженствовал Фомич.
– О-ох, – так же блаженно подпевал Женька.
Я сопел сам по себе.
– Товарищ, да? – поинтересовался Фомич, словно забыв нашу недавнюю встречу на улице.
– В одном дворе жили, – быстро ответил Женька. И я понял: розыгрыш начинается.
– А-а-а, – протянул дед. – Ну и как у нас – сила?
– А ты знаешь, Фомич, – перебил его Женька, не дав и мне возможности лишний раз умилиться перед знатоком тайги. – А ты знаешь, правду говорят, – новичкам везет! Не успел в тайге шага сделать, как поляну открыл! Корней, говорит, на сорок. По Пихтачному ключу. Вот добыча так добыча! А мы, дуралеи, дорогу туда забыли…
– Так уж и по Пихтачному, – насторожился и, я бы сказал, даже испугался чего-то Фомич.
– Ну, вон туда, – отмахнул я пар от себя.
– Учись, Фомич, жить, – с ехидной улыбочкой посоветовал Женька. – Пошли мыться дальше…
Я полез на полок, хотел было плеснуть ковшик воды на камни, Женька прикрикнул:
– Не разводи сырость в партере! Давай сюда и начинай париться по-настоящему. А туда-сюда – и закуска прибудет. С Фомичом во главе. Пока не выведает место – не отступится, увидишь.
Мы почти выползли в предбанник и – точно! На лавках кроме двух холщовых простыней, – вобла и пиво, в запотевших бутылках – из погреба. И это не все. Распахнулась дверь – и не вошла, а вплыла Егоровна с блюдом на вытянутых руках: мясо, зелень, кусок пирога с начинкой, малосольные огурчики! За ней, с широкой улыбкой, вступил в предбанник Фомич – с банкой коричнево-медовой жидкости. А под мышкой – два аккуратных свеженьких дубовых веничка.
– Парьтесь, хлопчики, парьтесь, пока да угощайтесь, не спешите… Счастливый твой товарищ – два веничка на чердаке отыскалось… А потом ужинать заходите… Удачу твоего товарища обмоем. Надо же, как подвезло, а! А самый большой – какой был?
– Вот, – показал я ребром ладони до шеи.
– Семисучковый! Не выкопали еще?
– Да нет, завтра думаем, – пробасил, сдерживая смех, Женька.
Фомич осторожно прикрыл за собой дверь:
– Ну, поджидаю… Парьтесь пока.
Мы насладились баней, уже не было сил даже разговаривать: кивки, жесты.
– А завтра – на рыбалку! Чтоб век в Москве помнил тайгу и – друга.
– Да? – только и спросил я.
Часа три мылись мы. И когда вышли, я направился было к Женькиному дому, но он настойчиво потянул за рукав:
– Праздник продолжается!
И повел к Фомичу.
Мы вошли в дом: у стола, накрытого лучше, чем в перворазрядном ресторане, сидела с несчастным видом Егоровна, вяло отгоняла от лица мух и всхлипывала.
– Что такое? – не понял Женька. – А хозяин где?
– Помер. Как из баньки пришел, так и помер… А-а-а-а-а… Сердце схватило. Перепарился, наверное… Пока за фелдшерицей сбегала, он и помер…
– Да вы кушайте, кушайте, стол накрыт, – говорила она словно в беспамятстве. – Сам велел попотчевать-то… Перед смертным часом…
И снова завела свое тихое, бесконечное «а-а-а», словно укачивая себя этим звуком. Мы стояли как потерянные.
– Егоровна, мы уж пойдем, – сказал как-то неуверенно Женька. – Пришлем людей. А, ладно, – он набулькал в рюмку медовухи, залпом выпил. – За упокой, или, как там говорится… в народе.
Я отказался.
Когда вышли, он сказал:
– Да брось ты печалиться. Таких, как он… давно к стенке надо.
– А ты лучше? – спросил я угрюмо.
Женька взорвался:
– Не собираешься ли ты меня учить жить? Не становись в позу, вечный студент-заочник! С московской пропиской. Ты зритель – вот твое место и предназначение.
Он хотел оскорбить, а я не знал, чем возразить. Дальше мы шли молча.
– Хочешь, отвезу тебя на мотороллере в Арсеньев? К самолету? – вдруг спросил он.
Я кивнул и предложил:
– Давай на дорожку посидим здесь, у этого дерева.
Теперь кивнул он, понимая меня.
Мы сели и, глядя на бурлящий у корня поток, задумались…
«Скорая помощь»
Зазвонил телефон. Глебов, заведующий редакцией поэзии, посмотрел на часы – до начала рабочего дня было еще десять минут – и со вздохом снял трубку.
– Слушаю…
– Товарищ Глебов? Здравствуйте, Петр Сергеевич. Вас беспокоит врач «Скорой помощи» Сударушкин Александр Иванович. Нам необходимо с вами встретиться.
Глебов похолодел, пальцы онемели. Жена и дети были на даче, и в голове пронеслись картины одна страшнее другой. С усилием он выдавил:
– С-слушаю…
– Я беспокою вас по несколько необычному поводу, – заторопился невидимый собеседник. – Не могли бы вы принять меня по просьбе моего друга?
– Так вы звоните не по служебной необходимости? – почти прокричал в трубку Глебов.
– Нет, конечно же, нет! Ой, ради бога, простите, я даже не подумал, что могу испугать вас. Нет, конечно!
– Если вас устроит, – облегченно вздохнул Глебов, – жду сегодня в семнадцать часов.
– Обязательно буду, – отозвались в трубке.
Ровно в семнадцать раздался осторожный стук в двери, а следом показалась голова с ясными голубыми глазами и виноватой улыбкой. На вид посетителю было немногим более сорока, весь он излучал доброту, искреннее желание и готовность быть нужным.
– Я по поводу моего друга, – начал он с порога, затем, спохватившись, представился: – Сударушкин Александр Иванович. – Его рука оказалась на удивление крепкой и жесткой.
Поблагодарив за приглашение сесть, Сударушкин примостился на краешек стула, поставил на колени спортивную сумку и с первыми словами весь подался вперед.
– Видите ли, к сожалению, я ничего не смыслю в поэзии, но мой друг, Борис Щекин, пишет, как мне кажется, замечательные, ну просто замечательные стихи, – и улыбнулся виноватой и обезоруживающей улыбкой. – Мы с ним работали вместе в одной бригаде пять месяцев, и за это время я и мои коллеги убедились, что он настоящий поэт. Хотите послушать? – спросил Сударушкин, вынимая из своей сумки кассетный магнитофон.
– Нет.
– Почему?
– Я их знаю, – пояснил Глебов.
Чуть больше года назад ему позвонил приятель и попросил ознакомиться со стихами молодого автора, уходящего со дня на день в армию. Глебов согласился. Вскоре перед ним стоял юноша спортивного типа. Помимо внушительной подборки стихов, он выложил на стол многотиражку и несколько фотографий.
– Здесь я снят во время выступлений, – пояснил юноша, – и мои публикации. Мне бы хотелось, – да, именно так он и выразился, – чтобы меня издали отдельной книгой в серии гражданской лирики. Сергей Петрович сказал, что он договорился с вами по телефону.
Глебов не впервые сталкивался с подобной настойчивостью юных дарований.
– Ну что ж, давайте посмотрим, есть ли предмет для разговора.
Предмета, к сожалению, не оказалось. Два-три стихотворения еще годились для публикации, с некоторыми можно было работать, и Глебов терпеливо объяснил юноше, в чем его общие ошибки. Под конец он выразил надежду, что армия поможет его «поэтическому и гражданскому становлению» – от частых встреч с пробивными дарованиями он сам сбивался на штампы. На последнее желание Глебова Борис ответил: сделает все возможное, чтобы остаться в Московском военном округе. На том и расстались.
– И как ему служится? – спросил Глебов поручителя Бориса. – В нашем разговоре я пожелал ему попасть туда, где потруднее, хотя на «Скорой помощи» он видел боли, страдания и слез с избытком.
– Ой, что вы, – воскликнул Сударушкин, – как раз это проходило мимо него.
Глебов недоуменно посмотрел на Сударушкина.
– Да вы поймите: он был выше этого.
– Выше человеческой боли?
– Петр Сергеевич, вы так категорично судите, – стушевался собеседник. – Понимаете, Борис жил в другом измерении, не опускался до суеты.
– Ладно, – махнул рукой Глебов, понимая, что затягивает разговор. – Вернемся к поэзии.
– Петр Сергеевич, – тотчас переключился Сударушкин, – две недели назад я видел Бориса, ездил к нему. Он служит в Закавказье, и ему там приходится несладко.
– Это хорошо, – кивнул Глебов, прикуривая сигарету, предлагая закурить и Сударушкину. Тот замахал руками, дескать, не курю.
– Что ж хорошего? – откровенно огорчился Сударушкин. – Он полы мыл, всю казарму, картошку чистил – представляете?
– Представляю, – ответил Глебов. – Сам мыл и чистил. Ваш Борис потом всю жизнь армию благодарить будет.
– Хорошенькая благодарность! Вы считаете, армия человеком делает? Он же поэт!
Глебова этот разговор стал раздражать.
– Не припомню что-то загубленных. Не знаю, как вы, а я три года отслужил без печали.
– Вполне возможно, – тихо возражал Сударушкин, – вы, наверное, человек крепкий, но для тонкой души Бориса сержантские категоричные приказы убийственны.
Он стушевался совсем и, не докончив мысли, умолк.
Глебов мрачно погасил сигарету, откинулся на спинку кресла и внимательно оглядел сидящего напротив аккуратного человека. «Попался бы ты ко мне лет двадцать назад, в две недели всю дурь выбил бы. – Глебову даже смешно стало, когда он представил Сударушкина в солдатской форме, в ушанке с завязанными под подбородком тесемочками. В том, что именно так носил бы Сударушкин шапку зимой, он не сомневался. – Жаль, не попался ты к сержанту Глебову…» – еще раз мысленно пожалел он и, спрятав поглубже неприязнь к собеседнику, попробовал объяснить ему свою позицию.
– Ну, хорошо, приехали вы, к примеру, на вызов, кто-то из вас категорично распоряжается, командует, вам приказали бежать за шиной или массировать сердце, вы что же, обидитесь на старшего?
– И побегу и буду массировать, – горячо заговорил Сударушкин. – Но это разные понятия – речь идет о человеческой жизни, а там сержантская придурь…
– Которая с тонкими душами не стыкуется, – иронически закончил Глебов за Сударушкина. – Из моего взвода двое стали кандидатами наук, один художником, а служил я к тому же в стройбате на Крайнем Севере, где какой там сержант – пятидесятиградусный мороз тонких душ не щадит. Борис-то ваш в каких войсках?
– Сейчас в госпитале. До этого был в обычной мотострелковой части, потом попал в госпиталь с повышенным давлением, понравился сестре-хозяйке… и она оставила его при себе, то есть при госпитале, – поправился он. – Вот уже три месяца там служит…
– И на ваш взгляд, ему тяжело служится? – не скрыл иронии Глебов.
– Не совсем, – замялся Сударушкин, – но Борис рядовой, начальства и в госпитале хватает, командуют, помыкают им, не любят почему-то его… И потом, сестра-хозяйка, как бы вам сказать, – засуетился на стуле Сударушкин и начал заливаться краской, – она не очень молода, и такая толстая, что у нее «молния» на сапогах до конца не застегивается. А ведь Борису только девятнадцать, – с тоской вырвалось у Сударушкина.
– Вот и хорошо, – удовлетворенно сказал Глебов. – Пусть познает жизнь, – и, подводя итог разговора, добавил: – Стихи у Бориса пока слабые, а в большинстве просто плохие.
– Не может быть! – воскликнул Сударушкин. – Не может такого быть, что все триста стихотворений были плохими, штук сто наберется хороших, и даже больше. – Но сник и очень тихо закончил: – Впрочем, я уже говорил, что ничего в поэзии не понимаю… Но так хочется ему помочь, ему так трудно, ему моральная поддержка нужна.
– Мы напечатаем, и ему полегчает? – спросил Глебов с прежней иронией. – Работать ему надо над стихами прежде всего и учиться. Жизни, конечно.
Глебов собирался припомнить и сестру-хозяйку, за спиной которой спрятался Борис, и справедливость нелюбви к нему товарищей по службе, и многое другое, что пагубно для начинающего автора, но вид сникшего Сударушкина вызывал жалость, и он по-человечески пожалел его:
– Сейчас-то Борис пишет?
– Да, – ожил Сударушкин. – Он передал мне свои последние стихи и очень просил повидать вас и уже в двух письмах спрашивал, состоялась ли встреча, но вы только появились после отпуска. Пожалуйста, напечатайте его стихи, ему сейчас так трудно, так тяжело, а публикация поможет ему, возможно, не так им помыкать будут.
– Тогда вообще никаких стихов! – резко ответил Глебов, и Сударушкин обмяк на стуле.
«Обморока еще не хватало», – спохватился он и миролюбиво сказал:
– Ладно, покажите его последние стихи…
Сударушкин без слов полез в сумку, дрожащими руками вынул туго набитый конверт и так же молча протянул Глебову.
Глебов вынул все листы, разогнул и на выбор стал читать: «Ночью к нам привезли больного, на ученьях попал в беду. Сморщил лоб…» – он прервал чтение и вернулся к началу;
Ночью к нам привезли больного,
На ученьях попал в беду.
Сморщил лоб, губы сжал, ни слова,
Только «мама» кричал в бреду.
Он снова прервал чтение, посмотрел на Сударушкина. Тот терпеливо ждал приговора, сжав руки между колен.
Утром умер. Что скажут маме?
Я живой, а парнишки нет.
Мне морщинка его на память
В девятнадцать досталась лет.
Глебов помолчал, задумавшись, Сударушкин ни лицом, ни позой не переменился.
– Пожалуй, мы напечатаем несколько его стихов, – решил Глебов.
– Ох! – сказал Сударушкин, уронив сумку на пол. Он засуетился, не зная, подымать ли сумку или благодарить Глебова, и еще больше проявлял растерянность.
– Да вы не торопитесь, – успокоил его Глебов перед заключительными словами. – Сколько ему еще служить?
– В мае вернется, по весне возвращается…
– Вот к окончанию службы и сделаем ему подарок.








