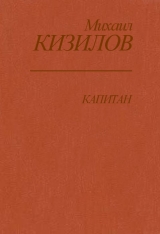
Текст книги "Капитан"
Автор книги: Михаил Кизилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Неформальная просьба
Анатолий Далинин сидел в президиуме отчетно-выборного собрания техникума и, переводя взгляд с одного лица на другое, мысленно просил сидящих в зале о тишине. Но комсомольцы не внимали его взгляду.
Далинин всегда с удовольствием приходил в техникум. Собрания здесь были хорошо подготовлены, не заорганизованы, всегда были незапланированные выступления и интересные предложения. Так случилось, что в этом году Анатолий неделю провел в Магадане. Вырвавшись наконец-то из обкома, он собирался приехать пораньше, но, как говорится, если уж не везет, то до конца. Сначала ему навязали инструктора ЦК комсомола, который хотел посетить собрание. Позже, у самого поселка, машина остановилась у размыва. Русло реки Олы забилось льдом, и река, повернув в сторону, погнала по дороге поток воды. Пришлось идти вверх по течению до крепкого льда, там перебираться через реку и пешком топать в поселок. На собрание чуть не опоздали.
Анатолий, конечно, не переживал бы так, если бы не этот работник Центрального Комитета. С первого взгляда вроде бы неплохой, общительный парень, но кто знает, что этот неплохой парень напишет в своем отчете. Анатолий улыбнулся, вспомнив, как Сергей, инструктор ЦК, изумлялся по дороге салатному цвету неба и красоте заснеженных сопок. Смешной он немного. Нашел чему удивляться – небу. Ну и ехал бы сюда жить. Небо как небо. Анатолий привык к нему. Он искренне любил Север, хотя никогда не говорил об этом. Родился и вырос Анатолий в поселке Ола, здесь учился, работал в совхозе. Позже стал секретарем комитета комсомола, потом заведующим отделом райкома и, наконец, первым секретарем. Закончил заочно институт. В поселке его хорошо знали, так же как и он всех. Он чувствовал себя нужным, ему нравилось идти на работу на час раньше, чтобы переброситься шуткой, поздороваться со спешащими на работу земляками…
И вот сегодня комсомольцы подводили своего первого секретаря. Собственно, они не были виноваты, и Анатолий знал это. Но какое-то чувство мучительной ревности не давало ему покоя, и он в который раз думал, что ребята могли бы вести себя спокойнее в присутствии работника ЦК.
А тут еще представитель центра, играя в демократию, сел во второй ряд президиума, и Анатолий не видит его реакции. Небось записывает в свой блокнотик разные заметочки, по которым Анатолию позже придется давать объяснения в обкоме.
В начале собрания Анатолию показалось, что все в порядке. Четко выбрали президиум. Ребята внимательно слушали доклад, в зале было тихо. Настороженные приездом инструктора ЦК, работники райкома «оказали помощь» в подготовке выступающих. Но выступления, тексты которых были заранее отпечатаны, ребята не воспринимали. Анатолий метал недобрые взгляды на второго секретаря, выделявшуюся в зале нарядной прической. Надо же, прическу сделать нашла время, а собрание подготовить не сумела! Конечно, он понимал, что Нине не хватало опыта – секретарем она работает всего месяц. Но раздражение не проходило, и он старался поймать Нинин взгляд, чтобы хоть глазами выразить ей свое отношение ко всему этому. Но Нина уже неплохо знала своего первого и, сидя прямо напротив него в зале, старательно отводила взгляд.
Директор техникума уже дважды вставала за столом президиума, призывая учащихся к тишине. Каждый раз после этого в зале на несколько минут становилось тихо, – казалось, слышно было, как шевелят своими листьями пальмы, росшие в больших бочках у стен. Но энергия, заключенная в засидевшихся на собрании юнцах, требовала выхода, и подростки начинали двигаться, ерзать на стульях, вертеться, и вот уже чья-то рука протянулась к девчоночьим косичкам. И вот уже девчонка сердито бьет обидчика по рукам, соседи, получившие отпор, смеются, и постепенно, как рокот просыпающегося поутру моря, в зале нарастает гул: выступающий чуточку повышает голос, на такую же чуточку повышается и шум в зале. Устанавливается состояние динамического равновесия – президиум и выступающие живут своей жизнью, а зал – своею. Потом директор опять стучала карандашом по графину, вставала и – все повторялось сначала: в очередной раз наступала относительная тишина, в которой, как казалось Анатолию, был слышен стук его сердца.
Анатолий снова перевел взгляд в зал. «Но ведь хорошие же ребята, просто отличные, а усидеть не могут», думал он с обидой.
Вот Пашка Курчавин – капитан сборной по баскетболу. Почти взрослый человек, а туда же, разыгрался, как мальчишка, – захватил своей ногой ноги впереди сидящего Володьки Печенегина, тоже из сборной техникума, и не отпускает. Володька уже стул скоро перевернет, но не так просто вырваться из Пашкиных лап. Анатолий вспомнил, как на Ленинском зачете больше всего вопросов задавали Пашке. Он запомнился Анатолию двумя ответами.
– Что ты сделал за год для своего совершенствования? – спросили его.
И Пашка очень серьезно ответил:
– Стал комсомольцем и научился быстро сушить грибы.
Кто-то рассмеялся ответу, а комсорг насторожилась:
– Постой, постой, ты ведь в комсомол вступил еще в прошлом году, а не в этом? Как же так? Тебя ведь про этот год спрашивают.
– Правильно! Вступал в прошлом, а комсомольцем стал в этом! – категорично заявил Пашка.
– Как это понимать? – не выдержал Анатолий.
– А так, – раздражаясь от непонятливости, пояснил Пашка, – вступал, вместе со всеми, а по-настоящему почувствовал себя комсомольцем в этом году, точнее, полгода назад.
– Расскажи, – попросил Анатолий. Но рассказал не Пашка, а ребята, наперебой.
В их поселке находится детский дом. Его воспитанники не хотят уезжать отсюда – здесь их дом, здесь директор, который многим заменил родителей. Но в поселке не хватает рабочих мест. Люди вынуждены уезжать, но всегда в день рождения директора стараются приехать. Этот день отмечают как день открытия дома. Собирается много людей, празднуют, нет-нет да и случаются разного рода нежелательные события. Вот и последний раз один из прежних выпускников на улице разбушевался, грозил разнести поселок. Выломал хороший кол и начал крушить заборы. Его пытались урезонивать, но, испугавшись страшного: «Не подходи, убью!» – отступили.
Пашка вместе со своими однокашниками дежурил в оперативном отряде. Увидев размахивающего колом и кричащего человека, пошел к нему.
Тот опять закричал: «Не подходи!» – и начал раскручивать кол над головой. Но Пашка продолжал идти.
– Куда, малец, стой! Стой, тебе говорят! – закричали из толпы.
То ли этот крик подействовал, то ли пьяный увидел, что к нему идет подросток, но, сделав по инерции два-три круга колом над головой, уронил его на землю, а сам прислонился к заборчику. Пашка подошел к пьяному и что-то тихо сказал. Неожиданно тот отпрыгнул в сторону и – в руках блеснул нож. Пашка не дернулся. Пьяный шагнул к нему, толпа замерла. Ближайшие мужчины стояли в пяти метрах и боялись сделать лишнее движение, чтобы пьяный в испуге на зацепил Пашку. Поднеся лезвие к Пашкиному лицу, тот отчетливо спросил:
– Боишься?
– Боюсь, – признался ему Пашка и, в свою очередь, медленно, не сводя взгляда с лезвия, спросил: – Только зачем тебе меня трогать?
– Верно. Незачем, – согласился пьяный. – Ты кто такой? – после небольшой паузы опять спросил он.
– Как кто? Комсомолец!
Пьяный внимательно посмотрел на Пашку, потом сложил нож, опустил его в карман, сел на землю и заплакал. Пашка стоял у заборчика бледный, закусив нижнюю губу.
После того случая Анатолий выделял Пашку из всех ребят, считал его более взрослым и серьезным. И вот сегодня взрослый и серьезный Пашка веселил ребят, которые потеряли всякий интерес к собранию, напряженно следили, кто кого одолеет. Анатолий с улыбкой вспомнил и вторую часть Пашкиного ответа – о грибах.
– Вы думаете, на Севере легко грибы высушить? А я специальные зеркальные отражатели поставил – и получилось!
Такой он, Пашка! Серьезное и смешное в нем рядом. Но сейчас Анатолию было не до шуток.
«Ну, погодите, сейчас я выступлю, меня-то вы уж будете слушать, как миленькие», – Анатолий невольно заводил себя. Он знал, что сказать этим ребятам, и уже торопил время.
Очередной оратор, скосив глаза на листок, скучно бубнил о необходимости повышать успеваемость. Анатолий снова взглянул в зал. Его сосед по дому Иван Плетнев сломал лист пальмы и щекотал им приятеля. Тот крутил головой, чесал шею, потешая зевак. Девчонки вели себя скромнее, но почти все шушукались и хихикали.
«Завалили собрание, заорганизовали», – подумал с тоской Анатолий и бросил очередной выразительный взгляд на своего второго секретаря. Та упорно смотрела в сторону.
И вот Анатолий на трибуне.
– Ну, что же, товарищи, вроде бы все неплохо в вашей комсомольской организации. Но я не собираюсь вас хвалить, а совсем даже наоборот.
«Что это я, куда меня понесло, – промелькнуло у Анатолия, – зачем я с этого начал».
И он, смутившись, казенным голосом «пошел ставить задачи». Видел недоуменные взгляды ребят и, распаляясь от этого, стал сыпать общими лозунгами и призывами.
«Да что же это такое у меня, ни одного человеческого слова, надо скорее заканчивать», – опять пронеслось у него в голове. Он быстро свернул выступление, поздравил ребят с отчетно-выборным собранием, пожелал успехов и сел на место. Зал жидко захлопал в ладоши.
«Ну, вот, и я внес свою лепту в формальное собрание», – с острой тоской укорял себя Далинин. Он досадовал и на директора техникума, которая несколько раз выходила из зала и после каждого выхода долго шепталась с парторгом, досадовал на секретаря комитета комсомола, на ребят и, наконец, на инструктора ЦК, который уже шел к трибуне.
С некоторой ревностью следил за ним Анатолий, где-то в глубине души желая, чтобы тот выступил не лучше его. Но инструктор покорил зал сразу же, с первой фразы:
– Что, ребята, неинтересно сидеть на таком собрании?
Зал дружно и охотно ответил:
– Нет!
И инструктор заговорил тихо и просто о том, в чем видит суть и смысл работы их организации, каждого из комсомольцев. А Далинин помрачнел еще больше. Он думал о том, что, оказывается, плохо знает этих ребят, таких легкомысленных, на которых нельзя положиться в серьезном деле. Он не реагировал на шумные аплодисменты, которыми наградили инструктора, и жаждал только одного – чтобы собрание скорее закончилось.
Вот уже выбрали новый состав комитета комсомола, председатель сообщила, что повестка дня исчерпана, и, когда уже комсомольцы были готовы вылетать из зала, еще раз поднялась директор техникума:
– Ребята! У меня очень неприятное сообщение.
Зал затих от этих слов. Каждый мысленно уже раскаивался за свое поведение на собрании, за то, что не мог сдержаться в присутствии москвича, и думал, что сейчас директор назовет его фамилию и скажет, что ей стыдно за своих учеников.
– Ребята, у нас несчастье. Лена Клепова и ее младший братишка попали в автомобильную аварию и сейчас находятся в больнице. Им нужна кровь. Звонили из больницы Просят помочь. Кто из присутствующих в зале преподавателей и учащихся согласен сдать кровь для товарищей, нужны добровольцы! – И она первой подняла руку.
– Я-я! – громыхнуло в зале.
– Желающих прошу записаться у комсоргов групп.
Через мгновение комсорги, зажатые со всех сторон, писали на листочках фамилии.
Зимняя дорога к сыну
Согнувшись под тяжестью рюкзаков, двое медленно взбирались по узенькой снежной тропинке на крутую, высокую террасу. Склон террасы был исчеркан мелкими следами. В обычные дни здесь полно зверья, но сегодня склон пустынен. Нервно подрагивая, изогнулась по ветру таежная поросль. Водят хоровод голубовато-серые струйки снежной пурги. Внизу, в распадке, лениво раскачиваются вершины кедров. Звонко скрипит иод подошвой спрессованный снег, морозный воздух обжигает, упруго и жгуче дышит в лицо. Первым взобрался на террасу высокий, худощавый мужчина. Подбросив на спине звякнувший металлом рюкзак и навалившись грудью на ствол ружья, он стал внимательно наблюдать за попутчиком. Тот взбирался медленно, пожалуй, даже слишком медленно – как будто каждый шаг давался ему с трудом.
Первый подметил это, и лицо его, заросшее клочковатой, кудрявой, белой от инея бородой, сделалось тревожным. Он растерянно оглянулся на чернеющий невдалеке лес, зябко повел плечами.
Когда напарник наконец поднялся и отдышался, он нерешительно сказал:
– Степа, может, и правда зря мы сегодня вышли? Поздновато уже. Да и морозище, не приведи господи. Ну, что тебе один день даст?
– Что, слабо, Гришка? Так ты можешь и обратно податься. Не твоя же баба рожает, а моя. Вмиг до избушки домчишь, лыжню-то пробили.
– Тебе, Степа, тяжело, я же вижу. Не-е-ет, зря ты в тайгу идешь в таком состоянии. Не успел еще оклематься толком. – Он говорил все громче и торопливей, словно боясь, что его перебьют, начнут разуверять. – Надо бы пару деньков переждать. Хворобу твою осилить, непогодь обмануть. Ну чем ты жене поможешь? Ей сейчас не ты, а акушерка или уже нянька нужна. И потом, подумай сам, если будем идти так медленно, то не только до шоссейки, но и до попутного зимовья не дойдем засветло. Я-то думал, хватит у тебя силы, а ты уже сейчас отдышаться не можешь.
– Я своей Люське всегда нужен, а сейчас особенно. Вот когда она будет рожать пятого, тогда, может быть, спокойно к этому отнесусь, а сейчас на месте мне не усидеть. Да и сам посуди, если бы я неделю на простуду не потерял, давно бы дома был. Не могу я ждать, Гриша. Ты возвращайся, я не обижусь, здесь тропа нормальная. – Он улыбнулся и посмотрел на Григория чуточку снисходительно. Ресницы его заиндевели, лицо раскраснелось. На нем был теплый, из серого сукна бушлат и из такого же сукна брюки, выпущенные поверх кожаных олочей и перехваченные внизу веревочками, чтобы снег не сыпался в обувь. Большая, подбитая черным, мохнатым собачьим мехом шапка спадала ему на глаза, и он то и дело сдвигал ее на затылок. Насмешливо поблескивая глазами, он хлопнул товарища по плечу: – Ну что, не убедил? Ну и упрям же ты, браток. Успокойся, Гриша, нытьем погоду не улучшишь. Все нормально будет, не бойся, дойдем. Ты вот подумай лучше, вдруг у меня уже сын родился? А я хорош папаша, вместо того чтобы наследника хоть одним глазочком поглядеть, где-то с тобою по лесам, по долам шляюсь. Извини, Гриша, сейчас не до охоты. Идти надо, идти. Да что здесь осталось? Километров двадцать до дороги. Пройдем их запросто. Летом в пару часов бы домчали.
– То летом, Степа, а сейчас зима. А таежники из нас пока еще не вышли. Второй сезон только пытаемся охотиться.
– А нам с тобой в тайге сезон за три можно засчитать. Мы же не туристы, а охотники. На худой случай, не успеем до дороги, в зимовьюшку к соседу заглянем, чайку с чагой попьем, ночь скоротаем, а там рукой подать. Да и темень нам не помеха. Луна! Вспомни, как мы в прошлую зиму в свой первый промысловый сезон капканы при луне снимали. Красоти-и-ища была! Река как серебряная лента, тайга вся голубая-голубая. А над ней луна как фонарь неоновый. И тихо-тихо вокруг, это тебе не город. – Он глубоко вздохнул, мечтательно произнес: – Люблю ходить по тайге лунной ночью.
– Тебе только вирши писать. Ночью, Степа, по тайге бродят только лешаки да дикие звери, а нормальные люди спят. И вообще, ты, паря, зубы мне не заговаривай, до зимовья асфальт еще не проложили, по снежной целине идти придется, ухайдакаешься, романтик. Да и тропа с прошлого сезона не чищена – заросла, завалена. Оставишь глаза на сучках, вот будет тебе тогда лунная ночь. Давай лучше вернемся, Степа, а?
– Серый ты человек, Гриша. Я тебе о природе для вдохновения рассказываю, для того чтобы второе дыхание быстрее пришло. Приободрить хочу. А ты все об одном и том же – вернемся. Сказано – уйду. С тобой или без тебя, но уйду! Меня в твоей тайге сейчас на цепи не удержишь. Кто знает, а вдруг мне Люська двойню родила? Вот это бы удружила.
– Да ну тебя, Степка! – отмахнулся Григорий. – Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему. Хреновину ты затеял, да не бросать же тебя, пойдем уж, что будет, то и будет.

У кромки леса тропинка оборвалась, дальше начиналась снежная целина, и под ней едва угадывалась летняя тропа – она белой, небрежно брошенной тесьмой петляла среди огромных кедров и елей, на стволах которых виднелись затекшие смолой затеси. Снежная кухта то и дело осыпалась с нижних ветвей на головы путников. Замерла тайга: не стучат дятлы, не слышно вездесущих синиц, не шуршит коготками о древесную кору юркий непоседа поползень. Лишь сухо и звонко пощелкивают от мороза деревья. Сквозь густые ветви над головой иногда показывается солнце – тусклое и холодное, точно хрупкий ледяной кружочек.
Вскоре тропа вывела путников к речке и протянулась вдоль заиндевелых тальников.
Но вот вдалеке призрачно замаячили крутобокие синие сопки. У подножия одной из них, вот той, островерхой, затерялось осевшее в землю, рубленное в лапу, дранью крытое охотничье зимовье. Но далеко еще до сопок, ох далеко! А до шоссейки еще дальше! Плечи уже зудят и болят, надавленные лямками рюкзака, и ноги все больше и больше наливаются горячей свинцовой тяжестью. Монотонно шуршит под лыжами рассыпчатый, зернистый снег, и нет ему конца и края, и словно бредешь ты, опутанный клейкой паутиной, или продираешься сквозь какую-то незримо-податливую массу, и что-то сверху давит тебя тоже и тянет назад, и хочется наконец содрать со своих плеч эти лямки, сбросить со спины груз, широко расправить плечи, вздохнуть и стоять так, блаженно слушая, как отдыхает, успокаивается распаленное тело, как уходит из тебя, словно ток в землю, тяжесть.
Но бросить рюкзак нельзя, и долго стоять тоже нельзя. Григорий тяжело дышит, то и дело с тревогой посматривает на синие сопки и на тусклое, холодное солнце, которое неумолимо опускается на макушки подзолоченных елей.
Борода и брови его обледенели, точно облепленные клочьями ваты, из-под шапки на висках сосульками торчат влажные прядки волос. Жарко! Воды бы напиться, но нельзя – враз ослабеешь, отяжелеешь вовсе. Он то и дело подбрасывает рюкзак на спине и, низко согнувшись, давая отдых плечам, поджидает Степана. Степан устал, но старается не отставать, и, когда Григорий оглядывается на него, он улыбается.
Вот и знакомая валежина: она лежит поперек тропы, толстая, в два обхвата, – очень удобная для отдыха. Григорий приваливается к ней рюкзаком, сбрасывает с натруженных плеч лямки. Степан устраивается рядом, он тяжело дышит, шапка сдвинута на затылок, на белом чистом лбу капельки пота, завитки волос поседели от инея. Подхватывает рукавицей снег с валежины и жадно припадает к нему губами. Он устал, с натугой кашляет, но карие глаза смотрят на мир по-прежнему дерзко, с вызовом и не по-таежному беспечно: ему вроде бы дела нет до того, что солнце клонится к закату, что мороз все сильней, что пройдено только треть пути. Впереди у него встреча с родными. Дом. И ничего, что еще ночь придется потерять в зимовке соседа, зато завтра они наверстают. В зимовке, куда они скоро придут, – железная печь. Они будут сидеть в отблесках огня на жестких нарах, смотреть и слушать, как потрескивают в топке смолистые кедровые поленья.
Степан взглянул на сопки; в лучах предзакатного солнца они казались призрачными и невесомыми, точно вышиты сиреневой нитью на тонкой прозрачной вуали.
Он оглянулся. Было жаль покидать эту красоту, но и заставить себя прожить здесь не то что месяц, как они предполагали в начале сезона, но даже несколько дней он не мог. И не только потому, что стремился увидеть жену, сына, но и потому, что осточертела ему – горожанину – нелегкая лесная жизнь с ее постоянной борьбой за существование, с опухающими от усталости ногами, со скудной едой, возней с капканами, с топливом, с тоской о городских оживленных улицах.
– Красиво, правда, Гриша? – он кивнул на сопки. – Прямо как шелковые.
– Не ешь снег, снова заболеешь, – сказал тот недовольно, даже не взглянув в ту сторону, куда указывал Степан.
Теперь Григория заботило другое: он уже знал наверняка, что идти придется ночью, но сомневался, смогут ли они, в сущности новички в тайге, вообще дойти когда-нибудь до этой проклятой избушки. Его угнетало подозрение, что они уже прозевали затеси, указывающие поворот к избушке. Он гнал от себя эту мысль, надеясь, что не на этом, так на следующем склоне увидит знакомую затесь на кедре. Как все глупо и нескладно получается! Зачем он, дурень, пошел на поводу у Степки? Дождались бы промхозовского сторожа Федотыча – старого таежника, он бы и вывел их из тайги в поселок, как договаривались. Это ж надо, такую глупость сотворили, пошли в мороз без пилы, без топора, к тому же и спутник немощный. Он покосился на Степана.
«И все из-за его прихоти. И чего я на своем не настоял? Сказал бы, и точка! А с другой стороны – не драться же с ним, парень упрямый, и сам бы ушел. Приспичило ему в город – жена, видите ли, рожает. Ну и что? У всех рожают. Раньше надо было думать и не ходить нынче в тайгу вообще. Черт подери этих баб. Может быть, пока не поздно, оставить рюкзаки на тропе, вернуться налегке в свое зимовье, а утром со свежими силами продолжить путь? Это, пожалуй, дело, вопрос ведь, найдем ли соседскую избушку. Но попробуй скажи ему об этом. – Григорий опять испытующе покосился на Степана. – Нет, не согласится вернуться – бараном упрется. Надо двигаться вперед, только бы Степан не обессилел».
– Степан! Устал? Может, вернемся?
– Ну что ты, Гриша, пустое говоришь. Дойдем, – Степан упрямо качнул головой. – Дойдем. Что, сам, наверное, устал? Ишь, распалился весь, как печка.
– С чего ты взял? Просто немножко вспотел, безрукавку надо было в рюкзак положить, жарко в ней. – А мысленно продолжал ругать себя: «Эх, растяпа! Даже топорика не взял – на избушку понадеялся. Ну, и где она, та избушка? Под той сопкой или вот этой? Все они на один лад. Лучше об этом не думать. Все будет хорошо! Найдем затесы, доберемся до избушки, а у соседа все есть – там мы не пропадем». Мысль о том, что, возможно, придется ночевать не в избушке, а прямо в тайге, он гнал от себя прочь. Он страшился этой мысли и потому старался говорить и думать о чем-нибудь другом.
– Степа! Ты что, как пацан. Не ешь снег, сколько раз говорить?
– Ну чего ты, Гришка, по пустякам привязываешься? Сам знаю, что делаю. У меня когда-то в школе вожатая была, такая же зануда, как ты. – Он зло рассмеялся, и смех его в морозной тишине прозвучал коротко и ломко, как рассыпавшаяся весенняя льдинка.
На следующей валежине Степан уже не смеялся. Отдышавшись и вытерев рукавом пот со лба, он устало сказал:
– Вроде бы здесь я в прошлую зиму двух колонков поймал, а?
– Нет, Степан, это, кажется, вон за той сопкой, – ответил Григорий рассеянно.
– А я говорю, здесь!
– Ну ладно, здесь так здесь. Тебе видней, чего спорить.
– То-то же, Гришка, а то шумишь, споришь. Чего замолчал? Боязно? Не переживай, потихоньку-полегоньку доберемся, ночка лунная. Все будет хорошо, браток. Вон и распадок Деревский, видишь? Помнишь, там все шатун ходил, а я его так и не устерег. Жаль, что он тогда не встретился мне.
Григорий видел, что места вокруг незнакомые и на Деревский распадок ничего похожего вокруг нет, но спорить не стал, паникой дела не поправишь.
Он поежился. Оба вдруг притихли, напряженно к чему-то прислушиваясь, озираясь.
Вероятно, наступил тот момент, когда все в природе на мгновение смолкает. Это время, когда день уже угас, а ночь еще не наступила, и все живое словно бы застигнуто врасплох, и каждый вглядывается в сумрак предстоящей ночи напряженно расширенными зрачками: кто со страхом, кто с нетерпением и с надеждой.
Из-за гребня сопки, похожей на черную медвежью спину, несмело высунулась луна – на фоне голубой холодной зари она казалась прозрачной и тонкой, как рыбья чешуйка, и не верилось даже, что будет она скоро царственно плыть по небу, затмевая своим светом искристое сиянье звезд.
Из чащи леса доносился какой-то невнятный звук – то ли шорох, то ли потрескиванье.
При выдохе воздух изо рта вырывался тугой светлой струйкой. Мороз пробрался уже в обувь, покалывал пальцы ног, обжигал лицо.
Степан больше не отпускал в адрес молчаливого попутчика ехидных реплик, не поглядывал кругом в поисках таежных красот и все реже и реже вспоминал о жене, которая должна была родить ему сына.
Григорий огляделся: всюду непроницаемо плотной стеной зловеще чернела тайга.
«Полпути всего одолели, а ночь уже близко. И почему я не настоял на своем? Ну, хотя бы вернулись днем. Тряпка я, самая настоящая тряпка! – Он вспомнил вдруг слова Федотыча, который учил его таежной премудрости: «Тайгу, браток, нахрапом не возьмешь: нахрапистых да безрассудных она, матушка, наказывает без жалостев. Перво-наперво завсегда имей при себе топоришко, особливо в зимнюю пору, само собой, спички, провиант подходящий – спине тяжело, а брюху сыто. А к тому уж прилаживай рассудок – опыт, значит, таежный. Без опыту в каждом деле – труба дело, хоть, к примеру, морехода взять, хоть таежника, хоть геолога. Коль опыт имеешь, сам не пропадешь и другому не дашь пропасть…»
Григорий взглянул на усталое, осунувшееся лицо Степана и признался себе в том, что никакого таежного опыта не имеет, что никогда даже не ночевал в зимней тайге у костра и что вообще тайги он всегда побаивался, был в ней случайным гостем, беря у нее то, что легко давалось в руки.
«Ничего, ничего, все будет хорошо, – пытался утешать он себя, – все будет нормально, надо двигаться вперед, только вперед, и все будет нормально». Но, думая и утешая себя так, он между тем ясно чувствовал неубедительность своих слов и надвигающуюся беду. «Нет опыта – труба дело», – вновь припомнились ему слова Федотыча. Он медленно поднялся и молча пошел вперед, изредка поджидая Степана.
Потом они, развязав рюкзак, торопливо грызли мерзлое сало, заедая его сахаром, продрогли при этом, но сил не прибавилось. И вскоре опять брели в лунной ночи, пошатываясь от усталости.
Григорий уже не чувствовал в душе своей ни страха, ни сомнений, он просто равнодушно двигался, прислушиваясь к шороху лыж Степана. Когда лыжи сзади затихали, он молча ждал. Потом Степан стал все чаще и чаще садиться на снег, Григорию приходилось возвращаться к нему и подбадривать:
– Ничего, ничего, Степа, осталось немножко, совсем немножко. – И помогал ему подняться.
Степан отталкивал его, зло огрызался и снова медленно двигался следом.
Наконец Григорий догадался бросить свой рюкзак с различным ненужным сейчас скарбом и взять себе рюкзак Степана – этот сидор бросить было нельзя: в нем продукты. Но и это мало помогло: Степан даже без груза все чаще и чаще валился на бок в холодный, тускло посверкивающий в лунном сиянье снег, виновато повторяя:
– Погоди, Гришуха, дай передохнуть.
Посидев, он вновь поднимался и шел дальше, шел молча, без жалоб.
У крутого склона, который выводил на большой выворотень, похожий на обгоревшего и застывшего с судорожно распростертыми щупальцами чудовищного кальмара, Степан вдруг вскрикнул. Григорий обернулся и увидел, что он лежит на боку, неестественно подогнув ногу, прихваченную вывернувшейся лыжей.
– Ты что, Степа?
– Нога, – он жалобно и виновато улыбнулся. – Все, Гриша, приехали, я, кажется, ногу вывихнул или сломал. Больше идти не смогу. – Он сказал это спокойно и твердо. – Не смогу!
Григорий усадил Степана на валежину, развязал тесемки и осторожно снял олоч, боясь увидеть кровь.
«Слава богу, открытого перелома нет», – подумал он с облегчением и чуть тронул подъем ноги пальцем. Степан вскрикнул. Пока нога не распухла, Григорий поспешил надеть обувь и завязал тесемки на брюках.
– Давай-ка, Степа, я из лыж нарты сооружу, и двинемся дальше.
– Не смогу я больше двигаться, – упрямо повторил Степан и облегченно вздохнул. – Никуда отсюда не пойду. Ты поищи сам зимовье. Как найдешь, вернешься за мной. А чего брести незнамо куда, только последние силы терять.
Григорий попытался уговорить напарника, но тот, свернувшись у выворотня, не отвечал ему, поглаживая рукой больную ногу.
Григорий вспомнил, что у соседа в зимовье есть охотничья нарта. Вдвоем с Федотычем они бы легко и быстро довезли Степана до избушки. Приволокли сюда нарты, а заодно и спальный мешок для Степки прихватили. Только где эти нарты? А главное, как же отыскать зимовье? Если продолжать поиск, так лучше делать это одному. Быстрее и толку больше, чем тащить Степана на лыжах неведомо куда – это же верная смерть обоим, а так, глядишь, и выкарабкались бы. Привезут они с Федотычем Степку в зимовье. А пока нужно разжечь для него жаркий костер, натаскать дров про запас, и пусть сидит у костра, греется, сил набирается, а он тем временем обогнет низинкой сопку, может быть, где-то там и зимовье затаилось. Часа через два-три вернется за Степкой.
Он не торопясь, внимательно глядя на Степана, рассказал ему о своем намерении.
– Ты, Гриша, опытней, – впервые признал Степан, – тебе видней, – он согласно кивнул Григорию, и лицо его повеселело.
– Сейчас я для тебя, Степан Игнатьевич, разожгу костер – большущий разожгу кострище, и будешь ты косточки прогревать. Ничего, Степа, ни-че-го-о, сейчас мы, сейчас.
И он стал суетливо бегать от дерева к дереву, от валежины к валежине, отыскивая сухие дрова для костра. Он натыкался на толстые крепкие сухостоины, яростно раскачивал их, пытаясь сломать или повалить, но они стояли незыблемо, как железные колонны. Григорий лихорадочно разгребал руками и ногами снег, поднимал с земли тяжелые промерзшие валежины и тут же с остервенением отбрасывал их прочь.
Наконец ему удалось отыскать несколько полусырых валежин и разжечь небольшой костерок. Живое пламя взбодрило его.
– Ничего, ничего, Степа, сейчас я еще принесу, много дров принесу.
И он опять кружил неподалеку, стаскивая к огню уже все, что попадало под руку, полагая, что теперь в большом пламени будет гореть и сырое.
Покончив с дровами, наломал еловых веток и аккуратно разостлал их между костром и выворотнем.
– Садись, Степа, поудобнее, вот сюда садись. Здесь тебе будет тепло. Вот так, молодчина. – Он заботливо усадил Степана на мягкую хвойную подстилку. – Все будет хорошо, Степа, все будет отлично, ты не сомневайся, – торопливо убеждал он не столько Степана, сколько себя. – Во-от, тепло уже, видишь? Тепло-о. А ноге легче? Хорошо. Ну, я побегу, Степа, я быстро обернусь, налегке ведь, ты не сомневайся. Привезем с Федотычем чайник, чайку вскипятим – попьешь, отдохнешь, и все будет хорошо.
– Не надо чайник, Гриша, принеси горячего чаю во фляжке. Фляжку за пазуху положишь, вот и не остынет чай. Ну, беги, Гриша, я подожду, – он подбадривающе кивнул другу и виновато улыбнулся.
И, ободренный этой улыбкой, Григорий тотчас же, не оглядываясь, заскользил по тайге.








