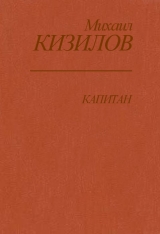
Текст книги "Капитан"
Автор книги: Михаил Кизилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Михаил Григорьевич Кизилов
Капитан
Повести и рассказы
Жердели
Все в жизни хорошо и правильно, никому дороги не перешел. Все своим, как говорится, горбом… Погордиться не грех. Бывало, втайне и гордился. Что в том зазорного? Институт с первого раза, с первой попытки. Армия: там тоже все как надо. Женитьба, рождение сына. Интересная работа… Отчего этот вопрос? Мучает: как я живу?
Утро, день, нередко и вечер допоздна – работа. Великие лекари – работа и время, но и они лишь ненадолго облегчали муку… Опасное это дело, страшно представить, что такое может быть, чтобы душа не болела. Если душа не знает боли, считай, нет ее, считай, неживой ты. Говорю как-то своему товарищу:
– Мы же не сами по себе, мы же продолжение чье-то. Понимаешь? Есть глубинная память: у каждого она личная, своя, ее не передашь знаками или формулами, она в сути каждого человека, в основе его поступков, характера, честности или бесчестия…
– Погоди, старик, какая глубинная память? О чем ты? Я не знаю, кто были мои дед с бабкой, не говоря уже о «пра-пра».
– А я несу в себе эту память. Она – чистилище.
Хотя прошло столько лет, давно уже в живых нет моего деда, но его голос до сих пор в моих ушах.
– Ребятушки-братушки! Ну-ка вставайте, вставайте же! Снова проспали! Опять прозевали… Пчелки, вишь, полную банку медку нанесли вам. Под жерделью поставили, вам доставили-оставили.
Голос деда Игната. Он будит нас с Димкой. Мы разом выскакиваем из постели и несемся во двор. И взаправду. Вот она – банка с первым медом! Стоит себе на верстаке под жерделью, нас дожидается. Эх, опять прозевали. Каждый год собираемся посмотреть, как это пчелки несут первый мед, как в банку его складывают. И на этот раз без нас все произошло. Опоздали! Дед тоже хорош. Не мог раньше позвать…
Стоим мы под жерделью, и кажется нам, что в банке не мед, а солнышко, что пчелки на солнышко за медком летали. Разве можно столько меда сразу взять с цветков малых? Солнышко же вон какое большое….
А во дворе можно задохнуться от буйства весны. Солнце высоко в небе, разогрело землю, разгладило теплом траву, и босым ногам уютно и весело. Пока не жарко, глубокая синева неба не прокалилась еще зноем, свежая. Прямо у порога огородная зелень вспыхивает кое-где задержавшейся капелькой росы. И как же это она не растекается?! И как держится роса? Дальше сияют радуги цветника и пышные облака сиреней, а над ними степенно и величаво несут свои седые головы старые, раскидистые жердели. Они кажутся необычайно высокими, – белый цвет незаметно переходит в легкую голубизну, и трудно в глубине неба найти их макушки.
Все ликует. С крыши дома, заглушая суетливую болтовню воробьев под стрехами, с торопливой нежностью спадает воркование горлинки, скворцы несут в утро деловитую радость, но главное, что делает мир по-настоящему праздничным, – жердели.
Огромные, в полтора-два обхвата внизу, выросшие вольно, отчего в полуметре от земли во все стороны раскинулись ветви, жердели занимают добрую половину всего участка. Черные стволы в глубоких шершавых морщинах уносят ввысь огромные вороха ветвей, – на которых, тесня друг друга, сплетаются в величавый букет цветы. Издали кажется, что букет шевелится, возится, каждый цветок перешептывается лепестками с соседями, и как сами кроны жерделей сливались с небом, так и этот шепот переходил незаметно в напряженный стройный гул.
Если подойти ближе, гул становился отчетливей и можно различить множество пчел по перламутровым вспышкам их крылышек на солнце. Они-то и делали букеты воздушными, больше принадлежащими небу, чем стволам.
Пчелиный гул собирал воедино, в песню, чириканье воробьев, сольные партии цвинькающих щеглов, воркование горлинки, скворцовые подголоски – и весь стройный хор пел хвалу утру и долгую жизнь лету. Как в оркестре басовые инструменты незаметно скрепляют тонкие голоса струнных, так и пчелы своим неторопливым гудением вносили стройность в эту разноголосицу.
Жердели занимали много места у дома. Соседи считали причудой деда держать их на участке. Сорняки, а не культура. Действительно, чуть выедешь за город – и вдоль бесчисленных полей потянутся бескрайние лесозащитные полосы жерделей. Иди набирай сколько хочешь, если не можешь обойтись без них, без этих маленьких диких сородичей абрикоса!
Деда соседские пересуды мало трогали. Он ревностно следил за немолодыми уже деревьями, поливал в сухое лето, по осени обрезал отжившие ветки, весной белил стволы, чтобы не донимали муравьи, прилаживал скворечники. И как-то получалось, что другие фруктовые деревья приносили богатые урожаи через год, а дедушкины жердели плодоносили ежегодно. И каждую весну дедушкин дом был похож на огромный белый остров – пахучий, гудящий и поющий на разные голоса. Поглядывая на кроны из-под густых, таких же, как цветы, белых с серебром бровей, дед задумчиво говорил: «Люди много еще не знают, а природа не ошибается. Раз каждый год родит, значит, земля с радостью дерево кормит, лучшие соки ему отдает. Пусть растут мои жердели, людей и землю радуют, улицу красивой делают».
Улица окраинная, тенистая от зелени, устлана густой травой. Пахнет фруктами, редкая машина проедет, примнет траву. Летними вечерами мужское население играет на этой траве в домино и подкидного, детвора тут устраивает кучу малу, женщины с семечками обсуждают свои известные проблемы.
Покой нарушили экскаваторы и бульдозеры. Дошла очередь и до этой улочки. Землеройные машины оставили среди зелени и тишины трехметровой глубины канаву и горы земли рядом. Мальчишки и девчонки радуются возможности полазать по земляным горам, целыми днями пропадают среди строителей. Улица кипит от звуков моторов, шума водоотливных помп и детских голосов. Глубокими вечерами слышно, как сыплется в канаву грунт. А оглушенные дневным шумом сверчки робко и неспешно пробуют свои осипшие от долгого молчания голоса.
– Перемены, ребятушки, начались, – говорит дед. – Вспоминать вы это начало будете. Вспомните. Оно же отделит вас!
Казалось, дед не прав. Почему отделит, от чего? Ребятня не совсем понимала деда.
В канаву уложили широченные бетонные трубы. Яму засыпали. Весной улица опять вся зазеленела: трава вымахала еще более высокая. Играй в прятки. Играй же! Но, что же это случилось? Вроде меньше людей со своими скамеечками выходит за калитки. Не та стала улица? Да и ребятня вроде быстрее расти стала. Кто в прошлое лето еще играл с малышами, тот нынче занят иными затеями.
И снова пришли тракторы. Срезали своими ножами траву. Стала улица глубже, превратилась в широкое ложе под будущую дорогу. Первый же ливень наполнил ее до краев. Мы выпросили у деда старые ясли для коровы. Ясли выдерживали двоих. Целый день, пока не ушла вода, мы, мокрые и грязные, «ходили по морям – по волнам». И все это время дед стоял у ребячьего водоема. Глядел на бестолковую суетню, радостную сутолоку. А потом вода ушла. Воды стало по щиколотку, ясли сели на мель.
Дед помог их вытащить, перевел дыхание и сказал тихо:
– Уходит… уходит, ребятушки, вода. Готовы ли вы к ее уходу? – Детвора стихла, не понимая деда. – Уйдет вода, придут машины с песком и камнем. Появится дорога. Прежде чем подойти друг к другу, придется вам посмотреть по сторонам – нет ли помехи-машины.
И мы по-своему поняли, что скрывается за вопросами деда: в жизнь входит что-то новое, доселе неведомое. Деду оно видно и понятно. И он хочет, чтобы поняли это и дети. Но мы своими умишками еще многого не понимали, поэтому просто удивлялись: при чем тут дорога, при чем тут машины, если мы друзья? Что-то недоговаривает.
Именно тогда и зародились дедовские посиделки. В самый разгар весеннего буйства дед устраивал медовые праздники. И начинался такой день одними и теми же словами:
– Ребятушки-братушки! Ну-ка, вставайте, вставайте же!
Мы с Димкой выбегали во двор и видели не только банку с медом – сияет на иззубренном дедовом верстаке под самой развесистой жерделью, – но и пряники, и конфеты, висевшие на тонких нитках.
– Как это? Такие маленькие пчелки разве могут развесить на ветвях тяжелые пряники и конфеты? Может быть, это ты сам повесил?
Дед, улыбаясь, отвечал:
– Многого вы пока не знаете, ребятушки-братушки, но то – ничего. Главное, что не мешаете пчелкам трудиться, меды собирать.
Мы заступались за крылатых тружениц, лезли в драку, когда мальчишки ловили или убивали пчел.
– Пчела жалит злого и нечестного, а доброго жалеет, – говорил дед, а мы охотно вторили ему. Сначала над нами посмеивались и дразнили, но когда Димка после очередной «пчелиной ссоры» в ребячьей запальчивости пробил голову булыжником местному заводиле, нас оставили в покое.
Что с этих психов-пчелолюбов возьмешь?
Выросли мы с Димкой, приехали к дому весной. В память о детстве, которое не вернуть, о деде, тоже ушедшем из этого дома, только безвозвратно, поставили на прежнее место банку с медом. Пчелы тучей к верстаку слетелись.
Трижды ставили банку, трижды роились пчелы над даровым медом. У деда такого не бывало, не бросались его пчелы к легкому взятку. Оставил дед завет. Не разгаданный на долгие годы.
В пору созревания жерделей собирались во дворе ребята со всей улицы. Дедушкины жердели были самыми вкусными, самыми сочными, со сладкой косточкой. Более десятка этих плодов за раз не съесть. Перезревшая паданка оставляла на земле косточку и мокрое место вокруг.
Дед не допускал перезрева, вовремя сзывал ребятню. Сборщики уносили жердели домой – каждый, кто хотел.
И не столько за эти плоды, сколько за те считанные дни, когда дети находились под присмотром дедушки, соседи были благодарны ему. Не так много времени прошло с войны, чтобы не бояться другого «урожая» – снарядов, мин, патронов, гранат, которые мы собирали, не думая о том, чем это может закончиться.
«Обчий фонд» поступал в распоряжение бабушки. Варилось варенье, сушилась курага… Из плодов мы с наслаждением тащили косточку. Под жерделью, неподалеку от верстака, лежала стальная балка, невесть откуда заброшенная сюда войной. По всей длине балки дед насверлил углубления, в которых косточки хорошо умещались.
Детвора усаживалась поудобнее у лунок с голышами в руках. Дед разносил каждому по пригоршне косточек.
Поначалу, кроме постукивания, шумного жевания и кратких восклицаний: «Вот здорово! Во вкусная попалась! А мне горькая почему-то…» – ничего другого не слышалось. Дед приносил складной стульчик, усаживался во главе и, оглаживая светившуюся в лучах солнца бороденку, ласково и задумчиво смотрел на нас.
Собственно говоря, косточки были тоже не самым главным на этом празднике: несколько погодя начинались «дедушкины посиделки», так шутливо называл эти сборы отец. В общем-то они устраивались в любую пору: было ли на улице слякотно, пуржило ли, – в теплую дедушкину комнату битком набивались ребята. Дед сидел на своем складном стуле, остальные кто где: на скамеечках, стульях, кровати, полу. Дед не только сам говорил, но и ребятню тормошил, каждому давал высказаться – частушкой, стихом, балалайкой, гармошкой.
А когда в школе появился духовой оркестр, мальчишки стали ходить к деду в обнимку с трубами-раструбами. Бабушка хваталась за голову, но дед с завидной стойкостью переносил голоса альтушек, буханье баса или неустоявшийся жеребячий голос трубы.
Пел он очень тихо. И первой была всегда одна и та же песня – «Вечерний звон».
– Вечерний звон… – начинал дед, все переставали стучать голышами и так же тихо, на шепоте, подхватывали:
– Как много дум наводит он…
Обычно пели все, невзирая на возраст. На улице четко придерживались возрастного ранжира, но дедовы посиделки объединяли малышню и подростков с ломким басом. После «Вечернего звонка» шел черед другим песням. Слыхали здесь и хулиганские песни, исполняемые с крикливой лихостью. Дед терпеливо слушал выступление такого солиста, потом просил спеть того, кто знал настоящие, задушевные песни.
Ах ты, дедушка, дедушка!

На пустыре стали строить пятиэтажные дома! В котловане набралась вода. Для детворы подарок. Чего лучше – пруд под боком появился. Отдельные умельцы под водой весь водоем проплывали. Все ныряют, а я никак. Объяснили мне товарищи, как да что делать, чтобы пронырнуть котлован. Я с духом собрался, чуть было не прыгнул, но в последний момент неожиданно для себя, неторопливо, чуть вразвалочку, даже небрежно, подошел к соседскому мальчишке. Тот был старше, с такими, как я, не водился, играл со сверстниками в шашки неподалеку от котлована. Я и не надеялся на него особенно, но все же.
– Сеня, подстрахуй, я первый раз прыгать буду…
Было в этой просьбе столько значительности и серьезности, что Сенька, вопреки своим привычкам, не отпустил ни колкости, ни насмешки. Встал и весело сказал:
– Не бойся, Маша, я – Дубровский…
Я разбежался, изо всех сил оттолкнулся от земли и уже в полете почувствовал, что повело меня куда-то вбок и лечу я уже не головой, а ногами вперед. Попытка исправиться не помогла – в воду я плюхнулся боком. Вынырнуть как-то умудрился. Потом увидел краешек уходящего на закат солнца, а ниже испуганные глаза Димки – младшего брата – и его ручонки, которые тянулись ко мне в надежде помочь. Я еще пытался барахтаться, молотил руками воду и, уже теряя сознание, почувствовал, как кто-то подхватил меня и выволок из мутной воды канавы на свет, к воздуху. Сенька!
Потом Сенька лежал рядом. Видно было, что он устал. Мальчишки притихли.
– Ну, Саня, ты дал, – раздались голоса, – Мешком летел, чуть на тот берег не выпрыгнул.
– Как бомба упал!
– Ребята, а ведь Сенька спас его. Сашка ведь тонул! Умирал! А Сеня его спас! – вдруг неожиданно раздался голос всегда молчавшего Скрипача.
Родители Скрипача – Вовки Переверзева – очень хотели, чтобы он стал музыкантом и интеллигентным мальчиком. Ребятня же, наоборот, все делала, чтобы Вовка был таким, как все. От такой раздвоенной жизни Вовка сутулился и больше молчал.
Все замолкли, пораженные смыслом его слов. Посмотрели на Сеньку. Тот опустил глаза, и даже сквозь загар было видно, что он покраснел.
– Скажешь тоже: умирал, спас. А вы и поверили Скрипачу, – Сенька враз стал насмешливым и быстрым. Ребята заулыбались, готовясь посмеяться над Вовкой, но почему-то не смогли.
– А ведь действительно, Сенька, ты спас Сашку, – уверенно сказал Виталий Бобров. Виталия уважали – он хорошо играл в баскетбол и лучше всех стрелял. С ним все молча согласились.
– Отдохни маленько, потом отмоемся от грязи, – голос Сеньки чуть дрожал.
Я сидел притихший и оглушенный. Перед глазами стояли краешек солнца над кучей земли, глаза и ручонки Димки. А потом была чернота воды. Я кого-то подминал под себя, куда-то лез. В голове мелькало:
«А если бы не Сенька, значит, я бы утонул?» А Димка? Он бы остался один. Кто бы за него заступался? А мама? А дед? Что делал бы дед без меня? Дед всегда говорил: «Сашка – старший, думать должен, Димку защищать». Но ведь не Димка прыгал, а я! А если бы я утонул, Димка остался бы без старшего брата. Его бы не взяли ни в какую компанию. Малявка, и заступиться некому».
Я лежал на траве и смотрел в небо. Рядом сидел Димка и осторожно гладил плечо, его глазенки медленно отходили от испуга, становились опять большими и голубыми. Хотелось плакать.
Когда мы с Сенькой уже спокойно плескались, смывая не столько грязь, сколько страх, неожиданно появилась мама. Никогда до этого дня она не искала нас, не ходила за нами, а в этот день почему-то пришла. Димка ничего не сказал ей. Малек, а сообразил!
И позже Димка не выдал меня. А ведь не раз ябедничал. Чуть что – сразу доложит. Когда я перейду в третий класс, когда вернусь из деревни, где впервые переплыву речку, – я сам признаюсь. Я скажу матери, что тогда на канаве тонул. Мать всплеснет руками, но промолчит. Она ответит на это признание позже, когда прочитает в газете о моем награждении медалью и поверит, что ее сын стал взрослым. Она скажет, что сердце матери – вещун. Оно повело ее тогда к канаве, позвало ее – болью.
Я лежу на спине и смотрю в небо. Поворачиваю голову, вижу ту же синеву, а ниже по вершине холма зеленым частоколом лесополоса. Тополя торчат зубьями пилы.
Зубья пилы. Короткая, к рукоятке расширяющаяся ножовка. Ножовка лежит на маленькой кучке песка. Прошедший дождь и солнце посадили на полотно стали яркие пятна ржавчины. Два мальчугана, оба пяти лет от роду, прыгают со штабеля досок на песок – кто дальше. Один из них я, второй Колька. Оба подстрижены наголо – «под Котовского», в вылинявших, до колен сатиновых трусах. Колька побольше, с прямым носом, карими глазами и тонкими губами. Я с россыпью веснушек и улыбающимися голубыми глазами. Мы прыгаем уже второй день. Колька повыше и прыгает дальше. Я нервничаю, переживаю. С улицы раздается:
– Сашка, обедать!
– Ну вот, я так и знал. Только стал тебя догонять, как бабушка зовет, – удрученно вздыхаю я и обреченно машу рукой, как это делают взрослые, но вдруг решительно говорю: – Давай еще прыгнем. Последний раз.
– Давай, – внешне лениво соглашается Колька, – только я все равно прыгну дальше тебя.
– Посмотрим, – кричу я и взбираюсь на доски. – Колька, убери пилу, я на нее могу прыгнуть.
Колька удивленно смотрит на меня, потом на пилу и насмешливо произносит:
– Я до нее не допрыгнул ни разу, а ты и подавно.
– А я говорю – убери пилу. Она зубьями на меня смотрит. Напорюсь, – повышаю я голос.
Колька презрительно морщится и бросает:
– Прыгай скорее, а то опять бабка прибежит, начнет кричать.
И точно в подтверждение этих слов, с улицы опять разносится:
– Сашка, куда ты, антихрист, запропастился, марш домой.
– Ну чего прилип, – бурчит Колька, – прыгай.
Я согнулся, присел на корточки, два раза взмахнул руками, примериваясь.
– Качай, качай, – подразнил Колька. Но я его уже не слышал. Не сводя глаз с пилы, резко оттолкнулся и прыгнул. И в тот же миг понял, что прыгнул так, как никогда еще не прыгал, и что долечу до пилы, но не испугался, а наоборот, резко бросил ноги вперед, прогибаясь. Большой палец ноги точно пришелся на зубья. Боли не почувствовал – допрыгнул!
Я сидел на песке, задрав ногу, и рассматривал, как на пальце двумя красными смородинами набухали капли крови. Колька стоял рядом, вытянув физиономию.
– Говорил тебе, убери пилу. Теперь тащи керосин, – радостно кричал я Кольке, выдавливая кровь, и он без слов пошел за керосином.
Позже дед скажет мне, что радость всегда сильнее боли.
– Ну что, Сашок, поедем к дяде Лене? – Я не верил своим ушам. Конечно же! Еще спрашивает! Отец раскрыл дверцу кабины. – Полезай!
– Я хочу в кузов. В кабине не поеду, – и вскарабкался на колесо «студебеккера», протянул руку, чтобы подхватили сидящие в кузове. Там было человек десять взрослых.
– Садись в кабину или не поедешь вообще… – голос отца неумолимый.
– Нет, я поеду в кузове.
Отец захлопнул кабину. Снял меня с колеса и поставил на землю. Ловко забрался в кузов, стукнул ладонью по крыше кабины и крикнул:
– Поехали!
Я онемел. Заработал двигатель, машина тронулась и набрала скорость, помчалась, поднимая пыль. Я глотал пыль, задыхался и умирал от горя.
Машина ушла. Я сижу у калитки, всхлипываю.
– И в этот раз ты, внучек, не прав, – тихо говорит дед. Подошел сзади, руку на голову положил.
И в этот раз? Значит, был какой-то еще раз? Был? Когда? Я обернулся на дедово тепло.
– Первый раз был неправ, когда перед машинами дорогу перебегал.
На пустыре начали строить школу; грузовики подвозили кирпич, песок. А мальчишки устроили соревнование: кто ближе всех к машине перебежит дорогу.
Отец возвращался с работы. Молча взял меня и Димку за руки. Пошли домой. Раньше мне нравилось так ходить: отец посередине – большой и сильный, мы с братом по краям. Мама глядит на нас и радостно говорит: «Мужики мои идут».
Отец идет, как всегда, не торопясь. Он слушает, а я рассказываю, как Димка поймал большого «красняка» – бабочку, и думаю, что гроза миновала и отец не будет наказывать. Отец умылся и пошел в дом. Из комнаты через окно позвал нас.
Мы вошли, а там отец с ремнем. Спокойно говорит:
– За такие дела пороть надо.
И хлопнул Димку. Тот в рев.
– Сами погибнете и шофера в тюрьму спровадите. Что делать, коль не понимаете русского языка…
Тут же вытянул ремнем и меня дважды.
– Ты старший, тебе побольше.
На рев прибежали мама с бабушкой. Отец прошел мимо них в коридор.
Стыдно поднять на отца глаза. «Смотри за Димкой», – наказывают мне. Я старший, у родителей на меня надежда. А я? Ведь брат мог оказаться под колесами. И не было бы за это прощения. Никогда и ни за что.
– Получили на орехи, – нарушил молчание за столом дед. – Это ничего. Когда справедливо, ничего…
– Приятного аппетита, – сказал отец, как всегда, и потрепал нас с Димкой по вихрам, тоже как всегда…
– Вот она первая твоя вина, Сашка. А другая вина в том, что поперек отцовского слова пошел. Не послушался отца, опозорил перед чужими людьми, сидящими в машине. Они спешили, но за тобой заехали. Значит, уважают они отца, специально заехали. Отец, может, им так и сказал: за сыном заедем, он у меня давно в деревню собирается. У хорошего отца и сын хороший. А сын-то и подвел. В кузове не место маленьким, там тяжело ехать: пыльно, тряско.
– Дед, откуда у тебя это умение все объяснять?
Дядя Леня привез меня к себе на хутор. Через несколько дней подошло время пасти стадо, дошла очередь до дядиного двора. Пастуха в деревне не было – управлялись сами. Сколько голов во дворе держат, столько дней и пасти череду.
Стал я приглядываться, как пасут череду. Понял – ничего трудного. Главное, провести стадо между люцерновыми полями. Вечером, когда коровы сыты, это не трудно. А вот утром… С обеих сторон сочные стебли, стоит лишь только морду протянуть.
Я не понимал, почему жалеют так траву, пока не объяснили, что нельзя корове есть много свежей люцерны. Может пасть. И вот пастухи, поминая недобрым словом агронома, метались по утрам, пресекая попытки буренок и пеструшек забрести на желанную люцерну. В тот год была еще одна забота: в стаде подрастал бычок. Нет-нет да и лез пободаться. Получал палкой по лбу, нехотя отступал. Для взрослого пастуха подобные наскоки пустяк, была бы палка понадежнее. Меня же предупредили: чуть что – беги к мужикам, которые тоже пойдут со стадом, три двора пасли в тот день. Я с легкой душой отправился на работу.
Небо чистое, с реки ветерок, стадо на косогоре. Мне эти места сразу запомнились, еще когда первый раз подъезжал к хутору. Поднялись на холм: дорога освободилась от лесополосы, перед глазами разлив реки. У подошвы холма просторный затон с двумя рукавами, поросшими по берегам очеретом-камышом. Когда-то посреди затона был остров, который почему-то называли «баги», к нему из деревни насыпали дорогу – «греблю»: там заготавливали сено. С появлением плотины река разлилась, скрыв под водою и баги, и греблю. Место острова указывали заросли камыша, тростника, росшего прямо из воды.
Миром и покоем веяло от реки и от арбузов, которые по утрам блестками на солнце, как маленькие зеркальца, обозначали место бахчи. Бахча по склону спускалась к реке. Напротив густой зеленью стоял ровными рядами колхозный сад. А вечером – краса какая! Солнце уходит за реку. Отсветы по водной глади. Небо темнеет медленно. Там, где русло реки поворачивает и прячется за колхозным садом, хутор. Домов не видать, спрятались в густых, темных зарослях деревьев. Выдают хутор огороды, словно ковры, ниспадающие к воде речки.
– А вот и речка, – сказал дядя Леня, впервые вывозя меня из прибрежных камышей на чистую воду.
Я, уцепившись за борта лодчонки, с опаской смотрел на огромный разлив реки. А когда клюнул первый окунек, а потом пошла настоящая рыбалка, осмелел. Во многих местах довелось позже ловить рыбу и даже акул, но по-настоящему душой отдыхал только здесь, на этой речке с ласковым названием Бейсужок. На старой лодчонке с одним веслом, с удочками из орешника, леской ноль шесть и поплавком из куги. Если долго не бывал здесь, то снилась речка: большая, чистая, светлая.
Скот пасся на отлогих берегах, у реки. Я наверху сижу, обхватив колени руками, – гляжу на реку и за нее. И еще дальше…
Стадо медленно идет по косогору. Я лег на спину. Высь голубая, облаков нет, ничто не мешает вспоминать, а след от самолета кажется белой легкой тропинкой, по которой хорошо идти в детство…
Я поднялся, побрел за стадом. Впереди лежала высоковольтная опора – тянули ЛЭП. Мачта напоминала остов космической ракеты, еще недостроенной, по которой рано или поздно предстояло лететь. Натянув поглубже на глаза кепчонку, я сбросил легкую курточку и сел в тень опоры. Солнце стало припекать. Задремал и не заметил. Проснулся словно бы от толчка: передо мной шагах в пяти бычок. Пришел самоутверждаться.
Он показался мне огромным и иссиня-черным, с массивными и острыми рогами.
– Чего тебе, дураку, надо? – как можно ласковее спросил я и, пошарив рукой, схватил палку. Палка показалась игрушечной по сравнению с бычьей головой.
Бык еще ниже наклонил лобастую голову. «Что это он ко мне подошел? Мужиков позвать? Сидят себе у воды, ничего не видят. Позовешь – еще на смех поднимут. Мало ли отчего может подойти бык к человеку?»
Бык рыл копытом землю: загребал пыль и бросал себе на холку. Глаза наливались кровью.
Я медленно встал и отступил, оперся о металл. Бык еще ниже наклонил голову, я, не сводя с него глаз, перепрыгнул через поперечину мачты. Бык крутанул головой и обежал препятствие. Я перескочил назад.
Бык коротко мыкнул, снова обежал. Мне игра понравилась, быку – нет: глаза на выкате, на губах появилась пена. На стыд сильнее страха. В очередной раз перепрыгивая через поперечину, я за что-то зацепился выбившейся из брюк майкой; майка затрещала, я посмотрел на нее и все понял – майка-то красная, вот в чем дело. «Если ее сиять и ему бросить, он отстанет. Но майку истопчет. Нет уж!» На ней ведь белая полоска и буква «С» – эмблема «Спартака». За майку и на риск пойти можно, еле-еле маму уговорил полоску нашить.
И я, подгадав момент, бросился по косогору вниз – едва ноги успевал переставлять. А за спиной сопенье и топот, казалось, вот-вот страшные рога собьют с ног. Кепка слетела. С разбега в реку – плюх. Вынырнул, проплыл от берега метров пятнадцать и только на глубине оглянулся.
Быка у воды не было. Он, как ни в чем не бывало, пасся у опоры. Маленький, невидимый такой бычишка.
– Что, на солнце сомлел? – спросил один из пастухов.
– Ага, – весело откликнулся я, а сам подумал: хорошо, что хоть без кепки в воду сиганул, а то бы не поверили, догадались бы, что от быка сбежал. Хорош бы я был – в кепке посреди реки. И я весело рассмеялся.
Вылез на берег, отжал одежду. Брюки и майку на куст повесил. Красивая майка, с девяткой на спине.
Я еще раз взглянул наверх, на быка. Победно взглянул и не зло.
Дед сидел с внуками на веранде дома, неторопливо распутывая рыболовную леску. Мы помогали ему, от этого леска запутывалась еще больше, но дед терпеливо распутывал снова, так, за делом, делясь с нами житейской мудростью. То что это мудрость, мы еще не понимали, просто заслушивались очередным дедовским рассказом, которые любили. А дед тем временем говорил:
– Учиться вам, хлопчики, хорошо надо. Но отца с матерью не забывать. А дети пойдут – тем более. Потому как малые должны расти рядом со старыми. Как мы с вами. На том всегда земля наша стояла.
– Конечно, не забудем, с чего бы…
– О жизни говорю, внучики. Вот послушайте такую притчу. Сидит старый ворон на гнезде. Вот-вот воронята должны вылупиться. Ждет. Первый появился, расколол скорлупу, разломил ее надвое – самый сильный. Отряхнулся, на ножонки пробует встать. Старый ворон склонил голову, смотрит на него внимательно и спрашивает: «Скажи мне, вороненок, будешь ты меня кормить, когда я старым стану и не смогу пищу сам себе добывать?» – «Буду!»– бодро ответил вороненок. Взял его старый ворон за шиворот и выбросил из гнезда.
– Да что же он делает? Ведь вороненок погибнет тогда, – воскликнули мы хором.
– Не перебивайте, детки, дослушайте до конца.
А тут скоро и второй вороненок проклюнулся, вылез из скорлупы, радуется белому свету. И его спросил ворон: «Будешь меня кормить, когда я старым стану?» – «Буду!» И его выбросил ворон.
Наконец проклюнулся последний, третий вороненок: «Будешь кормить меня, вороненок, когда я старым стану?» – «Буду, но до тех пор, пока у меня самого воронята не появятся», – ответил третий вороненок.
Его и оставил в гнезде старый ворон. В природе все на этом держится, старшие дают жизнь младшим, выкармливают их; потом они забывают друг друга. Но люди не вороны. Мы отличаемся от всего живого не только тем, что говорить умеем. Людям нужно многому научить младших. Поэтому дети должны почитать и поддерживать стариков не только в благодарность, не только потому, что этого требует сыновий долг, но и для того, чтобы старые смогли передать то, что сами знают. Как у жердельки: цветочки на ветках держатся, ветки из ствола растут, а ствол от корня идет. Вот и мы с бабкой, как тот ствол – шершавый, черный; родители ваши – это ветки толстые, а вы – молоденькие, свежие веточки. А корни – это мои родители и прадеды. И не можем мы друг без друга. Не могут корни жердельки без лепестков, без листиков, через них дышит дерево, не могут без корней и ветвей лепесточки. Все связано. Так и у людей. Все дружно должны жить.
– Деда, а почему не все живут дружно? Почему Миколкин отец от них уехал? Почему он их бросил?
– Видите, хлопчики, – дед задумался, – и в природе так бывает. Вот жердельки тоже болеют. Иногда ветки целые засыхают, иногда гусеница на них нападает, вредители разные. Если сильное дерево, то устоит. А слабое заболеет. Так же и люди: сильный человек прежде всего о своих цветочках думает – о детях, а слабый старается сладкую жизнь себе устроить. Вот и убегает от хлопот и от забот. Потом под старость увидит, что один остался, не на кого опереться, никому он не нужен. Пожалеет тогда, да поздно будет – не простят ему этого, не примут его дети. И умрет он один, никому не нужный, и на могилку никто к нему не придет. Не помянут его добрым словом люди. Сладкая жизнь большой горечью оборачивается.
– Малы еще ребята для таких серьезных разговоров, – говорит бабушка. А дед знай себе рассказывает, и мы слушаем, ловим каждое слово, запоминаем. Прочно запоминаем: позже, когда в школу пойдем и когда взрослыми станем, не один раз вспомним его притчи. А пока стараемся расспросить обо всем деда, благо на многочисленные «почему» у него есть время ответить. Интересно нам все, и про деда интересно, где он рос, что делал, когда маленьким был? Спрашиваем, а он, довольный, улыбается, ему тоже интересно рассказать, молодость вспомнить.








