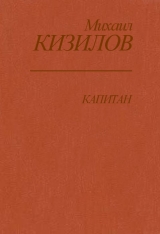
Текст книги "Капитан"
Автор книги: Михаил Кизилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
На белой тропе лежали голубые извилистые тени от ветвей и деревьев, от них рябило в глазах, ему чудилось, будто запутался он в крепкой сети, как муха в паутине; пугаясь этого, он рвался вперед с еще большей силой и отчаянием, но выходило – лишь торопливей приминал снег лыжами, продолжая двигаться с тою же скоростью – медленно и трудно, цепляясь лыжами за ветки и толстые, узловатые корни деревьев, выползающие на тропу.
В распадке зимовья не оказалось. Григорий заскользил по склону сопки, торопясь обогнуть ее. Потом была вторая. На длинном, знакомом ему хребте третьей он запутался лыжей в петле узловатого, оборванного корня и сорвался на обнаженную каменную осыпь, сломал лыжи, а сам упал с трехметрового обрыва.
Долго лежал, постанывая от ушибов. Потом боль утихла, Григорию стало теплее и уютнее, и он, прикрыв лицо от ветра рукавицей, задремал.
Сквозь сон он вспомнил наконец то место, через которое только что шел. И облегченно понял, что нашел зимовье Федотыча, до которого, если идти напрямик, оставалось не больше двухсот метров.
Ветер убаюкивал Григория, но иногда, кажется, он приносил запах дыма и отрывистый лай собак. Но желания идти не было. Хотелось еще немного передохнуть. И снилась ему такая же реальная зимняя ночь, как и та, которая окружала его.
Снилось, что ночь была светлая! Все вокруг было красиво и торжественно. Но не было ему дела до этой чудной красоты, которую он воспринимал только умом, им овладело полнейшее равнодушие ко всему.
Он даже не обрадовался, когда вдруг увидел перед собой приземистую, присыпанную снегом избушку.
Он обошел вокруг зимовья, отыскивая нарту, но ее нигде не оказалось. Это удивило Григория, и только теперь он обратил внимание на давние следы, а новых не было. В снегопад к избушке приходил какой-то человек, около дверей он рубил сухостоину, тут были разбросаны запорошенные снегом щепки и лежала недорубленная верхушка дерева. Человек пришел с верховьев речки и туда же ушел, о чем говорил поблескивающий в лунном свете нартовый след.
«Наверное, Федотыч приходил, а потом ушел куда-то, – равнодушно подумал Григорий. – Ну и черт с ней – обойдусь без нарты. Она вроде и не нужна мне. – Но тут же догадался, что вместе с нартой Федотыч, наверное, взял на таборе и топор. А коли так? Коли хозяин и топор забрал? Проклятье! Да подавись ты, старый черт, своим топором! Напилю пилой тонких жердин, вот и будут дрова. А вдруг пилу тоже Федотыч унес или ее украли? Вдруг туристы какие-то все забрали? И ничего нет в избушке. Ничего! Труба дело! Пропа-де-ешь, пропа-де-ешь…»
Эти мысли подхлестнули его, он рванул на себя дверь, шагнул в ледниково-холодную темень избушки, дрожащими, застывшими пальцами, просыпая из коробка спички, зажег стоящую на столе свечу, огляделся.
Топор лежал перед печью, здесь же была сложена охапка сухих дров, поверх которых лежали береста и смолистые щепки. Пол был чисто выметен, и все вещи лежали на своих прежних местах, только спальный мешок Федотыча не лежал на нарах, как прежде, а был аккуратно свернут и подвешен к потолку – подальше от мышей и сырости.
«Слава богу, все на месте», – облегченно подумал Григорий, ведя взглядом полки и стены избушки. Потом он некоторое время глядел на огонек свечи, словно бы прислушиваясь к тем чувствам, которые должны были хлынуть сейчас из его души. Но не было в душе ни боли, ни тяжести, бередило только какое-то раздражение, какое-то ускользающее воспоминание.
Григорий растопил печь, принес с речки воду в чайнике, поставил его на печь. Печь была большая, чугунная и поэтому долго не накалялась; он нетерпеливо сидел над ней, сонно покачиваясь, вздрагивая от холода. Но вот избушка, наконец, наполнилась теплом, однако пахло не как всегда, смолистыми поленьями и прелью, а сырым мехом и оттаивающей землей. Он натолкал в топку еще поленьев, прилег на нары и стал ждать, когда закипит в чайнике вода. Тогда он заварит чай покруче, нальет горячего чая во фляжку, возьмет топор и спальный мешок и побежит.
Да куда бежать-то? Зачем ему бежать из тепла? Но снова засвербела какая-то назойливая мысль, какое-то отдаляющееся воспоминание, и он опять не мог поймать его.
Монотонно шипела на горячей плите пролитая из чайника вода, глухо и ровно шумела под льдом река, перед глазами, то сливаясь в большое радужное пятно, то раздваиваясь на два желтых лепестка, ритмично колыхался огонек свечи; по больному, избитому при падении телу убаюкивающими волнами разливалась теплая, благостная истома… Еще какой-то бурлящий звук вскоре донесся до его угасающего слуха, донесся и пропал, все стихло. И вдруг перед ним появился Степка. Он сидел, прислонясь к железному боку печки, и, улыбаясь, говорил:
– Ты беги, Гриша, беги, а я тебя здесь подожду.
И в тот же миг Григорий проснулся. Пробудился не столько от мертвого холода, от которого уже онемели было его руки и ноги, от предчувствия своей близкой смерти, а от слов Степана, услышанных наяву. С минуту Григорий напряженно вглядывался в тайгу, рассматривал крутую стену осыпи, с которой сорвался, пытаясь вспомнить и понять, где он и что с ним. И вдруг снова почувствовал нарастающую тяжесть громадной, чудовищно страшной, непоправимой беды, которая свалилась на него и на Степана.
«Он ждет меня! Ждет!» – и от этой мысли Григорий окончательно проснулся. Он хотел быстро вскочить и мчаться, кричать, но тело плохо подчинялось ему, он с трудом встал на колени. Ему послышался лай собак. Григорий попытался взобраться на каменную осыпь, с которой свалился, но сорвался. Неудачной оказалась и вторая попытка. Тогда он огляделся и удивился, что пытается лезть по обрывистой стене, в то время как если немного обогнуть ее, то можно выйти к зимовью.
Через полчаса, завернув в спальный мешок топор и фляжку, приторочив их к нарте, Григорий с Федотычем выскочили из зимовья и торопливо заскользили в тайгу по следам, оставленным Григорием.
Луна только что скрылась, и там, где она исчезла, над темными горбами сопок, виден был ее перламутровый свет. В мертвенно-бледном, чуть синеватом небе острыми холодными иглами посверкивали звезды. Мороз выдавливал из глаз отстающего Григория мелкий бисер слезинок. А внизу над речкой там и сям мутно-белыми клочьями недвижно висели туманы.
– Быстрей! Быстрей! – подгонял себя Григорий. – Только бы успеть.
У Григория уже не было сил бежать, кололо в боку, он хрипел, кашлял, давясь и обжигаясь огненно холодным воздухом. Он проклинал тайгу, себя и весь белый свет. Временами ему казалось, что все это происходит с ним во сне – в страшном, кошмарном сне, и тогда на мгновение к нему подступало облегчение, слабой искоркой вспыхивала в его сознании надежда на спасительное пробуждение; но искра, сверкнув, тут же гасла, как светлячок в жестком, безжалостном кулаке, и вновь наваливался темный страх.
Он четко ощущал упруго-рассыпчатую поверхность своего следа, видел угрюмо проплывающие мимо мохнатые темные ели, слышал, как скрипит и тяжко охает под ногами снег.
Тайга, окутанная морозным инеем, стояла не шелохнувшись, точно замерла. Все так же глухо шумела подо льдом река, все так же назойливо рвал лицо ветер.
Над сопками занималась заря.
Красный Угол
Присесть, по обычаю, на дорожку, собраться с мыслями и – в путь. Я ожидал привезти впечатлений необыкновенных, так как помимо деловых встреч, назначенных моим начальством на срок командировки, мне предоставлялась возможность увидеться на Дальнем Востоке со школьным приятелем – Женькой. Испытывал ли я перед этим волнение, тревогу? Да нет, не собственные чувства одолевали меня на протяжении всего пути от аэропорта Москвы до дальневосточного Арсеньева, где должен был встречать меня Женька. Я лишь пытался представить, какие эмоции вызовет мой приезд у старого приятеля, он ведь теперь не москвич, а истинный таежник, живет в деревне с каким-то архаичным для нашего времени названием – Красный Угол. Где-то, слышал, есть Красный Пахарь, Красный Маяк, просто Красное, наконец, но в них хоть какое-то отражение современной жизни, а тут – не поймешь что.
Пасмурный и моросный день августа во Владивостоке – это не августовский день в Москве. После столичной духоты погода в чужом краю прельстила меня своей натуральностью, что ли. На нее не действовали ни асфальтовые корки дорог, ни многоэтажки проспектов, ни озеленение. Здесь погода была сама по себе, независима, как недалекое море.
Женька заждался меня, но особо не распространялся: мол, ах, как я рад, ах, как ты не изменился, ах, как там наша Москва. Москву он не вспомнил ни разу. Забыл ли он город своего детства, или здесь и впрямь так сказочно хорошо жить, что и маму родную не вспомнишь – я пока не знал.
Энергичное – как включают ток рубильником – рукопожатие, легкий кивок в сторону стоянки автомобилей, где через минуту «занервничал» его резвый «газик», выходя на дистанцию Арсеньев – Красный Угол, – вот и вся встреча.
Четыре часа по такой, как эта, разбитой грунтовой дороге – и, уверен, Гоголь не написал бы красивой фразы, лишающей трезвого разума любого мало-мальски умелого шофера: «Какой русский не любит быстрой езды…» Женька гнал в темноте вопреки любым доводам рассудка, прочесывая фарами несущегося чуть ли не по воздуху «газика» монолитные боковые стены просеки, словно в погоне за преступником. Я мечтал, чтобы хоть на минуту прекратилось это сверхскоростное движение, но Женька время от времени утешал, выдавливая сквозь зубы:
– Потерпи маленько. Здесь совсем близко.
Я и терпел.
Невероятно, но мы доехали благополучно. Ужинали так же торопливо, как и ехали. Жена моего друга с болгарским именем Светла кормила нас, даже не присев, ловко прислуживая, как официантка. При этом на ее лице то и дело появлялась улыбка, такая же проворная, как и руки, мелькавшие с тарелками над столом.
– Еще понемножку? – Женька вопросительно посмотрел на нее, кося выразительный взгляд одновременно и в мою сторону.
– Совсем бессовестный, загнал гостя, – возмутилась Светла, все так же услужливо улыбаясь. – Ему спать хочется давно.
И убрала со стола зеленый графинчик с какой-то невероятно хмельной жидкостью – спирт, настоянный на таежных травах.
Я и вправду раскис, как несправедливо наказанный ребенок: эта морочная гонка, потом такое же спешное пережевывание угощения за столом, глотание одна за одной из наперстковых рюмок жгучей выпивки сделали свое дело – разговаривать ни о чем не хотелось, радости от встречи с другом не было.
– Понял, – смирно согласился Женька и положил ощутимо тяжелую руку на мое плечо. – Значит, дружочек, отдыхай, как пожелается. Ешь, когда захочешь и что захочешь, а вечером, если пожелается… – он показал рукой на место, где только что стоял графинчик с искристым напитком, давая понять, что нас ожидает по вечерам. И мигнул Светле: – Давай, стели гостю…
Спать мне предложили на сеновале – в роскоши запахов свежего сена и накрахмаленных простыней. Я как лег, так и уснул тут же, словно потерял сознание.
Утром приснился удивительный сон, в котором не важно было действие, но неповторимы ощущения – зыбкое, едва уловимое чувство единства с рыбами, плавающими в прозрачной воде горной речушки. Похоже, рыбы, с искрящимися глазами в коричневых ободках, улыбались мне нежно и утомленно. И одна из них, самая сильная, хвостом коснувшись в стремительном разбеге чистейшего песка на дне, взмыла вверх и подплыла к моим ногам, держа в мягких больших губах перстень с рубином редкого красного цвета. Я протянул руку… Рыба всплеснула хвостом и исчезла. И смех ее рыбьих подружек прозвенел в тишине сна, как, бывает, звенят елочные игрушки, если ненароком заденешь новогоднюю елку – дзынь, дзынь, дзынь. Я подумал, проснувшись, что смеялись рыбы надо мной – как над дураком…
Было уже около десяти. С высоты сеновала я выглянул в оживленный утренний мир таежной деревеньки. Раскачиваясь, как канатоходец, на заборе балансировал петух, растопырив крылья и горланя во всю мочь свою единственную песню души. Моему взору открылась картина: тридцать, не более, домов деревеньки, казавшихся макетами архитектурного плана, а не жилищами. Здесь не работала машина времени – не слышался гул автомашин, не виднелись краны строек, – было тихо и зелено. Вершина высокой сопки за домами светилась от восходящего солнца. Первые лучи подсвечивали зелень исполинских кленов на склоне. И все, что предстало моему взору, казалось необычным, далеким от привычной мне городской действительности.
Я спустился вниз и тотчас ощутил, что утро наполнено и звуками – кудахтали куры, пели птицы, жужжали пчелы, сыто похрюкивал поросенок, где-то близко рычала собака. Я огляделся. Двор большой, но не обнесенный, как у других, забором. Словно граница, пролегла распаханная земля – между постройками и огородом. Огород, большой и ухоженный, полого спускался к торопливо бегущей речушке-каменке. Чего здесь только не было: картофельные груды, кукурузные рядки, возвышающиеся над всем, как парус степенной лодки, огурцы, помидоры, лук, а вдоль огорода ярко светились желтые кругляшки дынек.
Светла орудовала тяпкой, и мне не хотелось прерывать ее работы своим «здрассте». Так красиво и ловко мелькали ее руки, что я невольно залюбовался, а услышав за спиной Женькино «как спалось», вздрогнул от неожиданности и покраснел, будто он уличил меня в каком-то греховном желании.
– Я спал как в сказке!
– Да, на балконе так не поспишь, хоть и тоже на воздухе, – засмеялся отрывисто Женька. – Ну, пошли умываться.
Снял полотенца с бельевой веревки, натянутой во дворе, и мы пошли по тропинке через огород, вниз – к речке.
Как и подобает хозяину, Женя, чуть пропуская меня вперед, показывал рукой то в одну сторону, то в другую, объясняя, где что растет.
– Смотри, это лимонник, а это дикий виноград…
Я не успевал запоминать и тут же мог перепутать, где что. А Женька спешил дальше, хвастливо и сбивчиво повествуя о хорошей жизни:
– Вот таких леночков таскаю, сантиметров до сорока.
Я не поверил.
– Ну, наполовину, а хариусы, конечно, поменьше. Вот в этом омутке таскаю. Каждое утро…
Воды в омутке, где мы умывались, было мало, и я снова не поверил.
– Уху сейчас есть будем или вечером? – насмешливо спросил он. – С десяток сегодня натаскал. Когда я начинал в леспромхозе работать, вот на это самое место кета на нерест заходила! Да. Нету воды, нет и рыбы.
Женька смыл с лица мыло.
– А куда она подевалась? Вода и рыба?..
– Туда, куда все девается, – ответил он так, будто я в этом был главный виновник. – Лес вырубили, влагу нечем удерживать… Ты же знаешь, что влагу корни удерживают. Речки обмелели. Это, дружочек, теперь не тайга. Разве что для вас, таких, как ты, городских, – пахать.
– А ты себя здешним считаешь?
Он проигнорировал мой вопрос и сказал совсем о другом:
– Представляешь, превратности судьбы! За рубку леса мне грамоту дали, когда я вальщиком в леспромхозе работал. А в прошлом году – медаль «За трудовое отличие». За что? За то, что леспромхозовских гоняю – не придерживаются правил рубки леса, не думают о молодняке. Теперь я – лесничий.
Я понял, засмеялся:
– Это у Бидструпа карикатура есть: архитектору орден дали за строительство красивого здания, а пилоту за то, что он разбомбил его. Оба грудь выпячивают.
– Вот-вот, вечная тема для карикатуристов…
– А ты бы не бегал с места на место, – я вроде как пошутил.
Женька серьезно посмотрел мне в глаза:
– Понимаешь, смысл такой – всюду работать надо как следует. Вот мой закон.
– Ну есть же правила, наконец.
Женька вздохнул и посмотрел на меня как на глупого школьника:
– Правила? А кто их, эти правила, сочиняет? Если уж ты такой… сантименты разводишь, то я тебе популярно объясню: это как в школе: один спрашивает математику, и, хоть лопни, выше этого предмета нет, а другой, такой же убежденный в исключительности литературы, будет гнуть свои требования. – Он постучал себе ладонью по лбу: – Вот они где, все правила. Разум. Разум на рабочем месте, лесник ты или учитель… Когда я нагляделся на леспромхозовское варварство, ушел. Но я ушел – другой «дуб» пришел. Так вот.
Я хотел спорить, доказывая, что не все «дубы», как он выразился, но, взглянув на речушку, мелководно перекатывающуюся по камешкам, представил себе здесь полноводный поток с прозрачными струями, с рыбами, приснившимися мне на новом месте. Где же истина? И чем для меня плоха эта речка? Чем плоха для меня тайга? Вырубили кедры и вековые липы?
Во дворе под черемухой нас ждал накрытый стол. Столешницей служила круглая ясеневая плаха не меньше метра в диаметре. Вместо стульев – чурбаки.
– Жень, сколько же лет твоему столу?
– Что? О чем ты? – не понял он, сощурив вопросительно глаза.
– Да вот, плаха ясеневая вместо стола…
– А, ясенек… Триста лет. Это мы с Вальком не поленились, из тайги притрелевали. Из такого бурелома вытащили – о-ей. От старости упал, бурей своротило, а ведь рос, как колонна – мощный… Я плаху воском натираю, чтоб не сгнила под дождем и от жары чтоб не потрескалась! Мебель… – усмехнулся он. – Тут у нас редко, но еще попадаются такие вот долгожители. – Голос Женьки потеплел, плечи расправились. Забыты глобальные проблемы века и леспромхозовские мелкие дела. Но вдруг он поскучнел и грустно сказал: – На костях наших оседает висмут, стронций, свинец. Мы незаметно чахнем. Но думаешь отчего? Да оттого, что души наши давным-да-а-вно исчахли. А ведь человек мог бы летать, да. Я подсчитал: килограмм съеденной свинины прибавит и тебе килограмм собственного веса. А баранина в полтора раза тяжелее. Сколько ты уже съел? Тонну? Куда же тебе летать с таким балластом?
– А ты что, святым духом сыт?
– Я тонны на три, дружочек, увеличил свой вес. Тонны три меня отдаляет от полета… Ну найди выход, ты ж институт закончил. Неужель учился только, чтоб свою тонну съесть?
– Не знаю, Жень, не знаю…
– То-то, – сказал, словно точку поставил, Женька.
Мы пошли по узкой лесной дорожке от огорода, прогуляться немного. С одной стороны ее – приречные заросли ивняка, ольхи, клена, с другой – тянулась полоска мелкого леса. Дорога поросла глухой травой. Непросыхающие лужи в колеях – видно, здесь вывозили древесину – подернуты зеленой ряской, туда-сюда носился паучок-водомер. Над застоявшимися лужами повисла мошка. Тень от деревьев держалась по всему коридору дороги, а вдалеке, словно выплеснулась отсюда, – ярчайшая лазурь неба.
Я вспомнил, что вчера, когда шел спать на сеновал, видел высокое звездное небо, и оно показалось мне неправдоподобным по своей величине и яркости.
Мы вернулись во двор, к ясеневому столу под черемухой.
– Жень, отчего вашу деревню называют Красным Углом? – спросил я, усаживаясь на чурбан.
– Все ясно: триста солнечных дней в году, тепло, безветренно. Микроклимат… – И после недолгой паузы добавил – Что-то библейское – агнец веры…
Светла к нашему возвращению с прогулки переоделась в легкий сарафанчик и, действительно, была вся светлой, радостной. Стояла на пороге, у ног ее терлись две пушистые кошки.
– Завтрак, значит, готов, – констатировал Женька, оглядев жену с ног до головы. Подергал носом, принюхиваясь к запахам кухни. – Горячий завтрак! – крикнул весело. – Это уж точно в твою честь. Меня она этим не балует. Да я и сам не хочу…
И только я, довольный, разулыбался Светле, как хозяин крикнул зло:
– Опять ты эту плеть подняла! Сколько говорить, оставь в покое, пусть засыхает!
Я взглянул на виноград, который оплел веранду. Никакой старой плети не обнаружил. Чего это он?..
– Сегодня на завтрак ушица, – будто не слыша его, пропела нежно Светла. – Горяченькая…
Женька успокоился мгновенно.
– Ну, подавай на стол, попотчуем гостя.
Только взялись за ложки, затарахтел мотороллер.
– О! – Женька поднял кверху палец, вслушиваясь.
В калитку вошел парень в ватнике, в крепких яловых сапогах и ярком шлеме.
– Сердце мое! К столу, к столу, – засуетился хозяин. – Садись, Валек! Подружка, давай тару для нового гостя! – обратился он к жене.
– Не-е, мужики, не буду. Я до вечера в тайгу, – отвечал парень, пожимая мне руку. – Просто по пути заскочил узнать: приехал твой товарищ или нет?
– Как видишь! – Женька похлопал меня по плечу. – Большой специалист по лесу, – хвастливо добавил.
Я промолчал: пусть врет, если хочется. Женька обратился ко мне:
– Хочешь с Вальком покататься по тайге? Он такие здесь места знает, ого-го! Фомич не знает таких.
Валек скромно улыбнулся на такую рекламу.
– А кто такой Фомич? – спросил я, просто чтобы спросить.
– Есть такой тут, – вдруг резко сказал Женька. – Да ладно… Потом познакомлю, если захочешь, ну его, к чертям собачьим… Поедешь, а? – не меняя тона, так же резко спросил меня.
Не разобрав как следует вкуса, я дохлебал уху из хариусов и поспешил за Евгением в кладовку – подобрать сапоги по размеру, штаны, куртку.
– Экипировка, – проговаривал Женька, помогая надеть все это. – Здорово тебе повезло, что Валек заглянул. Этот человек тайгу любит, как… как… – он не подобрал слов, чтобы выразить любовь Валька к лесу. – Теперь сюда лишь в отпуск приезжает, на Камчатке плавает, а сам местный. О, мы с ним в такие дебри забирались. В общем, не пожалеешь о поездке. Ружье возьми…
– Да ну, – отмахнулся я.
– Бери, бери! – настаивал друг. – С Валентином хоть пушку бери, разрешаю…
Ехали мы очень быстро, «Вятка» летела стрелой – сначала по дороге, потом по тропинке; выскочили на сопку.
– Отсюда пойдем бродить, – сказал Валентин, заглушая мотороллер. – Здесь есть что посмотреть.
Было жарко, градусов тридцать. Деревья – дубки, березы, тополя и кое-где ясень – прохладу держали плохо. В зарослях кустарника парило как в бане, да еще с непривычки показалось, что гнус и мошка из всей тайги слетелись на одного меня.
Валек быстро зашагал вперед, я старался не отстать или хотя бы не потерять его из виду. Продравшись через плотную стену лещины, переплетенной узорами лимонника и других вьющихся растений, незнакомых мне, вышли на ровное место. Стволы деревьев тянулись высоко вверх, метров на пятьдесят, и их развесистые кроны таили мягкую прохладу, тень опускалась до земли. Но и солнечного света хватало. Это было удивительное зрелище. Свет с неба как бы скользил по ветвям вниз, окружая дерево солнечным кругом. Первое, что пришло на ум: светлица, горница, покой.
– Тиссы, – шепотом объяснил Валентин. Я не понял, но кивнул, соглашаясь и переводя это слово по-своему, на понятный мне язык – тишина.
Оказалось, это деревья.

– Десять лет назад, – продолжал шепотом Валентин, – они чуть было не отправились на мебель. – Он погладил ствол. – Мы с Женькой тогда еще работали вальщиками. На этом участке – по Макарову ключу. Какой-то деляга-руководитель велел вырубить тисс – по спецзаказу. – Он улыбнулся, вспоминал: – Мы с Женькой чуть ли не бунт объявили, Комиссия тогда приехала, приказ уволить подписали, но не одолели ничем. Никто из бригады не захотел тисс уничтожать…
– А как же вам все-таки удалось… отстоять?
Валентин задумался. Мне показалось, что не хочет рассказывать по каким-то своим причинам. Но он ответил:
– Первую ночь Женька здесь караулил. С ружьем. А я на попутку – и в краевое управление махнул.
– А дальше?
– За ружье, конечно, влетело. Но вот, как видишь, стоят… – он протянул снова руку к стволу и погладил.
– Ладно, пошли.
Мы двинулись через рощу, и я подумал – как через Георгиевский зал.
Вдруг от неожиданности я вздрогнул: из-под ног выпорхнула птица. Да какая большая. Птица фыркнула и исчезла. Как молния.
– Рябчик, – сказал Валентин.
Стараясь ступать тише, вышли к срезу хребта и по следу, отпечатанному с той поры, когда здесь брали лес, спустились в низину. Время от времени Валек приостанавливался, поджидая меня, шептал:
– Гляди, здесь кабаны проходили ночью, а вот козлы были… Матерый парень прошел, матерый.
Я, вроде как понимающий, согласно кивал головой, а иногда и вправду замечал разницу между одними следами и другими. Воображение тотчас подсказывало: удлиненная хищная морда вепря. Страшный рык… И – картина дорисовывалась: кабинет, камин, мягкий свет огня, и отсветы пламени выхватывают на стене чучело головы вепря, стеклянный холодный взгляд…
Я поторопился нагнать Валентина, который опять вглядывался в землю у себя под ногами. Он хотел показать мне козла.
Но никаких козлов не встретилось, хотя – вот следы, вот лежка. Видно, кто-то испугал, ушли. Когда мы выбрались на дорогу, ее пыльное полотно было словно раскрытая книга – козлы, точно, бежали. Наследил и еще кто-то.
Валек оживился, заговорил громко:
– Смотри, уточка проковыляла, вот здесь свернула. А это? Чей след?
По пыли тянулась тоненькая полосочка.
– А это – змейка проползла! – обрадовался он моему удивлению. – Мелкая змеечка… А тут вот – полоз… А здесь – отряха-барсук дорогу перескочил. Торопился…
Незаметно и я втянулся, как в игру, в это угадывание – кто из лесных обитателей двигался через дорогу или вдоль.
Валек, довольный, как учитель после трудного урока, потер ладонями одна о другую.
– Знаешь, – неожиданно предложил он, – пошли уточек постреляем.
И я не понял по голосу, что он сказал ласковее – «уточек» или «постреляем». Вообще-то я люблю пострелять, но как-то не вязалось сейчас в моем представлении охота с этим зеленым покоем. Валентин посмотрел на меня внимательно.
– А вообще-то, – сказал он, – пошли в тир. У меня здесь тир имеется. Свой. Душу отвожу, когда пострелять хочется…
Я еще раз удивился этому человеку.
Мы шли на расстоянии двух метров друг от друга и скоро спустились к реке. Я нес заряженное ружье в руке на отлете. Ближе к берегу взвел курок, приготовился, Валек непонятно начал суетиться, оглядываться на меня, что никак не похоже было на него – высокого, сильного, уверенного.
– Тебе что, уже приходилось уточек стрелять? – спросил он неожиданно недобро.
– Раза два. Но оба – неудачно.
Валек подобрался, стал строже лицом, напряженнее.
Прошли поворот, другой – река петляла все чаще. Потом по скользкому бревну перебрались на другой берег – уток нет. Я спустил курок. Валентин сразу же приосанился, пошел свободнее, не оглядываясь больше.
И все же я увидел утку! Под самым бережком сидела она на поваленном стволе и преспокойно чистила перышки. Замерев на полушаге, я затаил дыхание и взвел курок снова. Прицелился, взяв на мушку лапки птицы. Но тут над головой ахнул выстрел. Спугнутая утка крякнула и исчезла в папоротнике на берегу. Валентин, как будто ничего не произошло, ахнул выстрелом еще раз – правее места, куда ускользнула уточка, сбив зарядом лишь верхушки растений.
– Ну, надо же, – крякнул он почти как утка, – с двадцати метров не попали.
Я сочувственно кивнул, хотя знал, если бы он хотел, то не промахнулся бы. Ладно уж, охоты нет, и это не охота.
Дальше, как нарочно, дичи не попадалось. Оно и понятно. Солнце припекало нещадно, все живое искало прохлады. Мы гоже приостанавливались в тени чуть ли не через каждые десять метров.
– До тира километра два-три вверх по сопке, – предуведомил Валентин. – Пошли.
Ничего не поделаешь, пошли. Да потом еще к мотороллеру возвращаться не меньше.
И вот вышли к сопке. Здесь было чисто, светло, а тиром служил крутой песчаный обрыв. На проволоке висели вырезанные из дерева кабан, медведь да две автопокрышки со вставленными крест-накрест жердинами. Метров с пятидесяти мы начали «отстрел».
Валек стрелял с вытянутой руки, щеголял будто, с «воздушкой». Зарядив оба ствола, почти не целясь, стрелял дуплетом: первый выстрел отодвинул в сторону автопокрышку, второй – вернул ее на место. И глядя, как он решетит кабана и медведя, я понял: по уточке он не промазал. Валек опередил мой выстрел, побоявшись, что я убью утку.
– Люблю нюхать пороховой дым, – сказал он вдруг, лениво опуская стволы книзу. И потянул воздух носом.
– Понятно уж…
– Да ладно, не обижайся. Я знал, что ты поймешь… Слушай, хочешь, покажу такие штучки?.. Чего только нет в нашей тайге!
Вернувшись на место, где нас ожидал мотороллер, мы съездили в гости к енотовидным собакам. Племя их, штук тридцать, понастроило в уютной ложбинке много земляных ходов. Собаки мы не увидели ни одной, зато налюбовались плодами их активной деятельности – свежеразбросанной землей, подрытыми камнями.
– На каждую собаку – два входа, – объяснил мне Валек. – Запасной и парадный.
– Как в кинотеатре, – пошутил я не к месту.
– Давай завтра снова в тайгу, – предложил я ему. Валентин охотно согласился.
…Утро выпало росное. Туман уже начал расходиться, когда мы тронулись в путь. Лежал по распадкам легкими пластами, подтаивал по краям. Вот-вот ожидалось солнце, свет за сопкой становился все выше. Туман на глазах иссяк.
И снова мы на «Вятке» поднялись вверх по хребтине, оставили мотороллер, а сами через высокие папоротники и незнакомый мне кустарник отправились пешком. Крупные листья, как чаши, были наполнены росой до краев. Пауки додремывали последние минуты – скоро солнечные лучи спугнут ловцов мушек, отсыревших вместе с кружевами паутин. Валентин снова шел впереди меня, и снова, как вчера, из-под ног вылетела птица. Теперь я знал – рябчик! Он летел впереди нас, то и дело опускаясь метрах в семи-восьми, и хвост его был раскрыт веером, в точности как на картинках в детских книжках. Потом улетел в сторону. Валентин поглядел на меня, улыбнулся:
– Ну, чего?! Хорошо?! Я кивнул.
– Еще есть одно уникальное место. Сейчас покажу.
Мы прошли вперед метров десять, и я не сразу понял, что находимся в дубовом лесу. Именно в дубраве. Воздух чист и мягок, а земля прохладна и как будто ухожена, как в парке. И хотя могучие, крепкие стволы стояли то тут, то там, не тесно и не далеко друг от друга, – было ощущение простора, необъятности этого леса. И тишина здесь была особенная, дубравная, где нет иных звуков, кроме шороха листвы над головой – каждого листика по отдельности. В лучах яркого утреннего солнца дубрава была празднична и величава. Но кое-где виднелись пни.
– Для паркета дуб брали, – уныло пояснил Валек. – Помощней этих, – он указал на красавцев. – А там, – он махнул рукой, – за сопкой, липу на балалайки извели. Для музыки, для человека… Неинтересно живу, – сказал он как бы между прочим. И я насторожился: откровение? Ничего так не боюсь, как чужого откровения. Он продолжал – Когда я возвращаюсь из рейса на берег, ничего так не хочу, как поскорее попасть к себе в тайгу… Ни в рестораны, ни в кино не тянет.
Но почему он уехал от всего этого? Спросил же я его совсем о другом:
– Валентин, а почему вашу деревню назвали Красный Угол?
– А-а, почему… Солнце всходит в углу долины, а заходит в ее противоположной стороне. Восход и закат – все в красном свете. Это Женька там чего-то придумывает про библейское… Пошли, покажу, где на изюбря охотятся.








