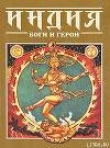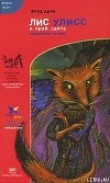Текст книги "Змей Рая"
Автор книги: Мигель Серрано
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Я часто оказывался в потоке этих процессий, шествующих сквозь сказочную ночь, источающих ароматы таинственные и смертельно опасные. Увлекаемый течением, я начинал забывать о том, кто я и куда иду. В действительности, я начинал сомневаться и в том, сумею ли когда–нибудь возвратиться в свой край.
Прогулки по этим улицам – как проникновение в сон. Движущиеся сонмы повозок, трамваев и велосипедистов, кажется, существуют только в виде призрачных теней, ведь между тысячными потоками транспорта никогда не случается столкновений. Внезапным поворотом велосипедистам и рикшам удается разминуться, и всё остается безмолвным, как в сновидении. Порой я гадал, а реальна ли сцена передо мной, или это всего лишь отражение жизни какой–то иной планеты. Мне случалось испытывать почти непреодолимое желание броситься в гущу потока – я был уверен, что останусь невредим, а машины пройдут сквозь меня.
Нищета Индии так же фантастична: очевидная отчаянная бедность Чандни Чоук или железнодорожного вокзала Старого Дели кажутся почти нереальными. Городам средневековой Европы подобные сцены могли быть не чужды в годы чумных моров, но сегодня в мире нет ничего подобного индийской бедноте. Повсюду на улицах нищие, больные и умирающие люди вливаются в движение; нельзя даже вообразить этих зрелищ, каждодневных для Старого Дели. Совершенно раздетые мужчины и женщины лежат на тротуарах, заедаемые мухами и муравьями, священники и богатые купцы проезжают мимо в элегантных автомобилях. Смерть и разруха повсюду очевидны, ничем не скрываемы. Изувеченные сифилисом или проказой бредут вдоль улиц, ступая по разливам собственной мочи, кровоточа открытыми ранами. Иные из них стали бесформенными чудовищами, без лиц, рук, иногда и без ног. Несколько дней подряд я видел завернутую в лохмотья женщину, что ползала по тротуару, ночуя на улице недалеко от моего дома: она разговаривала сама с собой, швырялась оскорблениями и дралась с собственными видениями – и каждый день становилась еще чуть мертвее. В другом закутке Старого Дели, на траве перед Красным Фортом, я видел валявшегося на спине негра – совершенно голого, с торчащим членом, облепленного мухами и пауками. И тут же рядом, рукой подать, кружились и плясали детишки.
В ночное время индийская нищета достигает пределов. Мужчины и женщины, утерявшие человеческий облик, собираются в кучи на камнях тротуаров, усевшись на собственных нечистотах, кормятся мертвой плотью. Зимой многие здесь замерзают насмерть. Так живут все крупные города Индии, и хуже всего, намного хуже – Калькутта.
Но рядовой хинду к этой нищете просто безразличен. Он не станет никому помогать, да никто всерьез и не станет просить его о помощи. Нищие здесь просят милостыню механически, и никогда не благодарят. Уже в этом видно философское осмысление нищеты, отделяющее хинду от всех прочих: здесь именно нищий оказывает услугу, когда просит о чем–то – этим он предоставляет дающему возможность исправить судьбу. И всё же, в глубине души хинду сомневается в уместности спасения тех, кто умирает на улицах. Дело не в том, что он не питает любви к этим людям. Он попросту не уверен, нужна ли умирающему помощь и хочет ли он ее – ведь всем надлежит до конца исполнить свою карму и перетерпеть теперешнее воплощение. Вмешательство грозит большей опасностью, чем свободное течение судьбы обреченного. Поэтому идея благотворительности не находит поддержки в этой древней стране; благотворительность процветает лишь в молодых странах. Нищим и умирающим она ни к чему. Их судьба зависит от колеса Фортуны, и в завтрашнем дне они будут богаты, а сегодняшние богачи окажутся нищими. Всё относительно и всё иллюзорно.
И потому я никак не мог избавиться от странной догадки: вся виденная мною нищета Индии из–за своей чрезмерности делается смешной. Поистине, эта нищета не развращает; в ней есть даже религиозная радость. Другими словами, благодаря представлениям индуизма, сама по себе нищета способна наделить душевным спокойствием. Даже те несчастные, что копошатся в выгребных ямах, хранят на лицах печать глубокого умиротворения. Этот пригожий духовный облик – отметина иной расы. Это знак народа, потерявшего всё, но по–прежнему оберегаемого богами.
Нищета моей родной страны совсем не такая. Зная об убийствах, алкоголизме, о бродящих по улицам Сантьяго бездомных и растленных педерастами детях, о нищих женщинах, сотни раз изнасилованных, нужно признать, что это развращающая нищета – она приводит человека к состоянию скотства. Пусть бедность Чили не так глубока, как бедность Индии – душ она не спасает.
Разница дополняется тем, что в Индии никто никогда не чувствует скуки. Атмосфера улиц духовна, почти космична, как если бы всё происходящее было отблеском жизни другой планеты. Тут хватает переменчивых течений, но есть тут и мир – до сих пор не утраченный.
Однажды я увидел мужчину, тащившего за собой тележку (с похожими на моей родине играют дети), в которой помещалось нечто невеликое: тело без конечностей, просто обнаженный бюст, руки обрывались у запястий. Это была женщина. Проказой были изъедены ее груди и часть лица, волосы свалялись колтунами, кожа сделалась иссиня–черной – это знак неизлечимой проказы. И, однако, взгляд ее был глубоким и умиротворенным. Проплывая мимо, он лишь улыбалась. Она ни о чём не просила меня. Но ее улыбка была столь потрясающе женственной, что я поистине почувствовал притяжение к этому созданию, этой женщине. Женская суть сохранялась в ней, незатронутая ярящимся недугом. Мужчина, везущий тележку, шагал бесчувственно, мутно глядя перед собой. Проказа и его пометила синеющей чернотой.
Ответвляясь от Чандни Чоук, лежит короткая улочка, со стороны ничем не приметная. Но это улица серебряных мастеров, и на повсеместных витринах здесь красуются серебряные украшения, браслеты и ожерелья. Улица эта ведет к великой Мечети Пятницы, в которой хранится Книга Пророка и отпечаток его ноги. Где–то здесь расположен и «Дворец слоновой кости», где можно купить любые из великолепных украшений. Слоновую кость здесь обрабатывают в соответствии со старой традицией, ныне быстро угасающей. Над некоторыми здешними изделиями корпели два, а то и три поколения: начал работу дед, а внук закончил. Резчикам слоновой кости платили за труд лишь ночлегом и пищей.
Вокруг мечети в переулках расположены дюжины мелких лавок, почти всегда многолюдных. Здесь есть даже лавки, продающие исключительно краденые вещи; на этих воровских рынках можно обнаружить заросшие мхом и пылью сокровища, персидские, индийские, монгольские: медные и каменные изваяния, резьба по дереву, самовары и старые миниатюры с поблекшими красками. Не так давно эти предметы продавались за гроши, но теперь их оценили скупщики антиквариата и туристы. Такие магазины, по большей части, представляют собой простые хатки–лачуги, а большую часть товаров их владельцы хранят в погребах старых домов по соседству. Отправиться в такой подвал в поисках сокровищ – всё равно, что пробраться в пещеру Али Бабы.
Но интересней всех прочих, конечно, лавки антикварные. Есть одна такая на Чандни Чоук – многолетнее семейное дело индийских ювелиров. Отец и глава – уже пожилой мужчина, время от времени совершающий религиозные паломничества в отдаленные части страны, ученик индийской наставницы–мистика Ананды Маи. Сын заведует лавкой. Атмосфера здесь тяжела: чадят палочки благовоний и сандалового дерева, кто–то в углу читает мантры и подносит цветы богу–слону Ганеше, сыну Шивы, дарующему удачу. Один из сыновей расстилает на пол белый платок, и приносит всё новые изумруды и рубины, старые эмали могулов, или кинжалы с рукоятями, изукрашенными драгоценностями или раджастанскими миниатюрами. Тогда можно сесть там, скрестив ноги, и неторопливо перебирать старые парчовые вышивки, золотые и серебряные, кашмирские шали, сделанные более четырех веков назад деревянным иглами. Именно в этой лавке меня настиг один из величайших сюрпризов моей жизни: здесь я обнаружил дедов перстень.
Я запомнил деда как болезненного старого мужчину с голубыми глазами, но более всего в память впечатались кисти его рук. Длинные пальцы и красивейшие ногти, я и сейчас могу вспомнить, как они выглядели за обеденным столом. На левой руке он всегда носил золотой перстень с темно–синим сапфиром. На камне помещался золотой вензель–монограмма.
После смерти деда некоторое время перстень носил отец, а потом его уже нигде не было видно. Я всегда был уверен, что получу перстень в наследство, ведь наши имена, мое и деда, совпадают. Но оказалось, что перстень утерян. Однако я никогда не забывал о нём. И вот, в диковинном восточном краю, в антикварной лавке на Чандни Чоук, я нашел его. Сапфир был на месте, но вместо желтого золота оправлен в белое. Инициалы деда были превращены в слог OM.
Всматриваясь в сапфир, я узнавал камень, столь часто виденный в детстве. Он был огранен в форме сердца, и нужно думать, изначально использовался как амулет. В Индии же сапфир считается опасным камнем, способным причинить смерть. Потому носить его следует только тем, кто астрологически ему соответствует. Тогда я не знал этого, но мне и полагается носить сапфир – я родился в начале сентября.
Сидя на полу антикварной лавки, зажав перстень между пальцев, я долго гадал, кому же он принадлежал всё это время, и кто вырезал на нем слог ОМ. Было ясно, что сапфир очень древний. Потом я попросил ювелира вынуть камень и поместить в такую же оправу желтого золота, какая была у деда. Но, пытаясь исполнить мое поручение, мастер сломал сапфир – как раз там, где он больше всего напоминал формой сердце. В результате он стал выглядеть в точности таким же, каким я помнил его с детства. Сам же ювелир пришел в ужас от своей оплошности: изготовив новую оправу, он не пожелал взять с меня ни пенни, и отдал мне перстень с множеством советов о том, как его правильно использовать, ведь на нём имелся священный слог ОМ. Итак, дедов перстень вновь вернулся ко мне. В конце концов, он оказался символом величайшей глубины и загадочности. Едва я прибыл в Индию, исполнилась моя детская мечта. И более того – как оказалось, само кольцо указывало на тот путь, которому я должен был следовать. Я понял, что мне придется вернуться не просто к своему деду, а еще более далеким праотцам, до самого истока, до великого Неназываемого, известного как Старец Дней. Индия дала мне такую возможность. Перстень на моем пальце замкнул круг, о существовании которого я давно подозревал.
XVII. Мать и любовница
Много лет я слышал рассказы об Ананде Маи, которую также называли Матерью. Еще до приезда в Индию я читал о ее жизни и слышал о ее таинственных силах. Умиротворенность и счастье Матери легендарны, и говорят, она совершенно преодолела собственное эго и присоединилась к мистической сердцевине бытия.
Однажды, едва только приблизилось утро, я отправился в Дехрадун, где располагался один из главных ашрамов Ананды Маи. В летнее время Мать переезжает в горы: в Дехрадун или в Алмору; зимой она живет в Бенаресе. Как и Рабиндранат Тагор, как Рама Кришна и Вивекананда, она родом из Бенгалии.
В тот июньский рассвет солнце едва поднялось, окруженное дрожащей аурой – будто между ним и нами была еще область некоего иного света. Дорога, по которой я шагал, и североиндийский пейзаж вокруг – всё казалось подверженным воздействию этого кошмарного, астрального света. Люди и верблюды, сцепившись в караваны, двигались по дороге, а воздух уже становился горяч. Но жар приходил не со светом. Казалось, он скорее предваряет свет, как это могло быть в горячем и темном мире до зарождения света; ведь свет может быть и холодным. И в тот июньский день свет имел внутреннее значение: печальная серость рассвета отражалась в душе. Жар же, наоборот, был совершенно внешним; он выжигал всё неважное, пока не оставались лишь чистые сущности. В результате я оказался охвачен особым чувством: я не шагал вдоль дороги, а брел в поисках Матери, стараясь отыскать собственную душу. Всё же, жара изнуряла, и даже закрыв глаза в близости Дехрадуна, чтобы сосредоточиться на Матери, я мог видеть лишь верблюдов, караваны: животных и людей. Эта внешняя сцена безостановочно повторялась в уме, но и ее необозримая пустошь была в чем–то изящна и изыскана. Не было ничего романтичного или сентиментального; момент был чересчур важным и трансцендентным.
Наконец, пройдя через тенистый лес, полный фиговых деревьев, я оказался возле ашрама Матери. Это был дом, похожий на любой другой. Он стоял на обочине пути, уводившего дальше к гималайской деревне Муссури. Входы в домик были обрамлены гирляндами цветов, а изнутри неслись звуки музыки, главным образом, барабанов и духовых инструментов. Как можно было слышать, внутри пришедшие пели, а снаружи повсюду собирались в толпы. Тут были мужчины, носящие шафрановые плащи нищих; некоторые, с лицами аскетов и ярко горящими глазами, были полуобнажены. Женщины собирались тут и там в отдельные группки. Люди беспрестанно менялись, приходили и уходили; они приносили фрукты и гирлянды цветов, а уходили, сложив ладони и склонив голову.
Поскольку было так людно, я решил не пытаться пройти в зал, а найти укромное место, откуда я мог наблюдать за тем, что происходило. Отойдя в сторонку, я присел подле молодого мужчины. Его борода была рыжей, а волосы отросли ниже плеч. Он был очень худ и смотрел перед собой сквозь полуприкрытые веки. Внутреннее помещение полнилось людьми, и, под пение гимнов к сидящей фигуре Матери взлетали облака розовых лепестков. Люди, входившие группами, опускались на колени и простирались у ее ног, поднося ей фрукты, цветы и другие дары. Она наклонялась, касаясь ладонью их голов, принимала гирлянды и возвращала фрукты; тогда паломники уходили прочь, со взглядами счастливыми и ободренными.
Белое сари Матери ярко контрастировало с темными предплечьями, вокруг которых обвились скромные браслеты. Черные волосы туго завязаны на затылке, а впавшие глаза казались огромными, бездонно темными. Ее губы часто приподнимались в улыбке, а голос был безмерно привлекательным. Чрезвычайно музыкальный смех играл мелодиями почти сладострастно–чувственными. Пораженный, я начал осознавать глубочайшую силу женственности Матери. Она говорила о Боге в манере поразительно кокетливой. Я наблюдал, как она обсуждала некоторые отвлеченные идеи с двумя брахманами: они пришли за ее советом, а она обезоружила их улыбкой посреди фразы, или смешком, связавшим два силлогизма. Произносимые ею слова были предельно серьезны и полностью соответствовали Веданте и святым текстам, но ее смысловые ударения, жесты, были совершенно обольстительны – ярче, чем кокетство всех виденных мною женщин. Я растерялся, пытаясь представить, сколько же ей лет: шестьдесят, семьдесят, тридцать или двадцать? Не было никакой возможности угадать: Ананда Маи казалась просто не имеющей возраста. Духота в помещении стояла немыслимая, и ученики сосредоточенно овевали Мать большими веерами из циновок. Наконец, она подняла обнаженные руки и распустила волосы, упавшие на плечи черным каскадом. Потом, на мгновение, она пристально взглянула на меня – и взор ее был настолько соблазнительным, что во мне со всей силой забушевало плотское влечение. Опасаясь совершить святотатство, я старался подавить это чувство, и беспокоился о том, заметна ли для ее сверхтонких чувств сила моего порыва. Но, наверное, то же самое случалось со всеми: бросив взгляд на своего бородатого компаньона, я заметил легкую улыбку соучастия.
После Мать стала петь; и вдруг прервалась. Теперь она стала недвижимым изваянием, и всё вокруг нее так же застывало. Барабаны, духовые инструменты и серебряные колокольцы теряли голоса. Стихли даже взмахи вееров. Мать просто сидела посреди зала, скрестив ноги, ее волосы рассыпались на плечи. Закрыв глаза, она стала выглядеть старой. Я стал свидетелем поразительного превращения: эта женщина, еще мгновение назад соблазнительная и не имевшая возраста, просто перестала быть женщиной, утратив саму категорию пола. Я смотрел на ее руки: они были теми же, одетыми в незамысловатые браслеты, спокойными и безмятежными. Но изменилось что–то в самой сердцевине, и руки тоже сделались иными. И даже волосы более не были волосами женщины, кожа стала бледной и тусклой. Теперь уже было совершенно невозможно увидеть привлекательность в спутанном узелке волос и пальцев, в жестких каменных губах. Она стала подобна сфинксу, и ее лицо казалось мертвым. Но в тот самый момент оно приобрело поразительное умиротворение. Напряжение предыдущих минут, усиленное перекрестными потоками благовоний, любовью и страстью, теперь разрешилось, и его место занял покой. В тихом мгновении умиротворения можно было расслышать сердцебиение множества людей, собравшихся вокруг, и я сам ощущал мир, источаемый созерцательным, окаменевшим ликом, безмолвным и никак не подстрекавшим к страсти. Я был преисполнен чувством благодарности к Матери, неожиданно избавившей меня от страданий Сансары. Не оборачиваясь, я понял, что и мой сосед переживает то же.
Невозможно сказать, как долго длился этот транс, но, в конце концов, чуть содрогнувшись, Мать пришла в себя, или вернулась на землю. Когда она открыла глаза, казалось, что зрачки ее всё еще обозревают иные сферы, но мало–помалу и к ним возвратился человеческий блеск. Вновь затрепетали веера, возобновилась музыка, зазвучало пение в честь возвращения Матери, и оживления ее прекрасного тела. Чуть погодя она вновь принялась распространять ароматы Майи и наставлять последователей в ученьях Сансары. И снова, не прошло и часа, я так же сопровождал ее в пути по каменистой тропе: из океана боли и наслаждения к беспредметности Нирваны, и так же возвратился, перенесенный колесом перерождения на следующую ступень. Мать снова смеялась и пела благозвучным и нестареюще женственным голосом.
Через некоторое время Мать удалилась из ашрама – подошло время обеда. Мой компаньон тронул меня за плечо, приглашая последовать за ним; мы прошли через ряд коридоров, в которых мужчины и женщины сидели раздельными рядами. Он был не индийцем, а эльзасским французом. Посетив множество ашрамов, он решил всё же остаться при Матери – чувствуя, что сумеет обрести покой именно здесь. Когда мы уселись, он принялся учить меня есть по–индийски. На полу были разложены банановые листья, омытые в проточной воде. Босоногий монах проходил вдоль рядов с большой емкостью, из которой зачерпывал смесь риса и овощей, называемую дахал, и раскладывал ее на листья. Ножей и вилок не было: все ели руками, и только правыми руками – так предписывают Веды. Я научился брать еду, скатывать в шарик и большим пальцем отправлять в рот. Как новичок, я нашел, что принимать пищу, сидя на полу, скрестив ноги – дело непростое. Позже я присоединился к очереди: здесь монах лил воду на руки тем, кто закончил есть. Некоторые паломники полоскали и рты.
Наступил полдень, солнце стало беспощадно горячим, и большинство мужчин укрылись в келейках, где можно было отдохнуть. Мой новый друг, француз, показал мне одну из таких комнат, где нашлось для меня место. Сняв рубашку, я прилег и прикрыл глаза, надеясь уснуть. Я забылся на короткое время, и в дремоте мне привиделись качающиеся верхушки деревьев. Нестерпимая жара заставила меня проснуться. Совсем разбитый, я лежал, а часы, казалось, проходили туманной чередой. Растревоженный жесткой поверхностью под моей спиной, я снова открыл глаза. Рядом появился мужчина, обмахивавший меня веером из влажной рогожки; казалось, колышущийся воздух слабо пахнет сандаловым деревом. Из угла чей–то голос произносил санскритские слова молитвы. Заметив, что я открыл глаза, широколицый мужчина с веером улыбнулся. Напротив меня полулежал калека. Он заговорил со мной, рассказав о случившемся с ним годы назад несчастьи. Он сломал спину, и все доктора, к которым он обращался, сочли его случай безнадежным. Но в присутствии Матери он чувствовал себя лучше, и она сказала, что смерть его не будет преждевременной. Грудь калеки была перетянута ремнями, крепившими трости вдоль спины – так он мог держаться прямо.
После мне передали, что в четыре часа со мной желает говорить Мать. Я встал и умылся холодной водой, а после спустился по коридору в небольшую комнатку. Француз уже был здесь, и другой юноша, одетый в дхоти, но голый по пояс, сидел на полу. Мать отдыхала на возвышении, укрытом белой тканью и подушками, а рядом с ней – очень старая женщина в шафрановом платье; ее голова была обрита, а крошечные стопы и кисти рук будто принадлежали высушенной мумии. Это была мать Ананды Маи.
Как и другие, я церемониально поклонился, и положил к ногам Матери гирлянду цветов. Она улыбнулась и дала мне яблоко. Ананда Маи говорит только на бенгали и хинди, так что юноша переводил наш разговор. Мать обратилась ко мне:
– Я видела, как ты пришел утром. Ты заметил? Вчера в полдень я думала о своем брате – он умер, когда я была еще ребенком. Он был очень похож на тебя, и, увидев тебя этим утром, я приняла тебя за брата.
Такие слова удивили меня, а присутствующие глядели на меня и улыбались. Потом, тронутый порывом, я снял мешочек из золотой парчи, который всегда носил на груди, и положил ей в ладони. Мешочек хранит священную для меня частичку той, что уже умерла. Мать взяла его осторожно, как будто с опаской. Я спросил, есть ли какая–то жизнь за пределами этой, и можно ли встретиться с теми, кто уже преступил черту. Тихим взглядом и голосом она ответила:
– Такие вещи возможны, во снах…
Уходя, я взял яблоко, подаренное мне Матерью. Ее темная рука, протянувшая мне плод, простиралась из времен Эдемского сада, повторяя ту же древнюю историю, тот же старый урок. Ведь Мать была и Любовницей, подобно тому, как Ева была и супругой, и матерью, и сестрой. И Змей обвивался вокруг того Древа.
Уже было поздно, и фиговые деревья подернулись дымкой. Я впился в бледную плоть яблока, будто в грудь Майи.
Тогда я увидел улыбку брата Матери.