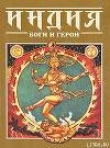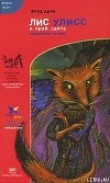Текст книги "Змей Рая"
Автор книги: Мигель Серрано
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Некоторое время мы сидели в тишине, и послеполуденные тени собирались под потолком этого дома в священном городе Бенарес. Гопал, внук астролога, вытянулся на полу; прадед погладил его по голове, а потом, как мне показалось, подмигнул ему.
– Думаю, нам нужно рассказать нашему другу о технике, с помощью которой он сможет узнать больше о том, что внутри, правда ведь?
Гопал согласно кивнул головой, и астролог продолжал:
– Техника эта называется шамбхуви, что значит Шива. Буддисты тоже пользовались ею. Неделю тебе нужно походить с легким грузом на голове, чуть смещенным к затылку. Можешь взять камень или что–нибудь подобное. На вторую неделю убери груз, но несколько раз приоткрывай и слегка закрывай глаза. На третью неделю сядь, не делай ничего и ни о чём не думай, закрой глаза. Просто жди. Каждый день в течение трех недель делай так перед сном.
Так закончилась моя беседа с астрологом. Уходя, я чувствовал, будто повстречал высшее существо, познакомился с душой достойного и мудрого человека. Я всё еще помню его таким, каким видел тогда: в компании внука в затененной комнате под крышей дома в Бенаресе. С тех пор я не видел его, и он давно уже умер.
Тогда я вернулся к Гопи Нат Кабираджу, но поговорить с ним не смог, поскольку он практиковал день молчания. Но я рассказал ему о визите к астрологу, и о тех практиках и техниках, которые он мне предложил. Пандит похлопал в ладоши, аплодируя, а потом взял бумагу и написал: «Отправляйся к свами Бхумананде, который живет в Каликашраме, в Камакхье, это недалеко от Гаухати по дороге в Ассам. Он сможет рассказать тебе много полезного, потому что его собственный учитель был посвящен в тайный ашрам сиддхов в Гималаях».
Прежде, чем покинуть Бенарес, я решил проведать своего друга, француза, жившего в ашраме Матери, Ананды Маи. Это было прекрасное место, выстроенное на самом берегу реки; во дворе здесь располагалась аптека для бедных. Придя туда, я вновь увидел восхитительную Ананду Маи: она сидела посреди залы, окруженная цветами и музыкантами. Однако вскоре она поднялась и скрылась за маленькой дверью в задней стене. Перед тем, как исчезнуть, она на мгновение обернулась и пристально посмотрела на меня. В ее взгляде можно было найти что угодно – безбрежный волнующийся океан жизни, смерти и любви. Потом она ушла, но я будто продолжал видеть белизну ее плаща, и знал, что этой ночью увижу ее в своих снах.
Я направился к другу в его подземную келью. Он сидел полураздетый, и был также измучен липкой жарой сезона муссонов, как и я. В его комнате не было ничего, кроме маленькой фотографии Матери. Я заметил тонкую черную линию, которая тянулась через фотографию, и приблизился, чтобы рассмотреть ее. Обнаружив, что линия эта была волосом, я взглянул на своего друга.
– Он принадлежал Матери, – сказал он, зардевшись.
Долгое время мы сидели вместе в молчании. Прошло около года с тех пор, как мы впервые встретились в Дехрадуне. Его худоба снова бросилась мне в глаза. Он рассказал, что Мать предложила ему на два года отправиться в ее ашрам в Алморе, и два года оставаться там в полном молчании. Потом он добавил:
– Но жизнь так тяжела! Только смерть принесет нам покой.
Потом мы поднялись на одну из террас ашрама, выходящую на Гангу, и наблюдали за течением воды, плывущей так уже столетия и целые эпохи, изливаясь из источника в голове Шивы, устремляясь к морю и бесконечности. И всё же, оставаясь внешне неизменной, река постоянно менялась; бревна, животные и трупы, скользящие по ее поверхности, отмечали ритм и дыхание Индии – всегда один и тот же, и всегда неповторимый.
Мы оба долгое время наблюдали за ним.
XXXIX. Долина богов
Я отправил свами Бхумананде письмо, попросив о возможности посетить его и узнать о его учителе и о тайных ашрамах Гималаев. Но в ожидании ответа я решил отправиться в Куллу, или Долину богов – немного отдохнуть и сосредоточиться. Я знал, что регион этот очень красив и немноголюден, поскольку расположен довольно высоко в Гималаях, и дороги его тяжелы и круты.
Долина Куллу населена древней расой, вероятно, пришедшей из Раджастана. Арийские черты в народе гадхи очень отчетливы: эти кочевые пастухи высокогорий похожи на древних греков. Они носят длинные плащи из белой шерсти, и некое подобие юбки на ногах. Элементы одежды удерживаются широкими шнурами, которые они обвязывают вокруг талии.
После подъема по необычайно крутой дороге, я, наконец, достиг перевала Ратанг, на высоте четырех километров. За ним лежат Лахул и Спити, расположенные на границе Ладакха и Тибета, населенные ламами. Виды с гребня перевала очень похожи на тибетские высокогорные плато. Здесь крайне холодно, и ветер дует столь сильно, что мне пришлось поспешно присоединиться к группе гадхи, и, следуя их примеру, укрыться от ветра среди овец и пони. Они дали мне поесть и вскоре после того, как мы прошли перевал, спустились в долину. Я остался один, разглядывать синеву отдаленных гор и наблюдать за переменчивым светом над ледниками. Мне казалось, будто я попал в край, где тени босиком шагают по снегам.
Ветер на этих высотах так беспощаден, что легко может стать причиной пугающих иллюзий, и потому я решил спуститься назад к своему особняку до наступления темноты. Тропа была очень крута и камениста, и всю дорогу мне приходилось обходить валуны или перебираться через них. Продвижение получалось чрезвычайно медленным, и мне приходилось действовать с величайшей осторожностью. Но вдруг я услышал резкий свист и над краем бездны разглядел силуэт, двигавшийся с невероятной скоростью. Он быстро спускался, приближаясь, и вскоре разминулся со мной, прыгая с камня на камень. Глядя на него, я подумал, что он вообще едва ли касается скал, ни на миг не переставая издавать пронзительный свист. Кажется, это был какой–то лама или монах, но наверняка я сказать не могу: слишком быстро он скрылся из виду. Я присел на камень, уверенный, что стал жертвой галлюцинаций; на земле я увидел каменную табличку, полузасыпанную снегом, на которой тибетские паломники написали: «Ом мани падме хум».
Долину Куллу называют Долиной богов, поскольку в каждой деревне этого региона почитают своего бога, или риши. Однажды, в деревне Манали я видел, как один из этих богов, Риши Ману, оказался подвергнут великому наказанию за то, что не смог собрать достаточно дождей для урожая риса. Многочисленная процессия доставила деревянный образ Риши Ману в древний храм, расположенный в лесу за деревней, посвященный богине Кали – Пожирательнице. Внутри этого храма таится черный камень, подобный алтарю, и, судя по отметинам на нём, некогда там совершались человеческие жертвоприношения. Жрец, или истолкователь посланий бога, остался снаружи, одетый в грубый плащ, чтобы уберечься от холода ночи, а затем, под неистовый бой барабанов, принялся скакать и плясать вокруг. Он вскоре впал в транс, дрожа, как листок на ветру и рот его покрылся пеной. Это было принято за верный знак скорого приближения дождя.
На следующий день дождь пролился над деревней Манали.
В этой деревне живут многие странные люди. Долгое время здесь жил англо–индийский майор, за годы побывавший в браке с несколькими местными женщинами. Теперь же он постарел и был не вполне здоров. К нему приходил саддху, мужчина, отрекшийся от мира и носящий мантию шафранового цвета. Этот саддху приносил майору собранные в горах травы и кусочки бумаги, на которых были написаны мантры. Майор был обращен в индуизм, и держал в своей комнате изображения индийских богов. Вечерами я слышал, как он читает маленькому ребенку и местной женщине, которая спала с ним в одной комнате. Он читал английские истории, переводя их на здешний язык. Однажды я проходил мимо его дома, и, заметив, что окна не занавешены, заглянул внутрь. Я увидел обнаженную женщину, вытиравшую полотенцем руки и ноги. Она пела мягким голосом, и я подумал, что это, должно быть, жена майора. А на следующий день я встретил ее в горах – она пасла стадо овец, повязав голову ярким красным платком.
Здесь все женщины носят яркие цвета; взгляды их глубоко посаженных глаз очень пронзительны. В летние ночи они собираются в лесу, и там играют на флейтах и бьют в барабаны. Но большую часть времени юные пастушки проводят в горах, в одиночестве, присматривая за стадом и разглядывая далекие вершины и ледники.
Однажды я взбирался по чрезвычайно крутому склону – впрочем, такому же, как и большинство гималайских склонов – и оказался в очень неловкой ситуации: я ухватился рукой за корень, а ноги мои вдруг утратили всякую опору, когда под ними осыпался грунт. И так я прижался к стене отвесной пропасти, и совершенно не знал, что делать дальше – а потому просто стал ждать, пока произойдет чудо. И вот чудо явилось: в виде любезной пастушки, заметившей меня, и спустившейся, чтобы помочь. Она протянула мне руку, и пока мы не добрались до безопасного места, я уже не решался ее отпустить. Она уверенно провела меня по крутой стене утеса, не переставая весело хохотать. Ее красный платок трепетал на ветру, и пока мы поднимались, ее голые ноги порой оказывались у меня перед лицом. Когда же мы остановились, я увидел ее глубокие счастливые глаза, пригласившие меня в приключение более увлекательное, но с тем и намного более опасное – прямо там, на крутом склоне среди диких сосен, растущих на краю пропасти.
Я воображаю, что она всё так же остается там, спасая жизни путников от одной пропасти, чтобы утопить их в омутах своих глаз.
Пока я возвращался в свою хижину, успело стемнеть. Усевшись на небольшой диванчик, я скрестил ноги в позе лотоса. Уже очень долгое время я не тренировал это умение, но теперь начертил знак поверх сердца и постарался сосредоточиться на пространстве между бровями. Поначалу ум мой был настолько заполнен идеями и образами, бесконечно проносящимися передо мной, что я почувствовал лишь замешательство. Но вскоре мне удалось обуздать все эти изображения и создать вакуум, достичь пустоты, позволившей ледяному ощущению постепенно взбираться по позвоночнику. Вскоре стали вырастать и множиться спирали, и я почувствовал, как теряю форму и очертания, и будто двигаюсь вперед и назад, подобно маятнику. И как раз в этот момент я почувствовал вдохновение. Мне захотелось выскочить, выпрыгнуть наружу, вообразить себя вовне, стоящего у двери – пока не стало слишком поздно. Мне удался этот прыжок, и тогда я понял, что нашел ключ к великому процессу, который так долго искал. В результате я увидел себя снаружи; я наконец чувствовал себя вне своего тела. И через секунду я оказался в горном храме, лежа на темном алтарном камне, и кто–то рядом готовился к тому, чтобы заклать меня. Я яростно сопротивлялся, и, содрогнувшись, вернулся в тело, сидя на диване в горной избушке.
Я провел руками по лбу, стирая холодный пот. Как долго я просидел так, не знаю; глотнув воды, я вышел в ночь. Глубоко вдыхая холодный ночной воздух, видел, как в бледном свете сияют ледники.
Я осознавал, что после многолетних стараний нашел ключ. Наконец. И я также понимал, что это открытие понуждало меня к скорейшему принятию решения; я должен был понять себя, чтобы определить свое будущее. Стоя там, в холодной ночи, я решил, что не стану больше использовать этот ключ: я не буду вновь открывать дверь к этому таинству. Интуиция говорила мне, что последовав этой тропой, я навсегда отрекусь от своей личности. Я понял, что дорога эта потребует утраты человечности, душевного обнищания – и я знал, что не смогу, и не должен идти по ней. Я знал, что тогда мне пришлось бы отбросить непосредственный опыт и полноту жизни; мне пришлось бы пожертвовать самоосознанием и своим наследием, а также и разумом. Я знал, что перед таким броском мне вначале нужно во всей полноте пережить все вещи и «привести свой дом в порядок»; иначе жест этот окажется бессмысленным и пустынным. Искушение было велико, но, в конце концов, я решил не пытаться быть более чем человеком. Я хотел быть человеком и ничем другим; я желал знать свои пределы и свою незначительность, и оживить всё, что внутри меня. Я вспомнил, что маги и мистики древности не разрушали своих желаний, понимая, что отречение часто оказывалось лишь обманом. Желания, отвергнутые наяву, часто возвращаются под разными масками, истязая в видениях и снах. Тогда я понял, что моя тропа не может быть тропой отречения, но тропой опыта; я должен был пережить всё с детской чистотой духа и безо всякого ощущения вины. Впрочем, такая дорога не подразумевала потакания своим удовольствиям; наоборот, она призывала быть готовым к необходимости в нужный момент пройти по лезвию бритвы, не застрять, не застыть на ее крутом склоне. В общем, нужно было прорастать от рисовых корней и вздыматься, как Древо Рая. Нужно было цвести.
Я не уверен, что решение, принятое мной в тот вечер в Долине богов верное; оно может оказаться всего лишь оправданием слабости, одержавшей надо мной верх. Меня также тяготила надежда достичь горы Кайлас, отыскать загадочный Орден и тайный монастырь, в котором я встретился бы с учителями моего Наставника.
В ту ночь я видел странный сон. Я стоял у стены сада, над которой простирались ветви деревьев. Я потряс одну из них, и вниз посыпались мелкие белые плоды. Внезапно они обернулись зверьками или насекомыми и бросились бежать к дому. Я последовал за ними, и вскоре сам оказался внутри. Протянув из окна руку, я схватил двух насекомых и, втащив их в комнату, отпустил. Как–то я понимал, что они не хотят здесь оставаться, и совершенно поражены моим отношением. Один из зверьков сбежал через щель под дверью, что вела наружу. Тогда я прикрыл дверь плотнее, чтобы не смог сбежать и второй. Он безмолвно упрекал меня в том, что я разлучил его с другом. Проснувшись, я вспомнил отвращение, которое чувствовал, когда нес двух этих существ в комнату.
XL. Поиски в Гималаях
Тем временем пришло письмо от свами Бхумананды: он сообщал, что ожидает моего визита, и готов рассказать мне всё, что знает о тех тайных ашрамах, в которых получил посвящение его учитель. Тогда я отправился вниз, в Калькутту – чтобы оттуда начать новое путешествие. А оказавшись там, понял, что дороги сделались непроходимыми. Муссонные дожди затопили страну на многие мили вокруг. Брахмапутра вышла из берегов, и много дней подряд муссонное небо было тяжелым и зловещим. Нет более необычайного зрелища, чем это небо, особенно на закате, когда оно окрашивается цветами почти невозможными: золото, пурпур и изумруды. Лучи солнца, пронзая текучие облака, подкрашивают их края, и те кажутся ликами неизвестных богов, глядящих вниз.
Вскоре мне наскучила моя вынужденная остановка в Калькутте, и я с нетерпением ожидал возможности посетить другие части страны. С тех самых пор, как я покинул своего Наставника в Чили и двинулся собственной тропой, я много путешествовал, осознавая лишь наполовину, что мои походы предпринимались отчасти для того, чтобы утолить жажду приключений. Со времен детства меня волновали диковинные места и народы, и в особенности я был очарован дневниками английских путешественников, посещавших Гималаи в девятнадцатом столетии. Я читал и об экспедициях Свена Хедина, а уже позже – о немцах, которые в последнюю войну покинули Индию и скрылись в Тибете. Я читал и о тибетских экспедициях итальянского профессора Туччи, и отчеты Фоско Мараини, сопровождавшего его на пути в Сикким. В моем доме в Дели я подолгу беседовал с профессором Туччи. Разумеется, Сикким, граничащий с Тибетом и управляемый благородным семейством Лхасы, всегда казался мне околдованным краем. Я издавна воображал махараджа и его принцессу будто сказочных персонажей. В книге Мараини есть фотография одной из этих прекрасных принцесс Сиккима, одетой в тибетские меха. Под фотографией Мараини написал: «Глуп ли я, если считаю, что лама должен быть привлекательным, чтобы я в него поверил?».
Оказавшись запертым обстоятельствами в Калькутте, подгоняемый старыми воспоминаниями и страстью к приключениям, я решил отправиться в Сикким прежде, чем продолжить путь к свами. И почти мгновенно я перенесся в этот легендарный мир, о котором столько читал и мечтал в прошлом. Был поздний вечер, и я сидел во дворце, подле старого махараджа и двух его принцесс. Принцесса Пехма Шоке медленно приблизилась ко мне и подала маленький стакан, полный неизвестного спиртного настоя. Она произнесла:
– Гамбé!
Это китайское слово велит пьющему осушить стакан один глотком. Пока продолжался вечер, я сделал много «гамбе» с легендарной принцессой, старым махараджей и его сыном, принцем Георгом. Все они были одеты в церемониальные мантии китайской парчи, вышитые буддистскими свастиками. Вскоре напиток оказал воздействие, и всё вокруг меня завертелось. Супруг одной из принцесс пел тибетскую оперу, полную резких гортанных звуков. Потом мы стали танцевать, повторяя литургические круговые вышагивания. По одну сторону от меня шел махараджа, чья рука была цвета старой слоновой кости, а другой рукой я держал прозрачную нефритовую кисть принцессы. Наконец все вечерние события закончились, и я смог отправиться в постель – я был настолько отравлен этим дьявольским напитком, что мне казалось, будто я вот–вот умру. У моей кровати сидели принц Георг и нефритовая принцесса. Когда она опустила ладонь на мой лоб, мне на мгновение стало легче, но почти тотчас же я провалился в бессознательность.
В конце концов, я очнулся, совершенно не представляя, который час. Глядя в потолок, который по–прежнему вертелся, я чувствовал тошноту и головокружение. Чуть погодя пришел кто–то, пригласивший меня в поездку к границе Тибета. Как мне сказали, пора было встречать Махараджкумара, наследного принца Сиккима, возвращавшегося из Лхасы, где он посещал Далай–ламу. Поскольку слово «Тибет» всегда оказывало на меня магическое воздействие, я приложил невероятное усилие, и всё же сумел подняться.
Чистый и холодный гималайский воздух значительно поправил мое здоровье, и вскоре я уже был в состоянии оценить пышность сегодняшней церемонии. В открытом павильоне у дороги через перевал махараджа и его семья ожидали прибытия старшего сына. Наследный принц появился в сопровождении длинного каравана подарков из Тибета. Вдоль всей дороги, которая местами была совсем узкой, старики с бородами патриархов и монгольскими чертами лиц падали в пыль, касаясь лбами земли. Прибывали другие караваны, и, возвращаясь в город, королевская процессия останавливалась у дороги, в палатках и под арками, чтобы обменятся церемониальными белыми шарфами и выпить чаю с собравшимися знатными господами Сиккима.
Подобные сцены весь долгий вечер продолжались во дворце в Гангтоке, столице Сиккима. Наследный принц был очень умен, и многое рассказал мне о Лхасе, о Далай–ламе и царском дворе в Потале, которая в то время уже была окружена китайскими войсками. Позже старый махараджа пригласил меня на третий этаж дворца, и показал великое Колесо жизни и некоторые из своих картин. Старый махараджа писал всю жизнь, но всегда лишь один сюжет, одну картинку, с которой он экспериментировал годы напролет: это изображение заснеженной горы и озера, и в каком–то смысле они тоже были колесом жизни.
В тот вечер я также имел беседу с принцем Георгом. Узнав, что он получил оксфордское образование, я спросил, не посещал ли он также и Итон. Оказалось, что туда его не допустили, потому что он был выходцем из «коричневого континента». Я взглянул на него с удивлением и мукой, и заметил боль в его улыбке. Теперь я уже не мог продолжать беседу: мне просто нечего было сказать. Этот приговор был будто пропастью, разделившей нас, и я могу только представить, каким драматичным это событие стало для юного принца; здесь, в Гималаях, он – бог, перед которым склоняются длиннобородые патриархи, а там на него взирали, как на недостойного только из–за цвета кожи. Рана, причиненная этой жестокостью, никогда не затянется в его душе, и я могу лишь надеяться, что изящная нефритовая принцесса никогда не будет оскорблена столь болезненно, как принц цвета слоновой кости.
XLI. Врата Тибета
Из Гангтока я отправился в Калимпонг, лежащий у порога Тибета. Здесь проходят сотни торговых караванов, а улицы полны тибетцев, носящих на поясе кинжалы, а в руках молитвенные колеса. Этот радостный и сильный народ одевается в меховые шапки и длинные холщовые плащи. Холмы за городом сплошь покрыты флажками с религиозными изображениями – их подняли здесь, чтобы дующий ветер мог возносить начертанные на них молитвы к вершинам гор. Духом религиозности здесь пронизано всё, и повсюду звучит фраза «Ом мани падме хум», а вращение молитвенных колес и в храмах и в домах поддерживается непрерывно: руками верующих или потоками воды.
В Калимпонге живет принц Петер, греческий и датский. Он – исследователь и антрополог, в особенности заинтересованный изучением Тибета; здесь он изучает местные реликты матриархата. Его особняк увенчан флагштоком, несущим королевский герб; в округе принц прославился тем, что выращивает восхитительные орхидеи. Его жена – русская, она скрывает глаза под темными очками и неизменно остается очень немногословной. Принц Петер показывал мне некоторые тибетские ожерелья, сделанные из человеческих позвонков; от него я получил адрес профессора Юрия Рериха, сына русского живописца Николая Рериха, эмигрировавшего сюда вместе с семьей во время революции. Он выстроил дом в долине Куллу и обратился в буддизм. Его сын, профессор Рерих – ученый–буддист, знаменитый своими тибетскими штудиями. Всему миру известны его перевод «Голубых Анналов» и исследования тибетской живописи. Он живет в Калимпонге с матерью, которая обладает развитыми душевными силами, как это часто бывает с белыми русскими женщинами.
В один из вечеров я навестил профессора Рериха, и мы пили чай в его кабинете. Лицо его имело монгольский оттенок, он носил острую бородку. Он напомнил мне графа Кайзерлинга, которого мы тоже обсудили – Рерих хорошо знал его, и восхищался им. Он рассказал, что один из сыновей графа живет в Калькутте, изучая философию. Я расспросил Рериха о Тибете, и о том непростом опыте, который страна только что пережила. Он признал, что для страны наступило время тяжелых испытаний, но заметил, что для Тибета предпочтительней подчиниться Китаю, нежели Америке. Как он сказал, китайцы – народ практичный и положительный, религией не заинтересованный. И это обстоятельство, по его мнению, убережет религиозный дух Тибета от перемен. С другой стороны, доберись сюда «американский образ жизни» – всё было бы потеряно, и дух страны изменился бы совершенно.
Должно быть, Рерих говорил о древнем Китае, или о том Китае, который еще может вернуться. Разумеется, Китай дня сегодняшнего действовал в отношении Тибета совершенно иначе.
Пока нам подавали чай, я попробовал спросить профессора Рериха о тайных ашрамах в Гималаях, и рассказал ему кое–что о своих поисках. К моему великому удивлению, он ответил так:
– Да, разумеется, эти ашрамы существуют. Я изучал этот вопрос, и благодаря хорошему знанию санскрита и тибетского языка, нашел в текстах упоминания о четырех тайных ашрамах. Один близ Шигадзе, второй у Эвереста, третий у горы Кайлас и четвертый в Толингматхе. Это и есть ашрамы сиддхов, о которых вы говорите. Я не думаю, что мадам Блаватская говорила неправду о том, что побывала в одном из этих тибетских ашрамов сиддхов. Кто–то считает, будто Блаватская, основательница теософии, никогда не была в Тибете – но вот некоторые дневники британских армейских должностных лиц, путешествовавших по региону, упоминают о встречах на пустынных тибетских плато с русской женщиной, сопровождаемой только слугами из числа местных жителей.