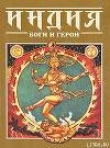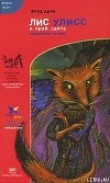Текст книги "Змей Рая"
Автор книги: Мигель Серрано
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
XXXIV. Лунный камень
Лунный камень – третий глаз, что открывается в аджна–чакре, в точке между бровями, чтобы позволить каменному лику видеть свое бракосочетание, и найти в песчаных пустынях мира отпечаток ступни своей Возлюбленной. Этот третий глаз – чудесный кристалл, подобный молочным лепесткам лотоса. Он подобен и птице, распростершей крылья; это птица Рая и голубь Святого духа.
С открытием третьего глаза – а это всегда сознательное волевое действие – приходят к концу эпохи Отца и Сына, наступает эра Святого Духа, человека, обретшего крылья. Это эпоха Водолея, в которой лунный камень найден под толщей вод Южного полюса.
Но Святой Дух проявляется и в других знаках: языки пламени однажды прорвались над головами апостолов, чтобы открыть их третий глаз и дать им видение. Поэтому Святой Дух также и Кундалини, змеиный огонь, спящий у основания Древа Жизни. От глубочайших корней ада, он медленно восходит, расправляя крылья в точке меж бровей, становясь Пернатым Змеем, или голубем, и тогда третье око проливает слезы из наших глаз, потому что видит долгое паломничество, и, через кристалл лунного камня может наблюдать собственную смерть и свадьбу.
XXXV. Таинства
Индия интровертна, и проецирует духовность вовнутрь, в то время как христианский Запад экстравертен, и видит спасение личности вовне. На Западе брак, смерть и воскресение – события внешние. Любовь тоже всегда снаружи; любовницу встречают на улице или в парке – в любом случае, вовне личности. Тогда любовь становится диалогом двух личностей, и любовники находятся вовне, так же, как и Бог. Современная наука, мечтающая о космических путешествиях, подчеркивает устремленность западного мироощущения вовне. В противоположность ему Восток всегда путешествует вовнутрь.
Всё же, хотя эти обобщения и верны, их сила не абсолютна: достаточно вспомнить о колебаниях маятника. Ведь то, что снаружи, всегда и внутри, и наоборот. Индивид – это космос в миниатюре, а Вселенная – бесконечная череда зеркал. Поэтому физический брак необходим; Возлюбленной должно овладеть физически, тантрически, и также Возлюбленная должна умереть физической смертью, и необходимо претерпеть долгое страдание в ожидании ее воскрешения.
Беатриче должна была существовать вовне, в телесном облике, и Данте любил ее в таком проявлении. Потом, после ее смерти, он заключил ее в собственную душу; он должен был до дна испить горькую чашу, обнажив бездны своей страсти и те одинокие таинства, способные однажды вознести его из глубин ада в небеса.
Подобное, наверное, происходило и с апостолами Иисуса. Наверное, физическое распятие также необходимо; он должен был умереть, и за мгновение до небытия воскликнуть «Отче, почему Ты оставил Меня?». Тогда, и только тогда, ученики, столь любившие его, могли впустить его в свои души, чтобы вновь пережить мучительное таинство и продлить его жизнь в Мифе.
Человеческая боль – также и боль божества; и потому более всего необходима верность своим мертвецам. Она позволит нам воскреснуть, когда воскреснут уже почившие. В воскрешении Христа мы все будем воскрешены, как и в воскрешении Возлюбленной.
Шагая по свету, в сердце я несу тело Возлюбленной. Я заглядываю в ее глаза, вижу золото ее волос; я одалживаю ей свой взгляд, так чтобы и она могла взглянуть на мир. И когда, наконец, она будет воскрешена в моей душе, тогда и я смогу видеть ее глазами. Тогда у меня будет три или четыре глаза, и я буду воскрешен вместе с ней.
Таковы эти таинства; нужно знать цельность основополагающих фактов, и видеть многочисленные направления испускаемых ими вовне вибраций и излучений, повторяющих взрыв творения, выплеск наружу. Ведь то, что внутри – также и снаружи, и потому нам должно идти за порог самих себя, чтобы проникнуть в себя, и узнать себя. Только так драма может быть осознана во всей глубине.
Ключевое понятие этого действа – любовь. Мы должны любить Возлюбленную, как себя; любить ближних, как себя, и любить Бога, как себя. Нам должно также любить себя, как Бога.
Чтобы понять и совершить эти великие таинства, мы должны осознать оба предела космического маятника, качаясь с ним от одного края Вселенной до другого, продвигаясь вовне и вовнутрь, узнавая жизнь и смерть, чтобы суметь избежать катастрофы и обрести жизнь вечную.
Атлантида затоплена; Христос распят; Возлюбленная мертва. Поэтому плачет каменный лик Кхаджурахо. Но есть меч, воплощающий непростую и пугающую науку – и он способен рассечь фатальную последовательность событий. Меч этот ожидает нас на дне гроба, и мы должны получить его в обмен на собственное тело. Гробница эта носит имя Сунья Бхаи или Брат безмолвия.
XXXVI. Песня суфия
Продолжая паломничество в Бенарес, я задержался в Камрупе, чтобы посетить суфийского наставника, Шри Радху Мохана. Слово суфий означает
«мягкий, гладкий, как руно ягненка». По вечерам этот наставник обычно бродил по садам своего дома, перебирая в руках четки и бормоча молитвы и мантры. Его друзья часто приходили молиться и размышлять вместе с ним. В минуты тишины он закрывал глаза, погружаясь будто до грани транса, как если бы несказанные им слова приходили из непостижимых бездн бессознательного.
По вечерам, когда свет луны лился между стволов манговых деревьев, рождая многочисленные тени, Шри Радха Мохан улегся в гамак в своем саду и позвал меня. Он знаком показал мне сесть напротив, так, чтобы вибрации его сердца смогли передаться мне – так он объяснил. А после стал петь мягким, глубоким голосом. Песня его была нежным плачем, полным мечтаний о былом, и как нельзя лучше подходила лунному сиянию вечера. В ней говорилось о пастухе, искавшем Кришну, исходившем множество долин и преодолевшем многие горные перевалы; однажды он вошел в дом, чтобы попросить поесть. Как раз в этот момент сам Кришна прошел мимо. Позже пастух узнал о том, как он упустил возможность встретиться с богом, и скорбно причитал: «Я потерял в дороге свое сердце и никогда не найду его снова».
XXXVII. Великая Кумбха–Мела в Аллахабаде
Через некоторые промежутки времени, когда звезды выстраиваются определенным образом, народ Индии собирается в городе Аллахабад, чтобы совершить омовение там, где Джамна сливается с Гангой и растворяется в ней. Здесь две реки сочетаются браком, как ида и пингала в спинном хребте. Обе реки происходят из небесных обителей, исток Ганги находится на горе Кайлас, в великой голове Шивы. Но есть и еще одна река, присутствующая при браке этих двух, в сангхе или слиянии близ Аллахабада. Это река Сарасвати, которую никто никогда не видел: невидимая сушумна, а может быть, даже Кундалини. Сарасвати свидетельствует об успехе бракосочетания, преобразуя слияние в триаду Шивы, Парвати и Картикейи.
На это празднество со всех уголков Индии стекаются караваны. Все дороги запружены паломниками, идущими пешком или едущими в телегах, на верблюдах и слонах. Многие прибывают поездами и самолетами. Вместе со мной тогда в Аллахабаде собрались четыре миллиона душ. Здесь и там вдоль берега реки были возведены высокие железные башни, с которых можно было наблюдать за толпой и управлять ее перемещениями. Оказавшись посреди необозримого людского потока, я чувствовал себя соломинкой в порыве ветра; я был совершенно потерян, и одновременно взволнован, ощущая неопределимое почтение к огромным силам, собравшимся здесь. Вскоре я увидел прибытие президента Индии: в компании святых, нищих и других жалких несчастливцев, он голым вошел в воды, где встречаются три реки. В медленных почтенных движениях он был окроплен водой. Потом появился Неру, одетый в белое. Он медленно приблизился к реке, туманным отсутствующим взглядом провожая течение священной реки, которая, казалось, уносит с собой всё, даже его самого. Я видел, как он едва коснулся вод пальцами, и приложил их ко лбу. Казалось, что он, как и я, лишь частично вовлечен в церемонию, и во многих отношениях чрезвычайно далек от нее. Я мог разделить его чувства и болезненность его поступка.
Я всё же решил, что совершу омовение позже вечером. А пока что я был просто отрешенным одиночкой, и со всех сторон меня подпирали тысячные толпы. Вскоре к берегу подошла процессия саддхов. Эти святые мужи были раздеты; тела покрыты пеплом, а лица выкрашены зеленым. Их глава, или гуру, ехал верхом на огромном слоне, ноги которого были спутаны цепями, так что ему приходилось передвигаться неловкими качками, старательно удерживая равновесие. Время от времени он поднимал хобот и фыркал. Гуру, совершенно голый, представлявший в процессии Шиву, был покрыт невероятной смесью мазков разноцветных красок, шафрана и экскрементов. Перед ним шествовали танцоры с мечами, яростно рубившие воздух. За ними маршировали музыканты, игравшие на барабанах и флейтах, а за ними на ложах из шипов ехали факиры, или шли, проткнув языки и руки гвоздями. В процессии были и другие слоны; хотя и напуганные сутолокой, они совсем не смели трогать людей вокруг. Что–то внутри велело им не делать этого.
И тогда, в самый разгар этой великой мелы, собрания самых невероятных персонажей, грянула беда. Где–то, по какой–то необъяснимой причине кого–то вдруг обуял страх – и распространился всполохами, как лесной пожар. Поддавшись панике, кто–то упал, другие, наступая на его тело, тоже падали. Почти мгновенно всё множество лишилось разума, и сотни оказались втоптаны в пыль. За какие–то минуты Кумбха–Мела Аллахабада стала ареной необъяснимого панического страха, коллективного ужаса и бессмысленной смерти сотен людей. Повсюду вокруг меня в собранных наспех телегах лежали раненные, умирающие и те, что уже были мертвы. Старики и дети, девочки и старухи. Пожилая женщина прошла мимо, рыдая и умоляя о защите: придя из южных пределов Индии, здесь она потеряла всех, и теперь осталась одна. Никто не решался действовать. Все были просто ослеплены и оглушены, не знали, что говорить и думать, и не могли осознать, как и отчего совершилась трагедия. Однако чуть погодя возвратилось спокойствие – ведь этот народ создан для страданий и неудач. Так они смогли сказать себе, что всё случившееся – во благо, ведь те, кто умер в этот день и в этом месте, будут благословлены слиянием священных рек и расположением звезд в небесах.
В полдень я решил посетить лагерь йогов и саддхов. Здесь собрались все известные гуру Индии, сопровождаемые последователями и учениками. Они разбили палаточный городок, будто армия магов и святых. Многие пребывали в трансе, казались мертвыми или воскрешенными в мгновение безвременья. Воздух свернулся в густоте сжигаемых благовоний, палатки осаждали тысячи любопытных и тех, кто желал почтить наставников. Здесь свами и йоги встретились, чтобы молиться и вместе повторять мантры; они молились о тех, кто умер подчас Кумбха–Мелы, и о тех, кто ушел до них. Я услышал, что здесь была Ананда Маи, Мать, и ожидалось, что прибудут Сивананда, и свами Лахманджу из Кашмира. Но никого из них я не встретил.
Покинув палаточный городок, я решил взять лодку и погрузиться в воды реки. Но по пути к берегу ко мне подошел голый саддху, и остановил меня, взяв за руку: молодой человек с грустными глазами.
– Отчего же в мире нет справедливости? – спросил он.
Я посмотрел на него, и понял, что он плачет. Очевидно, его вопрос был о тех, кто умер сегодня.
Я не знал, что ответить, и сказал только:
– Как можно ожидать справедливости в Кали–юге?
Он остался на берегу, глядя, как отплывает моя лодка, и в тишине по его щекам катились слезы. Наконец, он ушел и затерялся в толпе.
И тогда, в слиянии видимых Ганги и Джамны и невидимой Сарасвати, я разделся и погрузился под воду. Опускаясь всё глубже, я чувствовал приближение Брака, и встречи Иоанна–Крестителя с Иисусом – ведь тогда Иисус превратится в Христа.
XXXVIII. Святой город Бенарес
Всё же, купание в священных водах достигает настоящего апогея только в Каши, или Бенаресе. Веками хинду оказываются зачарованы образом реки Ганги, так похожей на саму жизнь. Каждый купальщик входит в свой поток, и двух одинаковых течений никогда не бывает – но сама река остается; у нее есть имя, единство. И потому, вопрос, который задает себе индус, ныряя в реку таков: есть ли у него, как и у реки, единство и возможность определить себя? Как и река, мы сами постоянно изменяемся; мы образованы сотнями всевозможных ручьев, бесконечным множеством эго; но всё же, всегда есть нечто, дающее нам иллюзию цельности – имя. А хинду сомневается даже и в постоянстве имени, будучи отчасти растворенным водами.
С восходом солнца толпы верующих стекаются к гхатам Ганги. Пройдя по узким улицам старого города, они по широким ступеням спускаются в серые речные волны. На гхатах брахманы продают четки и читают молитвы. По нисходящим ступеням верующие шагают в реку, полуголые или в развевающихся плащах, колышущихся вокруг. Женщины не снимают сари, и те прилипают к их телам, когда они опускаются под воду. Ритуал омовения очень сложен. Вначале хинду зачерпывает немного воды ладонями, и позволяет ей сочиться сквозь пальцы, а сам бормочет древние молитвенные формулы на санскрите. Потом он несколько раз окунает голову, а после целиком погружается под воду. Все полоскают рот и пьют воды Ганги. Нужно помнить, что эта темная жидкость полна грязи, мочи и остатков умерших. Некоторые стараются основательно промокнуть, другие просто сидят, скрестив ноги, полупогрузившись в воду и медитируя. Иные ныряют в поток и бодро плавают. Здесь много лодок, полных детей и туристов, обычно плывущих вверх по течению. Иногда показывается необычное бревно, подпрыгивающее и крутящееся на поверхности воды. На самом деле, это вовсе не дерево, а труп, уносимый к морю; мертвец проплывает через всю Индию–Мать, если только его не съедят пресноводные рыбы, населяющие священную реку. Такой труп означает, что умерший был прокаженным – их тела никогда не сжигают, а бросают в волны реки.
Повсюду вдоль берегов горят костры, на которых жгут мертвых. Тела умерших привозят их родные или друзья. Вначале труп обмывают в реке, а после брахман читает над ним мантры; тело кладут на костер из сандалового дерева, и зажигают огонь. Родные и друзья стоят вокруг, время от времени вороша угли, чтобы убедиться, что пламя полностью поглотило мертвеца. Обычно ритуал проводят на заре или на закате, и тогда берега реки освещаются сотнями таких костров.
Повсюду вдоль берегов и на крутых узких улочках города – сотни храмов, обиталища всех мыслимых богов; например, один посвящен богине оспы. Есть и непальский храм, деревянные стены которого сплошь испещрены резными эротическими фигурками; тут же и другой, посвященный Кали – здесь приносят в жертву животных, и кровь струится по мраморному полу, а на крыше скачут и вопят дюжины обезьян. На короткой улочке, настолько тесной, что не позволит разминуться и двум прохожим, открывается окошко в стене: виден зал храма, в котором маслом, молоком и соком фруктов омывается лингам. Ладони преданных женщин купают его, проливая струи патоки и духов. Совсем неподалеку слышен нескончаемый бой барабанов, сопровождаемый молитвами и плачем. Это дом вдов, населенный женщинами, потерявшими будущее. Поскольку они не исполнили ритуал сати, как это делали женщины в прошлые века: не взошли на погребальный костер вместе с умершими мужьями – они считаются мертвыми, и вынуждены умолять о милости прохожих, и тем продлевать агонию доживания в этом городе кошмарных видений.
Улицы Бенареса не имеют с земным миром решительно ничего общего; по правде, они неописуемы, и не поддаются никаким сравнениям. Одновременно ужасающие и обольстительные, отвратительные и завораживающие. Каждый, кто прошел улицами Бенареса, держа открытыми глаза и разум, поймет, что наблюдает зрелище поистине грандиозное. Эти улицы отражают муки творения, и вместе с тем – величайший триумф духа над мучением. Сострадание и бесчеловечность, жалость и ужас, мельчайшее и космическое – всё сплетается в материю улиц Бенареса. И над всем вибрирует невероятный шумный хохот, будто говорящий: «Взгляни–ка на этот фарс, эти боль, отчаяние и величие – и рассмейся, потому что ничто из этого не существует на самом деле; все мы клоуны, занятые в великой комедии, в Майе».
Бенарес также наполнен волшебством и миражами. В чём–то он подобен улицам Чандни Чоук Нью–Дели, но здешняя атмосфера – квинтэссенция религиозности. Ведь страдание и болезнь, предшествующие смерти в Бенаресе – нити религиозного мотива Индии. Поэтому уродцы, наблюдающие за смертью прокаженных, смотрят ясными глазами, их лица умиротворены. Они улыбаются, зная, что хорошо играют назначенную божественную роль – она показалась бы тяжелой, если бы не была частью великой комедии.
Скрестив ноги, на улицах сидят карлики в тюрбанах, в их глазах – улыбка безбрежного сочувствия. Мимо проползает голый мужчина, обмазанный синей пастой. Он приподнимается с земли и, пошатываясь, швыряет себя вперед. Снова поднявшись, он повторяет то же действие. В конце концов, он доберется до священной реки, хотя ему предстоит преодолеть еще многие кварталы. Всё утро меня преследовал ребенок, беспрестанно теребивший меня за ногу. Совершенно невозможно было избавиться от него: всякий раз, как я давал ему денег, он просто просил еще.
Поверх этих узких улиц, погруженных в тень огромных деревьев, скачут и резвятся обезьяны, внизу торжественно шествуют коровы. Все остальные должны уступать им: корова обладает своего рода непреложным преимуществом в движении. Улицы уставлены сотнями магазинов и лотков, ведь Бенарес – центр шелковой промышленности. Сари из Бенареса, отделанные золотой вышивкой – чудо индийского ремесла, знаменитое во всём мире. А еще вдоль берега высятся дюжины роскошных дворцов, построенных махараджами царств древней Индии. Открытые веранды этих дворцов предназначались махараджами для паломников из близлежащих районов, посещающих Бенарес. И здесь, как и везде, подчеркивается всеохватная, неразборчивая жизнь Индии: всё делается сообща, индус всегда окружен другими людьми. Он живет, любит, ест, спит и умирает прилюдно, а значит, должен сохранять внутреннее, духовное уединение. Практически каждый махараджа или богатый индийский купец выстроил в Бенаресе дворец, но все они – на одном берегу; на другом же, совершенно одинокий, стоит дворец махараджи Бенареса, принадлежащего к касте не кшатриев, но брахманов, ведь, согласно общему мнению, он – прямой потомок Шивы. Юный махараджа скромен и образован. Он в особенности интересуется сравнительным религиоведением и доколумбовыми цивилизациями Америки – культурами майя, ацтеков и инков. Он полагает, что когда–то между Америкой и Индией существовала связь, которая теперь должна быть изучена.
Бенарес – одно из священнейших мест Индии, его можно назвать Ватиканом индуизма. Но чтобы понять его религиозную роль, нужно сравнить его также с Лурдом или Иерусалимом: здесь собираются паломники и неизлечимо больные, ожидающие чуда, и возможности умереть с миром. Однако, несмотря на священную историю, в Бенаресе не так много индуистских храмов, поскольку большую их часть века назад разрушили мусульмане. Так Аурангзеб воздвиг мечеть на руинах храма хинду. Но мусульмане не могли уничтожить реку или изменить ее течение. А дух этой реки – важнейшая черта Бенареса, да и самого индуизма. Бенарес, среди прочего, знаменит своим древним университетом, в котором собираются ученые всей Индии, а также здешними мистиками и йогами, достигающими самадхи или даже еще более глубокого транса, кайвалия. И еще: именно в Бенаресе Тулсидас перевел на хинди Рамаяну, а риши Ватсьяяна написал Камасутру.
Однако, прежде всего, люди приходят в Бенарес, чтобы умереть у его священных вод, поскольку хинду, окончивший свою жизнь здесь, должен быть освобожден от кармы, или, по меньшей мере, получить возможность лучшего воплощения в следующей жизни. Этой верой и объясняются просветленные лица и счастливые глаза тех, кто преодолел боль плоти и мирские мучения: они уже проникли за завесу грязи и ужаса, и живут духом в мире божественного света – среди жемчугов и бриллиантов счастливого будущего. Никакая другая страна, кроме Индии, не выработала такого видения. Индия – страна мучеников, созданных для страдания. Всё же, эта очевидная нищета складывается в картину, преобразующую целый народ так, как на Западе смогли быть преобразованы лишь немногие святые. Индия видит мир не как бытование дней, череду боли и наслаждения, а как отражение всеобъемлющей вселенской цели. Но правители современной Индии, получившие образование в Оксфорде и Кембридже, стыдятся Бенареса. Они отрицают божественность города и пытаются преобразовать Индию в гигантскую механическую фабрику, которая может быть чистой и опрятной внешне, но внутри окажется гнилой. Уже и сейчас Индия начинает смердеть, как и весь остальной мир: ее душа начинает разлагаться, ее осаждает проказа, намного более страшная, чем всё, что видели улицы Бенареса. Это проказа модернизма, промышленной революции, атеизма и рационализма.
Завеса грязи и мук в Бенаресе скрывает брильянты и жемчуга – это маска его покаяния. И наоборот, железная завеса Кали–юги, с ее гигиеной, контролем рождаемости и городами из асфальта и цемента, скрывает гниль души и разложение духа. Одним словом, скрывает пустоту, ничтожность. Когда я был в Бенаресе, один из проводников сказал мне: «Религия и гигиена враждуют, и, наверное, так было всегда». Бенарес может проигрывать современному веку, но он остается символом, способным спасти мир: он во весь голос говорит нам, что человек всё еще имеет право быть – каким угодно, даже жалким.
Повсюду в Бенаресе ощутимо влияние идеи кармы и перевоплощения. Карма – духовный закон причины и следствия: сегодняшние поступки порождают следствия, проявляющиеся в последующих воплощениях. Для буддиста этот закон совершенно механичен, для философов веданты это своего рода суд. По их мнению, Брахма–Ишвара (проявление Брахмы, связанное с творением) взвешивает и подсчитывает поступки каждого существа, так, чтобы определить его карму в последующем воплощении. Слово карма означает «действие», и некоторые приверженцы веданты полагают, что существует и коллективная карма, действующая в определенной кальпе, то есть исторической эпохе. Таким образом, каждый индивидуальный поступок может влиять на человечество в целом. Представление это имеет нечто общее с идеей о коллективном искуплении первородного греха, подразумевающей, что все люди должны в равной мере расплачиваться за грехи отцов. Это представление также допускает, что молитва невинного ребенка может спасти мир.
Для того чтобы исполнились законы кармы, и могло быть достигнуто окончательное освобождение, требуется Великое колесо: меньшего Колеса жизни недостаточно. На самом деле, нужно пять тысяч колес: человек должен прожить пять тысяч жизней. Вот это представление и отделяет в корне мир Запада от Индии. Хотя я и способен умственно убедить себя в реальности перевоплощений (поскольку идея эта и в самом деле правдоподобна), я понимаю, что есть большая разница между моим рациональным допущением и тем, как эта идея обитает внутри народа хинду. И потому, даже если я скажу, что верю в перевоплощение, мои кровь и душа не примут этого. В глубине сердца христианин знает, что у него есть только одна жизнь – никак не больше. Современный индиец, наоборот, может говорить, что не верит в перевоплощение, но у корней его существа он убежден в наличии пяти тысяч жизней, и это представление поднимется в его сознание в переломные моменты, особенно в кризисе смерти.
Если мы подумаем о разнице в поведении, вызываемой приверженностью этим двум различным идеям, мы обнаружим действительный исток того пролива, что отделяет от Индии даже тех из нас, кто родился в Южной Америке. Причина эта в фундаментально различном отношении ко времени у человека Запада и у индийца. Индийский святой не вынужден поступать так, будто он святой до мозга костей. В чём–то святой, в другом он может быть грешником. В свою очередь, грешник может в чём–то быть свят. Это значит, что нет причин спешить, нет нужды в резких и однозначных преобразованиях. Времени в избытке: есть пять тысяч жизней – этого хватит, чтобы достичь конечной цели. Запад же, наоборот, всегда обеспокоен проблемой неотложности. Святой на Западе всегда совершенно свят, и наихудшим порицанием для человека Запада будет обвинение в лицемерии. В Индии лицемерия нет: люди могут казаться криводушными, но само представление о лицемерии для них не имеет смысла. Так, человек Запада всё свое существо подчиняет избранной роли, всё, что он делает – определенно и драматизировано, и маска личности для него – важнее чего бы то ни было. Индия устремлена совсем к другому: индиец может иметь тысячи жизней–личностей, но по причине их множества, ни одна из них не ценится слишком высоко. Индиец не любит, и не ненавидит, он не живет и не умирает. Он, скорее, просто скользит к вечности, словно в течении реки. Его индивидуальность тысячи раз распалась на погребальном костре из сандалового дерева, и он растаял в бесконечных формах Майи или иллюзии.
Люди Запада желают сделать свою индивидуальность вечной. Индус же наоборот желает спасти себя от вечности: он боится, что вечность станет чем–то вроде нескончаемой бессонницы. Но такое представление относительно молодо, поскольку древние маги и сиддхи Индии когда–то старались обессмертить себя в символах ледяных сфинксов или мечей.
Первый раз Будда проповедовал именно в Бенаресе, две с половиной тысячи лет назад. Та проповедь, прочитанная им в Сарнатхе, сравнима с Нагорной проповедью Иисуса. Здесь Будда приобрел своих первых саманов – учеников. Однажды утром, во время пребывания в Бенаресе, я посетил Сарнатх, чтобы увидеть великую ступу и знаменитое дерево Бо. Это дерево было выращено из побега, взятого от другого дерева, посаженного в Цейлоне братом короля Ашоки в 350 году до нашей эры. А то дерево, в свою очередь, выросло из ветви дерева у Бодх–гая, под которым достиг просветления Будда. Прежде чем уйти, я взял у дерева листок и сохранил его.
На следующее утро я решил посетить пандита Гопи Нат Кабираджу – он на самом деле и был настоящей причиной моего путешествия в Бенарес. Я обнаружил, что живет он в старом двухэтажном доме посреди заброшенного сада. Оказавшись на месте, я сообщил слуге свое имя, и тогда, как было указано, поднялся по узкой лестнице к балкону, который и занимал пандит. Он встретил меня, сидя на белом полотне, раздетый до пояса. Через грудь тянулся белый шнур брахмана, а повсюду вокруг были разбросаны книги и отдельные свитки. Гопи Нат Кабирадж был известным санскритологом, бывшим профессором Бенаресского университета. Он написал немало важных работ, среди которых «Вишудхананжа Прасанга», «Сурья Виджнана» и «Йоги Раджа дрисайя Вишудхананда». В одной из этих книг он говорит о своем Учителе и о чрезвычайно тайном обществе, располагающемся в Гималаях – Джна Джна гандж. Наиболее ортодоксальные из брахманов считают Гопи Нат Кабираджу отступником или фантазером, увлекшимся доарийскими заблуждениями, многие из которых прямо перечат строгим предписаниям брахманизма.
Стоя перед ним, я обратил внимание на выразительность черт его лица: большие, мудрые глаза, начавшие белеть борода и волосы. Он жестом велел мне сесть на полотно, и, казалось, с нетерпением ждал, пока я заговорю. Тогда я рассказал ему, что один неизвестный ему свами из Кашмира советовал мне увидеться с ним – а я надеюсь получить некоторые полезные сведения. Гопи Нат Кабирадж кивнул и ждал от меня продолжения.
– Я пришел издалека, – сказал я. – Из Анд в Южной Америке. Я пришел в поисках учителей моего Наставника в Чили. Я ищу древнее тайное общество, скрытое где–то здесь, в Гималаях.
Короткий отблеск, казалось, сверкнул в глазах пандита, по которому можно было предположить – он считает меня еще одним безумцем, гонящимся за иллюзией. Но ничего такого пандит не сказал. Вместо этого он вручил мне книгу, раскрытую на оттиске фотографии.
– Да, всё это есть на самом деле, – пояснил он. – Как ты и говоришь, где–то в Гималаях. Взгляни.
Фотография изображала мужчину с длинной бородой, укрытого плащом.
– Этому йогу восемь сотен лет, он живет где–то в Гималаях, в одном из этих тайных ашрамов, которые ты ищешь, в ашраме сиддхов.
Тогда я улыбнулся, потому что это показалось невероятным даже мне, но пандит продолжил:
– Не смейся. Я часто видел этих людей: они приходили ко мне в своих эфирных телах, тогда могут происходить очень интересные вещи. Какое–то время назад, в 1940 или 1941 году, в «Журнале исследовательского общества Бихара и Ориссы» одним немцем была опубликована статья – он путешествовал по Тибету и пережил некоторые очень любопытные приключения в связи с этими оккультными обществами.
Я спросил пандита, как же мне найти этот журнал – и узнал, что мне следует поискать профессора Б. Л. Атрейю в университете Бенареса. Пандит сообщил мне и о другой книге, касающейся темы тайных гималайских обществ, написанной на языке гуджарати. Она называется «Брахманда но Бхета».
Гопи Нат Кабирадж закрыл глаза и мягко покачивался из стороны в сторону. Наконец, он заговорил снова:
– Что ж, после приди сюда еще раз. А сейчас тебе нужно посетить моего друга, великого астролога, его имя Судхир Ранджау Бхадури. Он живет здесь же, в Бенаресе, в месте Рамапура. Прежде, чем увидеть тебя снова, я хотел бы узнать о тебе больше из твоего гороскопа. Судхир Ранджау Бхадури сделает его тебе. Так что вначале повидай его, а потом возвращайся.
В тот же полдень я нанял маленькую тонгу, то есть повозку, запряженную лошадью весьма древнего вида, и под муссонным дождем ехал по узким улочкам и странным обходным дорогам, пока не достиг дома, где и проживал астролог, Судхир Ранджау Бхадури. Долгое время я стучал в дверь, и, наконец, услышал внутри шаги, а потом дверь со скрипом отворилась. Дородный негр, с увесистой связкой ключей на поясе, спросил, что мне нужно, и потом, очевидно, уже осведомленный о целях моего визита, дал мне войти, и провел через складское помещение, мимо нагромождений досок и механизмов. По узкой лестнице мы поднялись к комнате Судхира Ранджау Бхадури.
Войдя в комнату, я увидел, что астролог – чрезвычайно любезный старик, очень худой и телом и лицом. С ним был ребенок, как позже оказалось – его внук по имени Гопал. Астролог сообщил, что знает, кто я и зачем пришел, поскольку Гопи Нат Кабирадж отправил ему сообщение. Поэтому, безо всяких предисловий сказал:
– Я не стану делать твой гороскоп, потому что он тебе не нужен. Всё же, я посоветую тебе бросить искать снаружи то, что уже и так есть внутри тебя. Ты уже обладаешь горой Кайлас внутри, и там можешь отыскать учителей твоего Наставника.