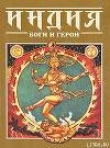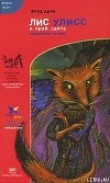Текст книги "Змей Рая"
Автор книги: Мигель Серрано
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
ЗМЕЙ РАЯ. Рассказ о паломничестве в Индию.
Предисловие
Тем, кто однажды снова обратится
К поиску тайных следов, ведущих
От Анд к Гималаям.
Если ветви дерева достают до небес,
Его корни должны достигать ада.
Ницше
«Змей Рая» завершает трилогию, в которую входят также «Ни сушей, ни морем» (1950 год) и «Приглашение в ледяные пустоши» (1957 год). Эта книга, как и две предыдущие, выглядит несвязным рассказом, воспоминанием о былых приключениях. Такая форма была необходима: единственная нить, скрепляющая между собой страницы этих книг – рисунок жизни, еще не оконченной.
Мы, народы Центральной и Южной Америки, часто ошибочно именуемые латиноамериканцами или испаноамериканцами, на самом деле не принадлежим Западу, хотя и часто заявляем о своей приверженности его миру. Ландшафт нашего континента и наши природные качества заметно отличаются от европейских или североамериканских. С другой стороны, мы не принадлежим и культуре Азии. После девяти лет пребывания в Индии и тысяч миль путешествий по другим азиатским краям у меня не осталось в этом сомнений. Мы расположены между двумя мирами. И всё же, теперь нам следует обратиться к Востоку, и в особенности к Индии, поскольку до сих пор мы уделяли Европе избыточное внимание.
Тогда мы обретем давно искомое равновесие. Для нас, чилийцев, это равновесие особенно важно: наша страна почти пять тысяч километров тянется вдоль Тихого океана, и наш океан – в то же время океан Японии, Китая и Индии.
Как кажется, коренные народы Южной Америки были гораздо ближе к Азии, чем теперешние жители, и примечательное сходство между этими двумя древними цивилизациями действительно существует. Благодаря этой первобытной связи становится возможным особое взаимопонимание между чилийцами, другими южноамериканцами и современной Азией. Если европеец станет одеваться и жить как индус, он вместе с тем отвергнет собственную сущностную природу и ее наследие. Чилиец же может сделать это без малейшего насилия над собственным характером, поскольку Востоку он близок в той же мере, что и Западу.
И всё же, в самых глубинах наших душ мы чужды и тому и другому: наше участие в каждом из этих миров лишь относительно. А значит, в действительности мы отчаянно нуждаемся в открытии своей подлинной принадлежности. Обретение нашей истинной природы может оказаться и достижением земной цельности: включив в себя и Восток, и Запад, человек Южной Америки может стать новым и совершенно уникальным – цельным человеком.
На последующих страницах читателю предстоит встреча с рядом упоминаний о потерянном континенте Атлантиды, которые могут смутить современный рассудок. Я настаиваю на том, что эти упоминания несут только символический смысл и проясняют духовные материи; они не имеют отношения к существующим физическим и географическим объектам. Атлантида, о которой я говорю, должна происходить из видения коллективной души о далеком прошлом, о потерянной цельности, и о том Рае, который мог никогда не существовать – хотя эхо его образа в коридорах времени улавливают все поколения. Скажем так: моя Атлантида взывает к внутренней реальности, столь же реальной, как и мир вокруг нас.
Алмора, Индия
Мигель Серрано
Часть первая: От Анд к Гималаям
I. Змей
Прежде чем змей обвился вокруг ствола Райского древа, он обитал в водных безднах под его корнями. А после, как хребет человека поднимается из темных и чувствительных областей пояса к свободному в движениях торсу, так и Змей поднялся к высоким ветвям, где его бледную холодную кожу смогло обогреть солнце. В тех тайных глубинах, откуда он выплыл, он наслаждался простейшей стихией, а встретившись с силой солнца, отпрянул и одновременно вытянулся ему навстречу. Итогом стал конфликт света и тьмы, поскольку сила Змея текучая и вместе с тем мёрзлая; она отравляет и обожествляет. Кто–то назовет яд Змея Богом, кто–то – Бессмертием.
Древо Рая также поднимается из темных водных глубин, наделяющих сочностью созревшие плоды. После солнце высушит плод, растворив его горечь и сделав сладким. На вершине этого Древа можно найти просторный дворец. И здесь, в его главном зале, встречаются двое, сливаясь в объятиях. Они искали друг друга так долго, и теперь, наконец, встретились. Их радость так велика, что они плачут от счастья, и каждая слеза становится плодом на Древе. А кто тот, что вкушает вызревшие плоды – неизвестно никому, поскольку наполненные бессмертным ядом Змея, они существуют вечно.
Когда Змей скользит под поверхностью фосфоресцирующего моря, он один из многих: змеев столько, сколько мужчин на земле. И всё же, в определенном смысле Змей – единая сила, хотя и принимает множество форм, подобных Гидре или Морскому чудищу, которых в древние времена, закрыв глаза, в восторге созерцали моряки. Ведь его можно увидеть только плотно сомкнув веки, чтобы раскрылось третье око – только оно способно воспринять Змея.
Как говорит легенда, многие столетия назад Змей вышел из моря и вырастил крылья. Как спинной хребет человека развивается из клеток эмбриона, так в невинной радости рос Крылатый змей. Отправившись в путешествие к звездам, к Утренней звезде, он вдруг оказался низвергнут валами великого Потопа, воды которого захлестнули землю. Крылатый змей не утонул тогда, но крылья утратил.
Не будь разрушены крылья, Змей наверняка достиг бы Утренней звезды, и там, в просторном дворце, состоялась бы встреча. Радость этого свидания можно выразить лишь слезами, что сливаются в плоде вечности.
Но отчего разразился Потоп? Это великая загадка.
Эта книга – история народа и Змея. Отдаленный народ, столь же многочисленный, сколь и гады морские, веками погружался в пучины невероятного приключения. Эти люди дали Змею ужалить себя, и их приключение, исполненное сложных тайн и божественной простоты – это поиск вечности через отравление. А потому они имеют мало общего с другими народами мира. Это – порода старых моряков, они продолжают традицию тех, чей парус бороздил моря до Потопа. В то же время это и народ горцев, сохраняющих секреты вершин. В общем, это народ, отмеченный касанием богов.
И теперь я вместе с ними. С ними прошел я по пыльным тропам, защищаясь посохом от змей, что пересекали дорогу. Я пускался в паломничества в компании нищих и прокаженных. Змеи и гады крались в пыльных обочинах троп, но не вредили нам, пока мы не наступали на них. Только тогда они отравляли нас, сковывая ритмичный пламень дыхания, и фатально сгущая жидкое солнце в нашей крови. Но так случалось лишь когда мы ступали на них: если мы беседовали с ними, пели для них, или играли им на флейте Кришны, змеи становились нашими друзьями, и танцевали с нами.
Тому, кто выучился играть на флейте Кришны, или флейте Шивы (которая есть лингам, или фаллос, и, стало быть – Змей) нет нужды испытывать страх перед Змеем, ведь даже если он будет ужален, яд не повредит ему. Его кровь уже содержит семя духовного фаллоса Шивы, и он нечувствителен к смертельному яду Змея. Поскольку он уже оплодотворен вечным ядом, он не подвержен влиянию ядов временных. А потому он подготовлен к вечности: Крылатый Змей уже живет в его крови, и его человеческая кровь преобразована в жидкое солнце – благодаря жертвенной крови, однажды пролитой, и до сих пор истекающей из раны в боку Спасителя.
Змей рая вздымается из водных глубин, в которых укоренено и само Древо, и мужчина также рождает телесных сыновей из этих темных мрачных областей. Эти сыновья плоти обречены на смерть, но сыновья духа, рождаемые зрелым мужчиной, способны достичь вечности, превратясь в сыновей смерти. Когда Змей добирается до моря вечности, он делается крылатым.
В венах мужчины, укушенного змеем Шивы, и умеющего играть на флейте Кришны, обитает рыбка. И это – бог, что живет лишь в крови вечных сновидцев.
Прожив половину жизни, мужчина должен приготовиться родить сына духа, то есть сына смерти. Этот сын может быть рожден только в браке со Змеем или в игре на фаллосе Шивы, флейте Кришны. Сын духа – единственный, кто способен пронести нас над морем смерти. Он проведет нас на фосфоресцентной барке или позволит отдохнуть на крыльях Пернатого Змея.
Дивно обличие мужчины, сочетавшегося браком со Змеем – оно будто принадлежит иному миру. В его лице и безмятежная радость отравленного, и спокойствие смерти. Он кажется погруженным в воды снов; здесь плавает он с рыбкой Бога. Даже через опущенные веки его глаза сияют невыразимой радостью, а на губах блуждает тень улыбки; ведь это стало его исключительным правом – спуститься к темным корням удовольствия и суметь возвратиться к духовному единству. В том дворце, что покоится на вершине Древа рая, он встретился с кем–то, кого ждал очень долго, и радость этой встречи заставила слезы струиться по его щекам. Превратившись в плоды, одновременно текучие и льдистые, они падают, звеня, будто бубенцы.
И всё же, лик такого мужчины заставит содрогнуться: глубоко исчерченный морщинами, суровый как горный утес. Такие лица я видел в Андах.
Эта книга о далеком народе и Змее, расскажет и о моей собственной, очень особой связи с ним, длящейся с моего самого раннего детства в Чили.
II. Средиземноморье
Мы уже минули Геркулесовы столбы, и всё больше отдалялись от Англии. На время первого этапа путешествия (когда мы пересекали Атлантику) моим попутчиком стал англичанин, редактор индийской газеты. Хотя он поднялся на борт в Нассау, все пятьдесят лет до того он провел в Индии. От типичного, никогда не покидавшего страну англичанина его не отличало ничто, он столь же твердо держался обычая: виски он всегда пил перед полдником и в обед, а на палубе появлялся в неизменном пальто. Я решил разузнать у него хоть что–то о той стране, в которую направлялся, он же сообщил мне только вот что: быть богатым для индийца – чудной жребий, и в определенный момент жизни он бросает всё свое состояние и возвращается в лесную глушь. Впрочем, и этот факт не казался слишком любопытным моему собеседнику. Он уже вышел на пенсию, и казалось, был исполнен решимости провести остаток дней в соответствии с английским укладом, к которому так прикипел душой. Все прожитые в Индии пятьдесят лет он хранил безоговорочную преданность обычаям своей страны. Такая непроницаемость питала силу его характера, и, разумеется, делала его достойным британцем.
Тем временем образы Англии истаяли позади, хотя ее присутствие в этих южных регионах всё еще ощущалось благодаря Гибралтару. Однако, по сути, контроль Англии над Средиземноморьем и Геркулесовыми вратами лишен смысла: здесь просто нет дела для нее, а точнее, Средиземноморье не имеет с ней ничего общего. Это море принадлежит Золотому веку Вергилия и аргонавтов. Англия же, напротив, принадлежит Железному веку, эпохе Кали–юги.
Железный век требует железных людей, чьи души отмечены сединой, а умы привычны к туману. Только люди такого сорта могут заручиться поддержкой мощи железа. В нынешнюю эпоху такие страны как Испания, которой Геркулесовы столбы принадлежали ранее, растеряли остатки влияния. В серых тонах, диктуемых Кали–югой, Испания способна только на поражения, и она следует своему жребию, став страной–неудачницей.
Кажется верным, что именно судьба управляет народами, ведя их ко злу или благу. Филипп II должен был осознать это, когда против него восстали стихии, и его Непобедимая армада была разгромлена штормами и бурями. Не случись этого – и история могла бы стать совсем другой, и мы избежали бы объятий Железного века. Чтобы эпоха Кали–юги нашла достойное выражение, судьба избрала Англию – ее туманы и угольные шахты, механизацию и тоскливые пабы, но главным образом – ее организационный ум.
Людям, способным управлять Железным веком просто придется быть выцветшими, умеющими легко переносить печаль. И на самом деле, едва ли какие-то народы принимают несчастья так же равнодушно и легко, как англичане. Несчастье стало для них почти что общественным институтом. Может быть, нынешние русские придут к похожему состоянию, хотя об этом еще рано судить; впрочем, отличия наверняка будут, поскольку дело касается английской души. Душа Англии сумела выжить до сих пор потому, что в триумфе Железного века достигла лишь первой стадии. Впоследствии всё будет намного хуже, потому что мир станет совершенно бездушным. Под именем сверхтехнологии воцарится Век атома, а эра Кали–юги достигнет зенита. И всё, что останется сделать тогда – совершенно дезинфицировать мир, уничтожив всех микробов; само собой, будет искоренено и человечество, сохраняющее микроб жизни. И Англия тоже будет удалена, ведь, в конце концов, покамест она не мертва. Микробы живут здесь в городах и деревнях, а улицы остаются грязными. На самом деле, некоторые дороги Лондона не чище улочек священного Бенареса. Итак, Англия всё еще живет, и сохраняет некий дух, а дух выражается посредством света и тени; ему нужны и яркие лучи солнца, и липнущая к человечеству грязь. Жизнь, в конце концов, и состоит из них, а тот, кто постарается очистить себя совершенно – умрет. Стремящиеся к абсолютной чистоте народы захлебываются в своих купальнях, как древние римляне или арабы Испании.
Но к чему продолжать эти размышления? Лучше уж насладиться ясной синевой весеннего денька над Средиземноморьем. Отрешившись от других пассажиров, как только мог, я постарался сродниться с этим необычайным морем, повидавшим столь многое. Ярче всех прочих вод мира Средиземноморье воплощает одновременно и кладезь золотых воспоминаний и живую транспортную магистраль.
Железный век видит родство с серой Атлантикой, и стальные пароходы ей к лицу. Средиземноморье наоборот остается за триремами и парусными судами – оно уподобилось вечному отроку, не признавшему реальность современности, предпочтя ей блеск наследия прошлого.
Я сознавал, что на этой палубе вдыхаю воздух двух различных миров; ведь Средиземноморье – древнее связующее звено между Востоком и Западом. Мне казалось, я чувствую доносящийся из садов иной вселенной тонкий аромат, дыхание цветов истории, проросших на гробницах этрусков и египтян. Они вызвали к жизни подобное сновидению таинство, вспышку воспоминаний о дюжинах легенд и мифов, странствовавших по этому узкому морскому региону.
Со стороны египетского берега вдруг показалась стая черных птиц, несших головы на тонких и длинных шеях. Сделав круг, они улетели прочь. Должно быть, сотни поколений таких птиц смотрели из–под небес на королей и жрецов, каменщиков, рабов и астрологов. Этих птиц видел и фараон Эхнатон; наверное, и его королева Нефертити, чья шея тоже была птичьей, наблюдала за ними, когда пела на балконе Города горизонтов. Мне вспомнилось стихотворное обращение Людвига Милоша к египетской королеве, должно быть, похожей на Нефертити:
Мои мысли – твои, Каромама, царица Египта.
Неловки твои руки и длинные ноги слабы, ты страдаешь…
Странную терпишь диету пустынного дальнего края;
Дворец твой диковинных полон фигур,
Ставших древними прежде, чем ты родилась.
Ты, Каромама, иссякший твой взор и локон, терзаемый ветром…
Ты, рожденная мертвой из колыбели веков…
По другой борт корабля едва угадывались очертания острова Крит – другого края тайн, и золотые тени древних греков всё еще трепетали над ним. Я помню как в детстве, у себя на родине, мы с друзьями часто мечтали о Греции. Вопреки расстоянию, отделявшему нас тогда от Средиземноморья, эти мечты были очень живыми; странно так глубоко переживать драму цивилизации, чужой и совсем не близкой нам. Теперь я смотрел в сторону Крита, один, за всех друзей моего детства, многие из которых были уже так же мертвы, как и древние греки. Понимая, что они могли бы желать увидеть Грецию моими глазами, я сосредоточенно всматривался в горизонт. Я сознаю, что смерть тяжела, возможно, за ней не остается ничего кроме снов и теней. Но я верю также, что есть нечто, переходящее к нам от мертвых, что–то, что продолжает жить в нас. И именно эта сила или энергия сейчас заставляла мои глаза смотреть пристально, так чтобы призраки моих друзей могли бы увидеть через меня то, что не смогли увидеть при жизни сами. Я стремлюсь быть верным этой ноше и не упускать ничего, зная, что друзья сделали бы для меня то же самое, случись нам поменяться местами. Облокотившись о борт палубы, я вполголоса произносил морю их имена, зная, что с этого момента буду оказываться в их компании всякий раз, как мне доведется увидеть волны. Стая птиц над головой вновь развернулась к Египту.
Шла пасхальная неделя, и я вообразил, что налетающий на судно легкий бриз, должно быть, родился в Синайской пустыне. Но после понял, что такое дуновение не может родиться в реальной местности – это ветер Мессии, нисходящий с креста, одушевляемый личностью Христа. Бриз мягко овевал корабль, а я обернулся лицом к земле моего детства. Мое детство выражено именем юного Иисуса. Ныне я приближался к Его земле, краям Его истории. Если бы я пролил слезы, то ради того, чтобы оплакать свою мать и всех матерей. Я почти не знал ее, но понимаю, что она была благословенна Иисусом, ведь матери и дети проникаются духом Христа вместе.
Годы назад один индиец по имени Вивекананда проплывал у здешних берегов. И вблизи Крита ему привиделся странный сон, в котором некто сообщил ему, что Иисус не существовал никогда.
Теперь, когда мы приблизились к восточному краю Средиземноморья, Иисус пришел попрощаться. Суэцкий канал отделял Его мир от другого мира, и, несмотря на тесную связь, они чужды друг другу. Корни христианства – на востоке, но именно в Европе оно проявилось с наибольшей силой. Связующим звеном стало, разумеется, Средиземноморье. Вера Христа, несомненно, была откровением пустыни – тяжким и фантастичным, а исток его в Индии. Та вера не была нынешним христианством, и вовсе не имела желания становиться им. Но на пути через моря вышло так, что истинное христианство будто утонуло в Средиземноморье, а волна, ударившая в германский варварский берег и взорвавшаяся над Европой разительно отличалась от ряби, зародившейся когда–то на краю пустыни.
Ибо силу, рожденную Европой, можно назвать мечтой о Вечной любви, и эта сияющая идея цвела более двух тысяч лет, не развиваясь и не превзойдя своей изначальной славы. Конечно, она спасла многие жизни, но плата была ужасна. Известное нам христианство обрело форму в европейском Средневековье; будучи нацеленным на преодоление примитивных инстинктов варварских народов, оно не осознавало, что эти инстинкты и были биением самой жизни. Христианство сложилось из готических соборов, стихов Данте и кантат Баха, и из мечты о Вечной любви. Был выстроен собственный изолированный мир и создан культ смерти. Всё то, что подавлялось и преследовалось в мире здешнем, устремлялось в мечты или воображаемый мир «потустороннего». Так развивался культ вечной женственности, и любовь стала внутренней, душевной.
Если есть принципиальная разница между Востоком и Западом, то состоит она именно в культе Вечной любви. Существует ли она объективно или всего лишь является следствием подавления инстинктов, я знать не могу; знаю только, что на Востоке нет ничего, ей подобного; любовь здесь не считается таинством и не индивидуализируется за порог безумия. Вечная любовь, как кажется – чистый плод христианского Запада, родившийся, вероятно, из древних закутков германской или кельтской души, в которой женщины когда–то наделялись волшебными свойствами. На Востоке такой надежды (или иллюзии, как сказали бы здесь) нет. Культ Вечной любви – дорога на Запад.
Все мы восприняли это представление и участвуем в нём, оно было благословлено Христом. Несомненно, продвигаясь на Восток, и я нес его с собой – я покинул лишь атмосферу, в которой оно могло бы расцвести. Поэтому Иисус и пришел попрощаться, ведь Он знает, что всё умирает в тех краях, куда направлялся я. Там умирает даже Он.
Эта громоздкая мистическая конструкция представлений о будущей жизни, на небесах или в аду, и мечта о Вечной любви рождают беспокойство человека, будто бесконечно вглядывающегося за горизонт в надежде найти что–то, и отсюда же произрастает современная технология. Несмотря на то, что многие христиане ее порицают, технология остается неотрывной частью их цивилизации, и Атомная бомба – творение христианства. Происходящая с Востока христианская вера, отлично подходящая народу, подавляющему свои инстинкты, возложена на варваров Европы евреями, которые сами были не меньшими варварами. В результате примитивные инстинкты не успели приспособиться: они вытеснялись во внешние действия, а индивидуальность и рациональный ум обретали высшую значимость. Итогом этого процесса и явилась сегодняшняя технология – бегство от самости и стремление дезинфицировать жизнь. Технология это конечное детище рационального ума, отражение того, как далеко может зайти эго.
Восток называет этот процесс Кали–югой, и к несчастью, христианство и Кали–юга – одно и тоже.
Всё же, сам Христос никак не повинен в том, что случилось после него. Нужно ясно понимать, что Его образ принадлежал пустыне, Азии, где индивидуальное сознание теряется.
Так что же остается? Одной из великих реликвий западного мира, как кажется, является индивидуальное понимание красоты, принимающей разнообразные формы. Это может быть красота драмы или красота жеста. Порой вся жизнь человека становится жестом: он знает, что жизнь у него одна, и, пылая страстью, сжигает ее от начала до конца одним движением. На Востоке такой жест невозможен, потому что у Востока пять тысяч жизней. У Запада лишь одна.
Получается, что красота и есть главный плод христианской жизни: красота открывается только тому, кто живет единственной жизнью, не желая упустить ничего. Но при этом, излучаемая такой жизнью красота, в конце концов – всего лишь жест. Было бы глупо верить, что в ней есть нечто большее.