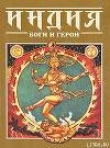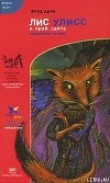Текст книги "Змей Рая"
Автор книги: Мигель Серрано
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
XLV. Рамана Махарши
Из Пондичерри я спустился еще дальше на юг, в Мадурай. В один из вечеров я оказался у одного из крупнейших в Индии храмов: великого храма Минакши. Именем Минакши в Мадурае называли Парвати, и храм этот посвящен ей. Одевшись как хинду, я наблюдал здесь церемонию укладывания богов в постель. В центральном святилище брахманы били в барабаны и дули в длинные, больше похожие на трубы, роги, другие раздавали прихожанам конфеты и молоко. Прислонившись спиной к старой резной колоне, в загустевшей от дыма сандалового дерева атмосфере, я смотрел, как брахманы переодевают Минакши и Шиву, ее мужа. Вначале с них сняли дневные одежды, потом, овеяв опахалами, выкупали и накормили, и, наконец, надели на идолов ночные сорочки. А после их оставили наедине в святилище, чтобы там, в тайной келье, они могли приступить к действу божественной любви.
Недалеко от Мадурая располагается Тируваннамалай, а подле него – холм Аруначала. У подножия этого небольшого холма жил и умер один из величайших йогов или святых современной Индии – Рамана Махарши. Как и Рамакришна, он умер от рака. Я решил посетить его ашрам и увидеть гробницу – так же, как Шри Ауробиндо, он не был кремирован. Впервые оказавшись во дворах ашрама, я был поражен здешней миролюбивой атмосферой. Побродив вокруг, я вошел в главный зал – и прежде всего мне бросился в глаза диван Раманы Махарши, которым он пользовался при жизни. Над диваном висела цветная фотография святого, настолько реалистичная, что казалось, будто он по–прежнему лично присутствует здесь. Раману Махарши почитают в Индии особо: он считается достигшим постоянного союза эго с Самостью. Поэтому он жил и умер на глазах людей, ведь когда йог достигает такого состояния, ему больше не нужно упражняться в умственном сосредоточении или размышлении; он просто перестает сдерживать себя и парит в состоянии благочестия. То, чего достиг Рамана Махарши, описывается ведическим представлением о слиянии Атман и Брахман; это событие называют дживанмукта – освобождение при жизни. Потому он говорил тем, что оплакивали неизбежность его смерти: «Почему вы плачете? Я не ухожу. Я здесь и всегда буду здесь. Я воплощен в вас самих». Рамана Махарши стал единым с Атман, стал коллективной сущностью. Таков идеал Веданты: преодоление разобщенности и союз с абсолютным.
Какое–то время я отдыхал в главном зале, впитывая здешнюю атмосферу миролюбия. Потом ко мне подошел свами, желавший сопроводить меня в прогулке по окрестностям. Я посетил школу юных брахманов: здесь группа голых по пояс бритоголовых мальчиков пела сотни ведических стихов и санскритских мантр. Они казались зачарованными ритмом музыки и пели гипнотическими голосами, так же, как поколения их предшественников.
Потом мне показали реликвии Махарши. Взяв его посох, я испытал волнение – ведь и руки святого так же касались его. Потом, к моему величайшему удивлению, меня проводили в маленькую комнату, где с почтением показали темный кубический ящик. Это оказался своего рода туалет, которым Рамана Махарши пользовался в последние годы жизни. На крышке ящика тлела палочка сандалового дерева. Вначале я был скорее оскорблен и рассержен, не понимая, зачем они сохраняли эту вещь – но взгляды их набожных лиц встречали туалет святого учителя с почтением и нежностью – и я начал кое–что понимать о действительной природе преклонения, присущего этому чрезвычайному народу. Ведь в Индии разделений нет: всё естественно, и всему отведено подобающее место в космосе. Естественные функции человека так же священны и достойны уважения, как и его идеи. То, что приходит свыше, в той же мере является частью человека, как и то, что выходит из–под него; и со вселенской точки зрения (которая всегда и свойственна индийцу), между ними нет разницы. Идеи и экскременты в равной степени продукты человека, и в свою очередь – продукты божественного плана природы. Потому индийский святой может читать проповедь, опорожняя кишечник, и святость его слов не поблекнет от физиологического действия. Как я видел, в Индии всё совершается публично: здесь нет никакой нужды в интимности или притворстве. Очень вероятно, что и величайшие страницы западной литературы родились и были записаны в тот момент, когда их авторы сидели на стульчаке – но будь этот факт предан огласке, нам бы они уже не показались такими возвышенными. В Индии же нет никакой разницы, здесь важен только конечный, цельный результат человеческих поступков. Здесь человек не разделен с природой, но наоборот тесно и интимно связан с животными, обезьянами, реками и деревьями. Потому хинду легко поддается наплыву эмоций перед природными явлениями: для него водопад настолько же таинственен и достоин любви и восхищения, как и физиологическая работа тела или действие интеллекта. Потому боги хинду – это овеществления природных сил, кристаллизованные в Коллективной душе; их храмы поднимаются из земли, как заросли джунглей, и божественные идолы роятся на них, как полчища насекомых. Во всех отношениях хинду связан с космосом – в его мифологии, в образах, и в богатстве Коллективного бессознательного, которым он живет и которое толкует каждый час своего дня. Оттого хинду не нужны перемены, чтобы избавиться от скуки. Всякий, кто вплетен в Коллективное бессознательное, не может заскучать; цветам или горам не скучно быть собой. Только тот, кто отделился от природы, и не касается более космоса, чувствует беспокойство. Наверное, буддисты хинаяны должны испытывать те же мучительные ощущения, ведь их религия, как и протестантство, отделяет их от природы. Индуизм же, наоборот, очень подобен католичеству в этом отношении: он полон богов, мужских и женских святых и природных сил, обретших воплощение в человеческих образах.
В этом скрыта почти необоримая сила хинду – ведь он, почти единственный в мире, по–прежнему хранит полное взаимопонимание с природой и приемлет ее во всех формах. Его страна часто оказывалась порабощенной, но в конечном итоге хинду вновь торжествовал, опутав захватчиков будто джунглями или волнами океана. Хинду – меч, который может согнуться, но никогда не сломается. Он исчезнет лишь, если исчезнет Земля.
Поэтому, наверное, для хинду было бы несложно выжить в атомной войне. Урбанистическая цивилизация и городская жизнь по–прежнему чужды ему. Его цивилизация – цивилизация джунглей и гор. Даже дом ему чужд: это просто некое убежище от муссонов, не имеющее ни собственного значения, ни характера. Хинду оказывается совершенно неспособным украсить интерьер, потому что не понимает его смысла. В крупных городах, таких, как Бомбей и Калькутта, хинду живет, спит и умирает на тротуаре. В общем, город разрушает его – так же вымерли аборигены Патагонии и Огненной Земли, когда их принудили носить одежду. Сегодняшний хинду готов к атомной катастрофе – ее разрушительная мощь направлена против городов; на самом деле, хинду был бы даже счастлив. Ведь Индия, за исключением нескольких современных городов – страна маленьких деревень. Это великая цивилизованная природа или великая природная цивилизация.
XLVI. Лица без значения
Только в Индии можно увидеть лица настолько древние, что они, кажется, принадлежат самой истории. Такие обличия воображаешь, читая Библию или Гомера – а в Индии они оживают: глубоко прорезанные черты, бороды патриархов; угольно–черные глаза и длинные загнутые ресницы – кажется, повсюду на земле они уже канули в небытие. На здешних улочках вполне можно ожидать встречи с ожившими дьяволами и античными богами: здесь перс, там аккадец, или кто–то еще, переживший Потоп. Пыльные индийские пути заполнены древними фигурами в туниках – они будто сошли со страниц Библии, и индийские деревни полны персонажей Завета.
Если бы такое лицо принадлежало человеку Запада – его тут же сочли бы существом невероятным; потому что на Западе лицо считается проявлением внутренней сути – там лица не растут сами по себе. Так, лоб в глубоких морщинах и густые брови выдают человека демонических сил, а борода патриарха и отстраненный вид указывают на мужчину, пережившего все бури и невзгоды, прежде чем обрести покой. А в Индии между лицами и внутренними сущностями нет никакой связи. Здесь лицо будто бы существует само по себе, и индийские лица так же вычурны и разнообразны, как узоры на крыльцах бабочек здешних джунглей.
Бесполезно было бы пытаться отыскать соответствия между этими необычайными лицами и внутренней, индивидуальной личностью, ведь природа не имеет личности; природа – маска, скрывающая коллективный ум.
Эта любопытная особенность может объяснить многие черты индийской жизни: отсутствие этикета, отсутствие индивидуализированных форм и неспособность чувствовать внешнее пространство и перспективу. Индийцу совершенно чуждо чувство красоты в ее аполлоническом аспекте. Человек Запада не одобрит ни его манеры, ни жесты, ни даже одежду. Чувство прекрасного у хинду тождественно природной красоте леса или реки: он неспособен оценить абстрактные формы и совершенно ими не интересуется. Он останется абсолютно безучастным к красотам Флоренции. С другой стороны, водопад его зачарует – ведь интуиция и традиция сообщат ему о том, что течение воды отражает его собственное существо.
За те годы, что я имел возможность знакомиться с архитектурой и живописью хинду, я очень нечасто находил что–то, созвучное моему эстетическому чувству. На самом деле, изобилие красок и форм меня скорее раздражало. Но я могу понять, что всё виденное мною – архетипично: один храм здесь точно такой же, что и другой. Один свами подобен другому. И каждый святой – как и все другие святые.
XLVII. Свами Кришна Менон
Следующим свами, которого я отправился посетить, был Кришна Менон, живший в Тривандруме, городе на Малабарском берегу, открытом португальцами века назад. Как и у Джанарданы, у Кришны Менона были последователи в Южной Америке, особенно в Аргентине – а разница между ними была в том, что Кришна Менон был совершенным ведантистом.
На пути к Тривандруму меня не оставляли мысли о мертвой девушке, я был охвачен ее памятью так же, как и тогда – на борту корабля, пересекавшего Средиземноморье. Я снова размышлял о том странном процессе, что ведет к мистической свадьбе с душой, гадая, действительно ли я желаю сейчас отступить от этой узкой тропы, чтобы всмотреться в тени вдоль пути. Но тогда я понял, что она, должно быть, ждет меня, как Беатриче ждала Данте – чтобы протянуть мне руку и помочь взобраться к вершине Древа Жизни; там, единый с нею, я смогу оставаться вечно.
Сидя перед Кришной Меноном на втором этаже его удобного ашрама, я спросил:
– Верите ли вы в продолжение существования после смерти? Продолжают ли мертвые существовать в какой–то форме, и можем ли мы встретиться с ними?
Мгновение Кришна Менон колебался, а затем ответил:
– Веданта учит нас, что жизнь – иллюзия, и индивидуальное эго – также иллюзия. Как же может существовать смерть, если не существует жизни?
Потом, после короткой паузы, он продолжал:
– Чтобы достичь спасения, которое есть мир, приходящий со знанием, вначале нужно встретить мудрых.
Кришна Менон, ранее бывший главой полиции, лишь однажды в Калькутте виделся со своим гуру – но этого для него оказалось достаточно.
Позже я рассказал ему о своем опыте переживаний во внутреннем мире, о «вибрациях», и об ощущениях разделения с телом. Он сказал, что я испытываю эти ощущения потому, что в предыдущем воплощении, должно быть, упражнялся в йоге. Свами тоже практиковал раньше йогу, но потом оставил.
Мне часто казалось курьезом, что философы и святые веданты, в остальном совершенные монисты, всегда твердо верят в перевоплощение. Всё для них – иллюзия, но перевоплощение и индивидуальная карма, очевидно, избавлены от всякой иллюзорности. Ну что же, мне было сказано, будто я страдаю от последствий того, что практиковал йогу в прошлой жизни; но ведь только йог может стать дживанмуктой и побороть иллюзию.
Свами Кришне Менону тоже приходилось работать со своей кармой: он страдал от болей в ногах, и должен был проходить курс традиционного лечения аюрведы, состоящий их массажей и травных компрессов. Ему пришлось оставить общественную жизнь, чтобы завершить лечение. Но то было много лет назад, а теперь Кришна Менон мертв. Он был невысоким человеком приятного и приветливого характера, очень ясно выражавшим свою мысль. Он напомнил мне об одном чилийском друге.
XLVIII. Мыс Коморин
Малабарский берег чрезвычайно красив, особенно в сезон муссонов, дарующих растительности насыщенную зелень, не похожей на пальмы, кокосы и песчаные пляжи Цейлона. Люди и селения здесь очень ухоженные, как и повсюду в дравидской Индии. Само побережье имеет богатую историю: к ним приставали корабли царя Соломона, и именно здесь находился легендарный Офир. Святой апостол Фома пришел сюда, сюда же пришли и евреи после разрушения Храма. На этот берег высадились португальцы; именно они придумали слово, чтобы обозначить увиденную разделенность общества хинду. Слово «каста» на самом деле было западным термином, употребляемым в отношении выведения пород скота. В пятнадцатом столетии какой–то пошляк из португальских моряков применил его к укладу индусов, и так оно оказалось вписанным в историю. Индийский термин, обозначающий касту – варна, что значит «цвет».
В пути я задержался, чтобы осмотреть дворец, по стилю почти китайский или непальский. Достаточно забавно – он напомнил мне и о деревенском доме в Чили. Я вошел в дом и осмотрел его главный зал, где, надо полагать, король или принц развлекал своих женщин. Стены повсюду были покрыты фресками, изображавшими сценки из жизни Кришны: он занимался любовью с Радхой и другими гопи, а вокруг него располагались обезьяны и кони, и многие другие звери, также вовлеченные в любовные игры. Нужно думать, картинки эти были нужны для того, чтобы принц мог подражать позам изображенных на них любовников. Во дворце также имелась деревянная кровать, которой приписывались врачующие силы. Португальцы укладывали на нее своего принца, когда он бывал болен – несомненно, он лежал здесь, надеясь побороть свой недуг.
Позже я свернул с прямой дороги, чтобы посетить водопад Курталам, в котором хинду совершают церемониальные купания. Сотни мужчин, женщин и детей приходят сюда и становятся под падающие воды; они собираются, как мотыльки на огонек свечи и приходят в экстаз перед этим символом природной мощи. Я тоже решил искупаться здесь, и, войдя в воду, почувствовал, как тело пронизал электрический ток водяных струй.
Было уже далеко за полдень, когда я добрался до мыса Коморин – самого подножия Индии. Здесь Рама переправлялся на Цейлон с обезьяной Хануманом, чтобы спасти свою жену Ситу, и отсюда арии отплывали на завоевание Цейлона. В их вторжении им помогал дравидский вождь с юга Индии – сыгравший в фактической истории ту же роль, что Хануман играет в легенде.
Мыс Коморин отмечает слияние трех великих вод: Индийского океана, Аравийского и Бенгальского морей. Здесь я присел на скалу и глядел, как пурпурно–красное солнце окрашивает волны. Обхватив голову руками, я думал о том пути, каким столь многие из этих легендарных деяний исчезали из мира. Все сцены, которые я наблюдал и описал, вскоре станут не более чем мертвой легендой, когда новая Индия промышленной революции и планов пятилеток поднимется над руинами прошлого. К тому времени турбины, самолеты и гигантские мосты совершенно затмят сверхъестественные силы Ханумана, столетия назад перелетевшего от мыса Коморин к Цейлону. Более того, атомная эра межпланетных путешествий сделает мои посещения Антарктики и Гималаев мелочными и незначительными, а мой отчет об этих приключениях будет старомоден, как сегодня комичны истории о путешественниках девятнадцатого века. Как нынешнее поколение считает наивными приключенческими байками продвижения британских солдат, пересекавших пустыни на лошадях, так будущие поколения сочтут ничего не значащими экзотические существа и странные ландшафты этой маленькой планеты. И уж совсем неинтересны им будут блуждания в песках пустыни души.
Однако даже если я кажусь сегодняшней молодежи обомшелым ретроградом, я верю, что должен сложить отчет о том, что видел и пережил; потому что считаю, что он пригодится поколениям далекого будущего. Моя задача – сохранить сокровище и наследие прошлого, чтобы стать звеном в цепи поколений тех, кто упорно противится приближению черной ночи. И получается, что книга эта написана не для моих современников – а для тех немногих из поколений будущего, кто может снова захотеть отыскать тайную цепочку следов, связующую Анды и Гималаи – даже если в будущем ни в Индии, ни в моей стране, не найдется уже ничего, что хоть отдаленно напомнило бы пережитое и описанное мной. Но внешние факты не важны, и подлинный смысл моих приключений и всех путешествий исключительно внутренний. Мы всегда продвигаемся внутрь себя, даже отправляясь на другие планеты.
Эта книга – для тех, кто снова возжелает пройти за пределы полюсов.
Глядя на свои записи, я понимаю, что моя история и моя душа направлены вспять. Поэтому понять меня в действительности смогут только в годах грядущих. Я настолько древний, что могу принадлежать только будущему.
XLIX. Река
Подобно реке, я спустился из головы Шивы в пещере Амарнатх и прошел сквозь пылающие равнины центральной Индии. Я позволил себе плыть по течению, не сопротивляясь, я прошел сквозь дождь, свет и тень. Дрейфуя так, я встречал мертвых и живых, трупы животных и змей, прокаженных, и даже богов. В этом буром потоке я плыл к морю, к южной окраине Индии, где кончается земля и три древних моря сливаются воедино.
С высот Гималаев сошел я к мысу Коморин, к чакре муладхаре, и обнаружил, что и здесь есть храм. Из святилища Шивы в Амарнатхе я пришел к мысу Коморин, к храму Кания Кумари, принцессы–девственницы, Спящей красавицы и Змея Кундалини.
Эти храмы мы можем найти в собственном теле, потому что всё в теле священно. Нам должно воздвигнуть храмы в каждой части тела, и служить всем богам, обитающим там: мы не должны отвергать ничего. Напротив, мы должны объединить всё и жить в каждой части. Мы должны стать жрецами собственных ритуалов и собственных жизней, мы должны проживать жизнь как богослужение, быть брахманами в собственных храмах. Мы вновь должны переоткрыть себя, и уподобиться людям Атлантиды. Для этого нам нужно постареть на тысячи лет – тогда мы сможем спроецировать себя на тысячи лет в будущее.
Всё это мы должны сделать, поскольку, как сказал Сведенборг, Вселенная имеет форму человеческого тела, и внизу то же, что и наверху; то, что в Анда, в космосе – обнаруживается и в Пинда, в человеке. И потому это путешествие, как и любое другое – одновременно и внутреннее и внешнее.
Я смотрел, как рассвет разгорается над мысом Коморин, среди стенающих неприкасаемых и полуголых женщин, раздирающих свои раны. Восходящее солнце освещало всю нашу ничтожность, и также сверкало на стенах храма Кания Кумари, принцессы–девственницы.
Тогда я искупался в этих священных водах, вместе с рыбаками и паломниками, прибывшими сюда издалека. Я вошел в воды трех древних морей так же, как входил и в священную реку.
L. Кришнамурти
Анни Безант, основательница теософской школы в Адьяре, провозгласила Кришнамурти Мессией нашей эры – его можно было считать теософским Бхагаваном Митрой Девой. Лично я думаю, что Анни Безант выбрала его на роль Мессии за чрезвычайную красоту: ни одно лицо в Индии (за исключением, может быть, Неру) не обладает такой красотой.
И нет более страшного удела, чем оказаться избранным теософами на роль Мессии. Это травмирующее переживание привело Кришнамурти к восстанию против всех учителей и гуру, и против всех возможных способов обмана. И Кришнамурти явил миру пример необычайной ценности, сопротивляясь величайшему искушению властью и богатством – он отверг всё, что могло причитаться ему, как Мессии. Он неизменно противостоял обожанию психопатов, в большинстве своем богатых и праздных – из того сорта людей, что бродят по миру, торопясь швырнуть себя к ногам первой фигуры, которая покажется им полубожественной.
Почти все деяния Кришнамурти были – из необходимости – отрицающими и разрушительными. Он распустил созданный для него Орден звезды в Голландии, публично заявил, что не является Мессией, и стал смертельным врагом всех учителей и гуру любых школ и традиций, любых философий и религий. Он шел по миру, уничтожая всё и восставая против всего; он уподоблялся Шиве в великом опустошительном танце, производящем новый вакуум творения. Можно сказать, в тот момент, когда Кришнамурти отрекся от роли Мессии, он и сделался истинным Мессией нашего времени.
Я помню нашу первую встречу. Это произошло незадолго до того, как я прибыл в Индию. В самолете из Парижа в Лондон я читал книгу Кришнамурти, надеясь отыскать в ней успокоение и избавление от воспоминаний, которые я оставлял позади.
Позже, шагая по пустой лондонской улице, я увидел мужчину без головного убора, идущего прямо мне навстречу. Хотя до того я никогда не видел Кришнамурти, я немедленно узнал его. Мы оба остановились и схватили друг друга за руку. Больше ничего. Годы спустя, когда я встретил его вновь, в Индии, он сказал, что отлично помнит нашу встречу в Англии.
О Кришнамурти рассказывают, что когда он писал книгу «У ног Учителя» – в тот период, когда он верил в своего гуру и чтил Майтрею – его лицо было красивым настолько, что казалось почти божественным. Можно предположить, что он естеством был предназначен для любви, уступок и послушания. Но вот он разорвал всякую связь с подобными явлениями и всецело последовал пути интеллекта, жесткому и безжалостному. В терминологии хинду можно сказать, что хотя по своей сути он принадлежал бхакти–йоге, он постарался сделаться джнана–йогом. Одним словом, он воспротивился собственной природе. И ни в коем случае нельзя быть уверенным в том, что изменение это было вызвано детской травмой.
Видеть Кришнамурти перед публикой – зрелище чрезвычайное. Он сидит на подиуме перед огромной аудиторией, одетый как хинду, на нём непорочно белый кадхи. Белы и его волосы, но темные морщины на лице указывают на муку, отметину Змея. Он произносит невероятные мысли, в которых будто содержится вечная правда – они соответствуют величайшему замыслу. Глаза его полуприкрыты, а морщины вокруг них – как силуэт голых ветвей в пустынном зимнем рассвете. Вот его слова:
«Нет учителя, нет священных книг и нет традиции. Никто и никого ничему не может учить. Никто не должен ни к кому прислушиваться; нет смысла в том, чтобы следовать».
По памяти я повторяю его фразы, которых мне не забыть никогда. Я слышал их на публичных лекциях в Нью Дели:
«Бессознательное и Сознательное существуют только в мире символов, но всё же их придется понять, чтобы пройти за их пределы. Ум должен выйти за пределы, и достижение этого состояния оборачивается полным безмолвием ума. Но это не то состояние, которое можно развить – оно мгновенно, и возникает на один момент, безо всякого перехода или продолжительности чувства. Также нельзя развить или взрастить любовь или смирение».
«Мысль творит мыслящего; без мысли нет мыслящего. Но при этом мысль – всего только память, или воспоминание о прошлом. Придется освободить себя от мыслей и от символов, чтобы перестать быть мыслящим».
«Ум не может действовать без мозга, однако он создает мозг».
«Человек, желающий сделать вечной свою жизнь, или свою любовь, или свою душу, подобен человеку, выстроившему избушку на краю реки и отказывающемуся нырять в поток жизни, не имеющий ни конца, ни начала. У жизни нет начала или конца, так же, как и у ума. Только если мозг освобожден от мысли и памяти, и от воспринятых идей, он может достичь состояния, не имеющего начала или конца, и представляющего вечность».
«Нет ничего плохого в том, чтобы смотреть или созерцать, но практиковать сосредоточение ума – значит просто налагать ограничения. Повторять мантры или практиковать йогу, или другие дисциплины и формулы – просто усыплять ум. Проще принять транквилизатор – его эффект обойдется меньшей ценой и проявится быстрее. Но кто сегодня знает, как смотреть? Кто знает, как созерцать? Люди смотрят, но не видят ничего. Кто видел муссонное небо? Кто видел большое дерево, вырастающее к небесам? Кто видел мальчишеское выражение на лице мужчины?».
Кришнамурти говорит, как достигший просветления. Он говорит так красиво, его слова так полны поэтической созидательностью, что поэты не могут сдержать слез перед красотой выражения. Вот еще некоторые его изречения:
«А кто теперь слушает, кто прислушивается к своему сыну, своей жене или своему другу? Слушать – тоже искусство, и следует прислушиваться и к положению собственного тела, к настроениям и жестам – это тоже музыка, создаваемая жизнью, плывущая вокруг нас».
«Почтенность – признак посредственности. Любить, или даже убить – значит полностью отдать себя действию, и обрести вечность в настоящем. Понятие страха возникает, потому что мы лишены цельности: частью мы живем в прошлом, частью – в будущем. Мы разделены, потому что не живем в настоящем, но живем в воспоминаниях и в догадках о будущем. Страх смерти проистекает не от самой смерти, но рождается из тех участков времени: прошлого и будущего – в которых мы не существуем в действительности. Страх особенно приходит из памяти. Мы боимся смерти, потому что помним, как видели кого–то умершим, и потому что думаем, что и нам придется умирать. Но тот, кто живет в настоящем, не может бояться смерти, потому что он целиком отдает себя действию жизни. Поэтому, когда он умирает, он не будет бояться смерти: в самом действии умирания он обретет целостность, какой, вероятно, не знал при жизни. Такой умирающий полностью откликнется на вызов; он полностью, всей своей жизнью, отдастся смерти. Ведь смерть красива и поэтична; она совершенно отлична от жизни, она – неизвестное и неожиданное; она полна возможностей и не похожа ни на что, известное при жизни. Уже только за это ее стоит любить. Но ведь она еще и конец времени. Тот, кто хочет продлить свое эго, увековечить свои “я был”, “я есть”, “я буду” – встретит смерть печальную. Но тот, кто мыслит, не обременяя себя воспоминаниями, тот, кто слышит и видит в настоящем – способен жить во вневременной сфере, не имеющей начала или конца. У жизни нет начала и конца, так же, как и у смерти».
Слушая Кришнамурти, я думал о том, придет ли день, когда я смогу начать любить смерть и желать ее. Для большинства людей смерть принимает форму кого–то, кого они любят. Для многих это Иисус Христос, для других – Дева или Мать. Что касается меня, то я сомневаюсь, что захочу умереть, прежде чем смерть примет форму золотой девочки или белого цветка. Тогда я прыгну в этот цветок – и он станет моей смертью.
Кришнамурти продолжал:
«Ни одна из фундаментальных проблем жизни не имеет ни ответа, ни разрешения. Ответ или разрешение могут быть найдены только в признании того, что разрешения нет; в принятии ценности того, что проблема неразрешима. Так обстоит дело и с жизнью, и со смертью».
Вернувшись с юга Индии, я встретил Кришнамурти в Дели. Я посещал его лекции и проповеди, и видел, как в спорах он выходил из себя и кричал, будто ребенок. Однажды по случаю мы оказались наедине в его доме. Он стоял в комнатке, окна которой выходили в сад, а я спросил:
– Верно ли, что действие убийства, или совершение какого–то преступления столь же чисто, как и действие любви?
– Да, – ответил он, – но только в том случае, если ум остается ими незатронут. Ведь все действия должны происходить именно так. На самом деле, любовь не должна оставлять следов, после того, как она пережита, так же, как и совершенное преступление.
Тогда я спросил его, читает ли он – и он сказал, что нет. Про сны он сказал так:
– Я вижу сны, только если съем что–то тяжелое. Обычно я не вижу снов, потому что смотрю на мир. Когда человек смотрит, и сознательным и бессознательным существом, он не оставляет ничего для снов и для ночи. Тогда он просто отдыхает.
Однажды я пересказал доктору Юнгу эту беседу с Кришнамурти, а он в ответ поведал мне, как некоторые ученые и изобретатели настолько погружались в свои эксперименты, что просто не оставляли себе ничего такого, что могло бы видеть сны – или, по крайней мере, им казалось, что они не видят снов. Потом вдруг что–то менялось, и они снова начинали видеть сны.
Тогда я спросил Кришнамурти:
– Но что значит «смотреть»? Как нужно смотреть?
– Вот так, – сказал он, и стал пристально глядеть на цветок в вазе, стоявший на столе. Наблюдая за ним, я чувствовал, будто он опустошает себя, и особая атмосфера охватывает его и цветок, и что–то исходит из цветка и из него, возможно, встречаясь в каком–то ином месте, но определенно не здесь.
Потом Кришнамурти стал глядеть на мои руки. В то время я даже подумал, что уже никогда снова не завладею ими – он совершенно отнял их. Тогда он улыбнулся своей невероятно красивой улыбкой.
Я спросил:
– Вы говорите, что нет нужды следовать за учителем, и что не стоит ни учить, ни учиться. Но почему тогда вы проповедуете и произносите речи?
Казалось, он был озадачен, но ответил так:
– Я источаю свои мысли, как цветок источает запах. Цветок просто не может этого не делать.
– Скажите, – спросил я еще, – а устаете ли вы от этого?
– Да, немного.
Я подумал, устает ли цветок, источая аромат.
Мы вышли в сад на чаепитие. Кришнамурти пил только горячую воду, в которой смешал мед и лимон. Из–под стола появился кот. Кришнамурти пытался подозвать его, но тот прошел мимо. Глядя на него тогда, я стал проникаться соучастием к нему, мужчине чрезвычайной храбрости. Кришнамурти – один из величайших людей наших времен. Его суждения, хотя он и отрицает это, коренятся в философии Веданты, и в некоторых отношениях подобны дзен–буддизму. Всё же, его проповеди страдают от слабости изложения, характерной вообще для восточного мышления: будучи записанными, они выглядят неубедительно. Как бы то ни было, Кришнамурти – проповедующий брахман. Он противоречит себе, проповедуя о том, что человеку не следует проповедовать. Однако этого противоречия он не видит – индиец никогда его не видит, даже в политике. Более того, оно его и не волнует, потому что мысли его не рациональны, они проистекают из других областей.
С некоторых пор Кришнамурти потерял равновесие, вероятно из–за того, что приблизился к барьеру, сквозь который не может пройти. Однажды он уже обнаружил, что нужно отречься от роли Мессии – и ему, вероятно, придется совершить новое отречение, чтобы обрести способность двигаться дальше, или даже просто остаться живым. Он проповедует полное отвержение условностей; он принимает любовь и преступление, но сам живет как традиционный индиец юга. Вегетарианец, пьющий мед и горячую воду, живущий аскетично – в полном соответствии с установленным образцом гуру, или учителя. Я не знаю, случалось ли ему полюбить, но уверен, что никаких злодеяний он не совершал никогда.