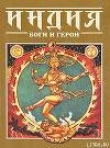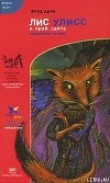Текст книги "Змей Рая"
Автор книги: Мигель Серрано
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
III. Пустыня
Сойдя на берег в Порт–Саиде, я обнаружил на его улицах дюжины собак, устилавших собой мостовые. Разумеется, сами они не придавали никакого значения тому, что живут именно здесь. В следующее мгновение я оказался окружен дюжинами людей, каждый из которых пытался всучить мне свой товар. Они были назойливы и бестактны, но подкупали детской наивностью: для них будто бы сама попытка одурачить меня была способом ощутить пульс жизни. А после на перекрестке я увидел мальчонку, тащившего тяжелую телегу. Он не сумел вовремя заметить полицейского, велевшего ему остановиться, и теперь этот постовой подскочил к нему, схватил за шею и принялся колотить. Случайный прохожий поспешил помочь полицейскому.
Это были те самые люди, что распяли Христа.
У причала двое мужчин были поглощены взаимными оскорблениями. Они, должно быть, говорили друг другу ужасные вещи, если судить по свирепости тона. У одного из них глаза прямо горели яростью. Раньше я только в книгах читал, будто глаза могут сиять зловеще, а тут впервые увидел подтверждение этому.
Конечно, было что–то странное здесь, в Порт–Саиде; казалось, будто некая новая сила под толщей горячих песков вновь приходит в движение. О да, специй для нового блюда на столе истории тут имелось в достатке. Ведь здешние жители – это и те самые люди, что последовали за Христом.
Вернувшись на корабль, я обнаружил всех пассажиров собравшимися на палубе. Они наблюдали выступление уличного мага, одетого в длинную полосатую мантию и феску. Бормоча: «гали–гали–гали», он вдруг вытаскивал пригоршню цыплят из ворота какого–нибудь пассажира; другой пассажир обнаруживал цыплят в карманах. Было понятно, что теперь мы оказались в мире, где в умы вплывают мотивы сказок о Синдбаде–мореходе.
Пустыня простиралась вдаль по обе стороны Суэцкого канала. Временами вдоль берега проходил британский патруль, там и сям я замечал египтян, примостившихся на камнях, будто птицы. В целом же, вид был пустынный: только жар и духота, сочетание обжигающих песков и влажного воздуха. Египетская жара совершенно отличается от жары Панамы или Эквадора. Там горячие ветры ласкаются будто шелковые пальцы, если тебе станет дурно от жары – ведь чувственные тропики Центральной и Южной Америки совершенно не затронуты влиянием истории. Но на Суэцком канале нависшее куполом глубокое небо над библейской пустыней было небом древних эфиопов; это же самое небо взирало на халдейских магов, на Моисея и Мухаммеда.
По одну сторону канала лежал Египет, по другую Аравия. С приходом ночи тысячи звезд стали сыпаться вниз над Синаем и Красным морем. Их число казалось почти невозможным, невероятным. В относительной прохладе вечера казалось, будто небеса завлекают горячие ветры пустыни повыше к звездам. Наверняка, именно здесь скрывалась причина того, что древних пророков в присутствии Бога охватывало бешенство: ужасный Иегова в невообразимой дали небес, нависших над пустыней, не мог воплощать ничего кроме непостижимой тайны. А отлученный человек не мог думать ни о чём, кроме своей горестной доли. Здесь скрывается и источник страданий человека после грехопадения, и здесь таится зерно, родившее Христа. Потому что в голой пустыне кажется, что Бог присутствует только в запахе корней, растущих вдоль берегов Нила или цветущих в зеленых оазисах. Здесь единобожие делалось очевидным. Но звезды принуждали человека к дуализму, и в нём рождалось космическое отчаяние, неприязнь к жизни и меланхолия.
Этот край еще не подлинная Азия, и индивидуализм здесь очень живуч. На самом же деле, если сравнить землю с человеческим телом (подобно тому, как Сведенборг сравнил с ним небо), то пустыня будет той частью, что рождает образы переживаний сердца. И потому древние египтяне никак не могли верить в перевоплощение. Напротив, они считали мир заброшенным и враждебным местом, будто останками некоего исчезнувшего сада. Для них вечность была чем–то, что нужно преодолеть или хотя бы вытерпеть в меру сил. Поэтому нет в мире края более отличного от Индии, чем древний Египет. В мумии воплощена ужасная озабоченность египтянина сохранением собственной телесной формы. Лишенный всякой уверенности в том, что сумеет вернуться в потерянный сад, египтянин желал обеспечить себя всей возможной роскошью в бесконечном вояже под темными сводами гробницы.
И всё же, изогнувшееся над пустыней небо – круглое, а стало быть, предвосхищает господствующую в Азии фигуру. Поистине, египетское небо – микрокосм двух различных миров.
На Западе всё существует в формах прямой линии, всё направлено к высотам либо глубинам, к небесам или к аду. Прямая линия также устремляется к горизонту, к бесконечной обеспокоенности и бесконечной славе. Восток же, напротив, рожден изогнутой линией, которая всегда обращается назад и приходит к своему началу. Символы Запада – это фуги Баха, кафедральные соборы, пушки, торпеды и жизнь «за порогом» – Вечная любовь. Всё это – прямые или параллельные линии, никогда не сходящиеся, сколько их не продлевай. Вечная любовь, таким образом – в лучшем случае иллюзорное представление, поскольку своей кульминации она может достичь лишь среди далеких звезд. Акведуки и мощеные дороги Рима, как и большинство технологических достижений современной эры, опираются на представление о прямой линии. Даже крест образуется пересечением с вертикалью.
И напротив, Восток символизирует изогнутая линия, и полнейшего выражения он достигает в округлых куполах и сводах мечетей. Музыка Востока также округла: она возникает, вздымается и вновь возвращается к началу. Серп луны, ятаган – даже у обуви на Востоке загнуты носы! И перевоплощение – также движение по кругу.
Там, где Запад стремится наружу, Восток уходит в себя. Потому Азия не так уж заинтересована физическими завоеваниями, зная, что все они вернутся к своим истокам, следуя логике дуги. Триумфы ислама следовали этой схеме, так же как победы Аттилы и других ханов. Такой образец может осознаваться даже Россией, и купола Кремля свидетельствуют о том, что Восток может преобладать и здесь. Потому и невелика угроза физического вторжения с Востока. Восток покоряет в совсем иной манере, полагаясь на средства субъективные, внутренние и религиозные. Поэтому русский коммунизм станет опасным, только превратившись в религию. Он может быть навязан только ненасильственными методами, и только после того, как обретет вечные духовные ценности. Красная Армия сравнительно не так опасна, несмотря на громадную численность. Ведь случись этим ордам захлестнуть мир подобно пескам пустыни в порывах яростного самума, они всегда вернутся назад, следуя предписанному изгибу.
С другой стороны, поистине опасен Запад и его военная машина, что топорщится вдоль прямых линий, по определению исключающих возможность возврата к истоку. Запад под знаком креста – это агрессивная, жестокая мощь; крест стал эфесом меча, ведущего сражение за огоньки свечей, слова проповеди и звон колоколов иного мира. Фундаменталистский по своей сути, он догматизирует, навсегда разделяя грех и искупление. Все его символы основываются на непреклонной прямоте линии: мир разделен меж светом и тенью, белым и черным, добром и злом.
Гитлер ошибся, избрав своим знаком свастику, ведь свастика – это крест во вращении, и его концы загнуты. Сама форма свастики принуждает к самосозерцанию. Чтобы исполнить предначертание своей направленной наружу судьбы, Гитлеру нужно было избрать крест.
Возможно, у самого края, когда ночь истории вот–вот наступит, Восток и Запад смогут, наконец, обменятся рукопожатием, ведь к этому моменту мир снова вернется к началу. Как и в изначальные времена, когда крест был свастикой, а квадрат – кругом, как это изображено на тибетских танках, мир противоположностей исчезнет.
Вместе с тем, подлинный Восток за пределами всякой поляризации. Здесь любое течение растворяется в недвижных водах.
Чуть ранее в тот вечер я наблюдал, как солнце погружается в Красное море. Это действо было последовательностью ярчайших красок, будто золото и пурпур Востока накаляли себя до последних пределов. Безмятежное море отвечало синевой и зеленью. Даже воздух, казалось, нашептывает что–то вкрадчиво–легендарное, как пролог к историям «Тысячи и одной ночи». Вдоль палубы выстроились индийские моряки: облокотившись о борт, они вглядывались в горизонт, а их цветные тюрбаны отражали свет заходящего солнца.
Среди вышедших на палубу пассажиров была ирландская монахиня; она также направлялась в Индию. Ее прекрасное и чистое лицо в этот час сияло будто трупной белизной. С наступлением сумерек фигуры мужчин на палубе делались темнее, а ее лицо, казалось, только светлеет.
На борту была и компания норвежцев, морских капитанов – они отправлялись в Австралию, чтобы принять командование флотом китобойных судов, уходящих к Антарктике. Мы говорили об острове Десепшен и всём его мертвом населении, погребенном на кладбище изо льдов и туманов. Потом я сходил к себе в каюту, чтобы принести и показать им изображение бога Кон–тики. Именем этого южноамериканского бога был назван плот, на котором группа бесстрашных норвежцев пересекла Тихий океан от Перу до Полинезии. Лицо бога выкрашено пылающими цветами… и всё же, изваяние было вырезано руками столь же белыми, что и кисти ирландской монахини.
Я возил с собой цветастый лик бога Кон–тики по многим морям и океанам, и когда я поднял его к страстному свету восточного солнца, краски затрепетали и начали пульсировать.
Аден – вулканическая земля. Говорят, что ковчег Ноя пустился в плавание отсюда. Наверное, поэтому люди Адена продолжают строить дома так же, как делали это всегда – будто ожидают нового потопа. В Адене ощущаешь почти физически мучения Атлантиды и возможность ее возвращения.
За городом, недалеко от кратера огромного вулкана, до сих пор еще можно отыскать рудники Царя Соломона. Царица Савская должна была проходить по этим местам, и вдоль древних дорог, веками вырубавшихся в растрескавшейся скале, всё так же шагают неспешные черные расы Адена. Древний верблюжий туннель по–прежнему действует, а в одиннадцати милях от города расположен оазис шейха Отмана.
Чрезвычайно предусмотрительные верблюды Адена шагают, держа равновесие. Высоко поднимая шею, они оборачивают нос во все стороны света. Несомненно, эти звери однажды были древними змеями морей, жившими, как говорят, еще до того, как устоялись очертания континентов. Змеи спали, когда море отступило, и потому не сразу осознали, что оказались на суше. Пробудившись, они быстро поняли, что им следует стать верблюдами ради того, чтобы выжить. По–крайней мере, это объясняет, почему они вздымают длинные шеи, тревожно высматривая отступившее море. Хотя верблюд и создание пустыни, но он помнит о море всегда, и мечтает о нём.
На базаре в Адене нас обступили дюжины детей, просивших милостыню. Одна девчушка потянула меня за руку. К несчастью, при мне не оказалось монет, но поскольку она была очень настойчива и не терпела возражений, я подарил ей маленький поцелуй. Тогда она опустила ручки, и замерла так, глядя на меня очень серьезно. Теперь она уже и не думала о милостыне. С тех пор она осталась со мной, как образ маленькой девочки с печальным лицом.
IV. Солнце Индии
Цвет вод, кажется, изменился ко времени, когда корабль вошел в Аравийское море. На закате я вновь наблюдал солнце, но теперь и оно выглядело иначе: устало и меланхолично. Старое и утомленное солнце, будто века, потраченные на освещение троп прокаженных и других несчастливцев, подорвали его силы. Серые туманы раннего вечера, вздымающиеся над морем Аравии как античная вуаль, держали кроваво–красную суть заката в объятиях одновременно утешительных и удушающих.
Узнав, что мы прибудем в Бомбей ранним утром, я решил подняться пораньше, чтобы не пропустить это событие. На палубе было всё еще темно, а Утренняя звезда едва виднелась. Но очертания берега постепенно вырисовались, и по мере приближения к порту вода под нами делалась всё грязнее. Вскоре навстречу стали попадаться рыбацкие лодки с высокими изогнутыми бортами.
Общий вид оказался совсем неприветливым, и я уже вообразил, что и сама Индия будет столь же безжизненной, каким в минувший вечер было солнце. Даже источаемый берегом бриз казался болезненным. Такой драматический момент часто приходится пережить паломнику из чужедальних земель: уже само только вхождение в древние воды совершенно иной и чуждой вселенной вызвало во мне недомогание. Воды напомнили лишь о давлении пространств и эпох, пережитых миром. И в итоге то, что должно было стать волнующим моментом, оказалось всего только созерцанием невыразительной толщи вод. Придя в замешательство, я стал размышлять о том дне, что начнется, когда мы причалим в Бомбее. Пытаясь заселить пустынный пейзаж, я представлял, как увижу шагающих вдоль причала нищих и кающихся грешников. Над центральной Индией солнце уже взошло, и в воображении я рисовал мужчин и женщин, проснувшихся и совершающих омовения во внутренних водах континента, а ближе к востоку уже едущих вдоль пыльных дорог на запряженных волами телегах. Не видя ничего, кроме окружающей корабль пустой действительности, я отчаянно пытался сделать прибытие интимным и символическим. Вглядываясь в неясные очертания приближающегося континента, я старался вообразить сидящую фигуру полуобнаженного старца, застывшего в молитве – так я представлял себе Махатму Ганди.
Я уже начинал понимать, как в нём проявляется вся душа Индии. Он был ее Христом современности, но христианство и любовь к ближнему в своих проповедях он причудливо приспосабливал к родившей его земле; казалось, он принадлежал еще не пострадавшему от Потопа миру.
V. Бомбей
Летняя духота и влажность были нестерпимы, и казалось, всё вокруг потеет. Но нет, не совсем так: на самом деле жара тяготила лишь меня одного. Индусы, часто облаченные в длинные халаты, собиравшиеся между ногами в складки, казалось, вовсе не замечали ее. Они усаживались на лавки так, будто совершенно не понимали их назначения – скрестив босые ноги; общались и сплетничали, не обращая на ужасающую жару ровным счетом никакого внимания. Принимаемые ими позы казались для человеческого тела невозможными, но тут и там, повсюду на улицах они присаживались на корточки, не подавая ни малейшего признака неудобств. Заметив среди прочих группу бородатых мужчин в синих тюрбанах, собравшихся под деревом в парке Камалы Неру, я гадал, что означают их тканые накидки и почему они носят большие мечи.
Так же как и в Порт–Саиде, вокруг было много собак. Но бомбейские собаки были не столь многочисленны, и кажется, их главной заботой был поиск тенистого закутка, где они могли бы прилечь. По–видимому, они не сознавали значимости того, что живут в Индии.
Запахи Бомбея совсем не похожи на запахи любого другого города, в котором мне приходилось бывать. Я всегда различал места по запахам, и знал ароматы таких запоминающихся городов, как Лондон, Париж или Буэнос–Айрес. Но воздух Индии был мне в диковинку. От него делалось почти дурно, и всё вокруг казалось сном. Ведь где еще можно ощутить такие древние запахи? Подобные испарениям от замшелого ствола векового древа, они казались смесью сандала, мускуса, бетеля, манго, пота, и еще чего–то неуловимо неопределенного, что исходило из самой сущности индуса, как будто источалось его глазами, ладонями и ногами. Были и другие запахи: аромат дхоти и сари, атмосфера разрозненных мест и мгновений, и, прежде всего – всевозможных мыслей и снов.
В то лето 1953 года Бомбей был подобен кипящему котлу, и эти запахи обволокли весь город, особенно сгустившись в торговом квартале. Здесь, как и везде, сидели в причудливых позах люди, по сторонам улиц мостились сотни лавок – простых деревянных навесов, опиравшихся на более прочные стены жилых домов. Сами улицы были запружены людьми, и в каждой крошечной лавке умещались окруженные своими товарами мужчины и женщины. У одних рулоны шелка и парчи, у других зерно или бетель. Казалось, эти полураздетые торговцы с одинаковой ловкостью орудуют и руками, и ногами. Тут и там помещались лавки, в которых на больших железных противнях обжаривалась какая–то желтая паста, истекающая жиром и растаявшим сахаром. Время от времени из какого–нибудь уголка среди палаток прорезался обрывок песни – шумный, визгливый женский вскрик, будто девчачий галдеж в школьном классе. Таков голос Востока, повсеместный на просторах от Египта до Китая, приобретающий гортанную, почти молитвенную интонацию. Шагая по кварталу, я вдруг услышал песню поразительную: она то вздымалась, то опадала; становилась всё громче, а потом вновь делалась мягкой и мурлыкающей. Такого мне никогда раньше не приходилось слышать: в чём–то близкая арабской музыке или фламенко, эта песня была в то же время совершенно иной. Чрезвычайно замысловатая, она обретала собственную форму – разливаясь над улицами, развиваясь в повторах и вариациях, она всё же неизменно возвращалась к началу. Голос сопровождался пульсом инструмента – простейшего барабана, следовавшего элементарному ритмическому рисунку. Будучи экзотической на базаре Бомбея, в деревнях глубины континента такая песня должна была оказывать поистине гипнотическое воздействие.
С другой стороны, обобщать и делать выводы было, разумеется, еще рано. Все увиденные мною люди показались существами других веков или иных планет. Возможно, что–то роднило их с инками или майя.
В целом, эти призрачные фигуры, стекавшиеся в кружки на улицах, где жилища состязались в прочности с корнями деревьев, а балконы были заселены поровну людьми и обезьянами, заставляли меня полагать, что я окружен сновидением – ведь какому еще миру могли принадлежать эти тени, высящиеся крыши, улицы наводненные коровами, людьми, птицами? Впадая в дремотную безотчетность, я чувствовал, будто всё это хорошо знакомо мне и когда–то давно уже пережито.
Башни безмолвия – бомбейская достопримечательность. Парсы возвели эти высокие сооружения, поскольку, как последователи Зороастра, должны были оставлять своих мертвецов на возвышенностях, чтобы их тела пожрали грифы. Суть этой ритуальной практики в том, чтобы позволить человеческим веществам легчайшим способом возвратиться к изначальным формам: воздуху, земле и воде. Этот обычай, давно исчезнувший в самой Персии, в Индии сохраняется до сих пор – еще одно свидетельство тому, что Индия – своеобразный «чулан истории». Ветхий Адам здесь живет и поныне.
Башни безмолвия вздымаются подобно тому, как журавли вытягивают шеи, хватая добычу. Но никакая пища не нисходит по каменным горлам башен, так что в действительности они скорее подобны простертым ввысь рукам, предлагающим небесам подношение.
Вечером я сел на ночной поезд до Дели. На первой же станции я оставил хорошо проветриваемое купе и отправился в вагон–ресторан. Мне указали на столик, за которым уже сидел полный индус, по наставлению Ганди одетый в хадар. Безо всяких предисловий они засыпал меня вопросами. Откуда я? Что делаю в Индии? Нравится ли мне здесь? Все эти вопросы, кроме последнего, я сопроводил подходящими ответами, но что я мог сказать об Индии, которая едва начала открываться моим глазам? Впрочем, мое молчание ничуть не смутило собеседника: он был из тех людей, что спрашивают просто ради самих вопросов – на самом деле, ответы были ему неинтересны.
Он ел руками, совершенно пренебрегая ножами и вилками, разложенными в предписанном порядке. Закончив трапезу, он вытер пальцы салфеткой и попросил счет за оба наших ужина. Я хотел было заплатить за свой, но он просто сообщил, что рад исключительному праву быть гостем на моем первом ужине в Индии.
– Добро пожаловать в Бхарат! – сказал он.
VI. Змей двупол
По другую сторону бомбейской гавани лежит остров Элефанта и его знаменитая пещера, которую в шестом веке высекли брахманы.
Некоторые свойства этой пещеры дают повод предположить, что ваял ее сверхъестественный архитектор. Добраться до нее можно только вскарабкавшись по склону через плотные заросли, она имеет четыре входа, главный из которых ведет прямо к самой великолепной из всех статуй мира. Тримурти – гигантское изваяние трехглавого Шивы, высеченное в плоскости задней стены. Представляющее согласно замыслу Шиву в трех проявлениях: жены Шакти, сына Картикейи и самого Шивы в мужском воплощении – оно также неизбежно выявляет и символ Троицы: творца, охранителя и разрушителя. Здесь в одном теле сочетаются Отец, Сын и Святой Дух; тезис, антитезис и синтез. Это также и образ солнц: рассветного, полуденного и закатного.
Каждая из трех голов смотрит в собственном направлении, как будто божество одного из трех измерений. Но где же четвертое? Возможно ли, что в стене пещеры сокрыта четвертая голова, о которой до сих пор не было сказано и слова? Будь она там, эта безымянная голова и должна быть только подразумеваемой. Любая определенность делает ее суть совершенно недостижимой.
Но давайте присмотримся к трем видимым головам. Они глядят в определенном направлении, но не на определенный объект, ведь глаза их закрыты, и божество, кажется, дремлет или обдумывает нечто, происходящее у него внутри. Будто созерцает экстаз Творения. Эти три силы: рождения, сохранения и разрушения – сознательны; должно быть, они воплощают интеллект за пределами призрачной материальности мира; ведь мир, в лучшем случае – только отражение глубочайших снов Бога.
В таком соотношении четвертая голова должна представлять рассудок. Как невидимому оку, все поверхностные аспекты мира доступны ее обозрению, но она также зрит и общее строение в полной величине. Незрячими глазами Тримурти видит всё; отрешенные от внешнего мира, эти очи созерцают только суть. А на его лицах покоится глубочайшее наслаждение тем, что они видят.
Подле Тримурти расположена еще одна статуя – Шива в полный рост. В индуистском толковании тройственности Шива олицетворяет разрушение; Брахма – творец, Вишну – охранитель. Однако эти определения не могут считаться однозначными и застывшими, поскольку каждый из богов воплощает всю троицу. Один во Всём, и Всё в Одном. Таким образом, Шива также творит и сохраняет. В ипостаси Натараджа он пляшет в центре сжигающего миры костра, но делает это лишь затем, чтобы расчистить пространство для нового цикла творения.
В этой статуе Шива предстает завершенным. Не божественной формой частностей, но цельным божеством. На самом деле он и бог, и богиня: статуя изображает полумужчину и полуженщину. Вырезанная в камне женская грудь отмечает границу между светом и тьмой в божестве.
И поскольку Шива – андрогин, то и бог в целом двупол. Единичный пол невозможен, поскольку закрытые глаза Тримурти обращены вовнутрь к тому дворцу, в котором некто находит кого–то после вечности ожидания. И радость этой встречи расцветает на лицах Тримурти скромными улыбками невыразимого счастья. То, что они видят и переживают – дивный оргазм божества, наконец воссоединившегося с собой; обретя себя снова, оно творит в радости. Сотворенный сын – это мир, а мир – туманный сон Гермафродита. Живой сын этого родителя – мир трехмерной реальности, переданный в фигуре Тримурти. А четвертая голова – это сын смерти: образ четвертого измерения и провозвестник вечности.
Но чтобы достичь этой последней ступени, и, преодолев грудь Гермафродита, достичь дворца на вершине Древа, придется вначале сойти к истокам корней, обвитых дремлющим Змеем.
Эта тропа нелегка. Путь долог и тяжел, а проводник на нём – Шива: наставник наставников и господин Йоги. Разгадать таинство возможно только в жизни – когда Змей освобожден у подножия Древа и сумел взобраться по хребту, расправляя пылающие крылья. И лишь признав свою двуполую природу, мужчина может созерцать вечность в спокойствии и радости.
Таков секрет Элефанты.