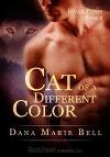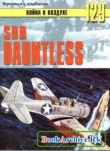Текст книги "Смысл ночи"
Автор книги: Майкл Кокс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц)
[«Прах и тень». (Прим. ред.)]
[Закрыть]
Случилось это осенью 1836 года. Однажды в среду, когда я с группой товарищей, к которой без всякого приглашения примкнул Даунт, вернулся в колледж из Виндзора, меня вызвали в здание старшей школы к директору доктору Хоутри. [65]65
[Эдвард Крейвен Хоутри (1789–1862) всего двумя годами ранее сменил на директорском посту доктора Кита, снискавшего дурную репутацию приверженца телесных наказаний. Он был, как отмечает Глайвер, страстным библиофилом и членом крупнейшего библиографического общества, так называемого Роксбургского клуба. (Прим. ред.)]
[Закрыть]
– Полагаю, вы получили особое разрешение на пользование библиотекой научных сотрудников? – осведомился он.
Школярам доступ в библиотеку решительно возбранялся, но я подтвердил, что ключ от нее выдал мне один из научных сотрудников колледжа, преподобный мистер Картер – у него я учился, когда он занимал должность преподавателя младших классов. Прочитав несколько моих письменных работ, мистер Картер одобрил мой пылкий интерес к библиографическим изысканиям и в нарушение принятых правил дал мне временное разрешение посещать библиотеку, чтобы я мог собрать материал для следующей своей работы – по истории и составу данного книжного собрания.
– И вы пользовались этой своей привилегией недавно?
Допытливость директора слегка встревожила меня, но я знал, что не совершил никакого проступка, и вдобавок знал, что доктор Хоутри является известным библиофилом, а потому без колебаний сказал, что был в библиотеке вчера после полудня – делал выписки из геснеровской «Bibliotheca Universalis» (Цюрих, 1545).
– Вы были там один?
– Совсем один.
– А когда вы вернули ключ?
Я ответил, что обычно сразу отношу ключ мистеру Картеру, но вчера пошел на реку с Легрисом, а ключ оставил у него в пансионе, где и я сам занимаю комнату.
– И по возвращении с реки вы отнесли ключ мистеру Картеру?
– Да, сэр.
– Мистер Глайвер, должен вам сказать, против вас выдвинуто очень серьезное обвинение. Я получил сведения, дающие мне основания полагать, что вы без разрешения взяли из библиотеки чрезвычайно ценную книгу с намерением присвоить ее.
Я не поверил своим ушам – видимо, несказанное изумление явственно отразилось на моем лице, ибо директор знаком велел мне сесть, подождал, пока я совладаю с собой, и только потом продолжил:
– Речь идет о томе Юдолла. Вероятно, вы знаете, что он собой представляет.
Разумеется, я знал: экземпляр «Ральфа Ройстера Дойстера», одной из первых английских комедий, написанной Николасом Юдоллом, бывшим провостом Итонского колледжа. Исключительно редкое и ценное издание, вышедшее в свет примерно в 1566 году.
– Мы точно знаем, что во вторник утром книга находилась в библиотеке – ее видел один из научных сотрудников. Сейчас она пропала.
– Уверяю вас, сэр, я здесь совершенно ни при чем. Я не понимаю…
– В таком случае вы не станете возражать, если мы обыщем ваши вещи?
Я без колебаний ответил утвердительно и уже через минуту спустился по лестнице следом за облаченным в мантию доктором Хоутри и вышел на школьный двор. Еще через несколько минут мы были в пансионе Легриса – в комнате, где я держал личные вещи и завтракал. Открыв свой сундучок, я сразу увидел, что в нем кто-то рылся. Под ворохом одежды виднелся коричневый телячий переплет пропавшей из библиотеки книги.
– Вы по-прежнему настаиваете на своей непричастности к делу, мистер Глайвер?
Не дожидаясь ответа, доктор Хоутри вынул из сундучка книгу и велел мне проследовать за ним обратно в старшую школу. Там нас ждали мистер Картер и вице-провост (сам провост отсутствовал по делам в Лондоне).
Меня подробно допрашивали более получаса, и гнев мой возрастал с каждой минутой. Представлялось очевидным: я стал жертвой низкого коварства, совершенного кем-то, кто хотел уничтожить мою репутацию, покрыть меня позором и – самое ужасное – добиться, чтобы меня лишили стипендии и исключили из колледжа. Возможно ли такое? Ведь с первых моих дней в школе все называли меня «эрудированным мальчиком» и бурно рукоплескали моим подвигам у Стены. Ведь меня любили и мной восхищались все без изъятия – как ученики, так и учителя. И все же кто-то решил погубить меня – несомненно, из зависти к моим способностям и положению.
Кровь все громче и громче стучала в моих висках; гнев поднимался из недр моего существа, точно раскаленная вулканическая лава. Наконец я не выдержал.
– Сэр! – вскричал я, прерывая очередной вопрос. – Я такого не заслуживаю, право слово! Разве вы не видите, сколь нелепо, сколь смехотворно это обвинение! Прошу вас, посудите сами: ну зачем мне совершать подобный поступок? Ведь это форменное безумие! Неужто, по-вашему, я настолько глуп, чтобы пытаться украсть столь ценную книгу? Только полный невежда мог вообразить, что он – простой школяр! – запросто сумеет продать редчайшее издание, не вызвав подозрений. Или вы думаете, что я собирался оставить Юдолла у себя? Так это равно безрассудно – ведь разоблачение было бы неизбежно. Нет, джентльмены, вас ввели в глубокое заблуждение, а я стал жертвой гнусного ложного обвинения.
Должно быть, я являл собой впечатляющее, даже устрашающее зрелище, когда рвал и метал там перед ними, не заботясь о последствиях. Но неподдельность моего гнева не вызывала сомнений, и мне показалось, что на лице доктора Хоутри появилось выражение, внушающее надежду на благоприятный для меня исход дела.
Я еще несколько минут продолжал яростно настаивать на своей невиновности, саркастически указывая на смехотворность обвинения. Потом доктор Хоутри знаком велел мне снова сесть, а сам принялся шепотом совещаться с двумя своими коллегами.
– Если вы невиновны, как утверждаете, – наконец сказал он, – значит, кто-то другой взял из библиотеки том Юдолла и попытался выставить вас вором. Вы говорите, ключ находился в вашей комнате. Сколько времени вы провели на реке?
– Не более часа. Ветер вчера пробирал до костей.
Мои допросчики еще немного посовещались между собой.
– Мы проведем дальнейшее расследование, – хмуро промолвил доктор Хоутри. – Пока что вы свободны. Однако вам не разрешается пользоваться библиотекой и запрещается выходить в город до последующего уведомления. Вам все понятно?
На следующее утро меня снова вызвали к доктору Хоутри. Он незамедлительно сообщил мне: нашелся свидетель, клятвенно показавший, что своими глазами видел, как я прячу книгу в сундучок.
Я редко когда терялся настолько, чтобы не найтись что сказать; но тут я на несколько мгновений напрочь лишился дара речи, не в силах поверить своим ушам. Совладав наконец с собой, я возмущенно потребовал назвать имя свидетеля.
– Вы не можете рассчитывать, что я это сделаю, – холодно произнес доктор Хоутри.
– Кто бы ни был ваш свидетель, он лжет! – вскричал я. – Как я уже говорил, я стал жертвой злого умысла. Вне всяких сомнений, ваш свидетель и есть вор.
Доктор Хоутри покачал головой:
– Он имеет безупречную репутацию. Более того, его показания подтвердил еще один мальчик.
Поскольку никаких очевидцев преступления, которого я не совершал, просто-напросто не могло существовать, я продолжал со всей горячностью заверять директора в своей невиновности и настаивать на своем мнении относительно истинного положения дела: я стал жертвой подлого коварства. Но все было без толку. Обстоятельства и так говорили против меня, ибо я имел мотив и возможность, а вновь появившееся свидетельство, подтвержденное еще одним лицом, окончательно решило мою судьбу. Доктор Хоутри оставил все мои доводы без внимания и объявил приговор. Мне предписывается немедленно покинуть колледж под любым благовидным предлогом. Если я уйду без шума, никто не станет предпринимать против меня никаких дальнейших действий и дело будет закрыто. В противном случае мне грозят официальное исключение и публичный позор.
Я подумал о своей бедной матушке, одиноко сидящей в гостиной и строчащей страницу за страницей для мистера Колберна, а потом подумал о мисс Лэмб, своей предполагаемой благодетельнице, чья щедрость позволила мне поступить в Итон. И понял, что ради них я должен уйти без шума, хотя и не знаю за собой никакой вины. Посему я сдался, пусть с тяжелым сердцем и исполненной жгучего гнева душой. Доктор Хоутри имел любезность выразить глубокое сожаление по поводу моего ухода из школы при столь прискорбных обстоятельствах – мол, он считал меня одним из лучших учеников, который непременно станет членом научного совета университета в должное время. Он также попытался смягчить приговор, любезно предложив мне пожить в доме одного из научных сотрудников колледжа, в нескольких милях от Итона, покуда моя мать не получит сообщения о случившемся и не примет меры к тому, чтобы забрать меня домой. Но я попросил доктора Хоутри не писать матери, а позволить мне самому объяснить ей, почему я возвращаюсь из Итона. После минутного раздумья он согласился. Мы молча обменялись рукопожатием, и на том моя учеба в колледже закончилась. Что еще хуже – теперь у меня не осталось ни малейшей надежды поступить в Кембридж и воплотить в жизнь мечту о должности научного сотрудника университета.
Возвращаясь в пансион Легриса, я столкнулся на школьном дворе с Даунтом и его новым приятелем – не кем иным, как Шиллито, чью тупую башку я когда-то защемил в двери. (Обратите внимание: в своих опубликованных воспоминаниях Даунт утверждает, что ни разу не видел меня с вечера среды, когда мы возвратились в колледж с вечерни в часовне Святого Георга. Это преднамеренная ложь, как вы сейчас убедитесь.)
– Что, опять вызывали к директору? – спросил он.
Шиллито насмешливо ухмыльнулся, и я тотчас догадался, как обстояло дело. Даунт потихоньку взял ключ из пансиона Легриса и стащил из библиотеки книгу; потом он выступил в роли неохотного свидетеля – полагаю, он разыграл настоящий спектакль, вдобавок ко всему сыграв на знакомстве своего отца с директором, – а затем привлек на помощь Шиллито. Теперь мне стало ясно, почему доктор Хоутри ни на миг не усомнился в честности своего главного свидетеля. Он думал, видите ли, что мы с Даунтом по-прежнему друзья, по-прежнему неразлучные товарищи. Он не знал об охлаждении наших с ним отношений, а потому, разумеется, не допускал и мысли, что мой лучший друг может лжесвидетельствовать против меня.
– Глайвера хлебом не корми – дай только уткнуться носом в старинную книгу, – сказал Даунт своему приятелю, словно бы защищая меня. – У меня папенька такой же. Он и директор состоят в особом клубе для книголюбов. [66]66
[Роксбургский клуб. (Прим. ред.)]
[Закрыть]Наверное, Глайвер говорил с доктором Хоутри о какой-нибудь старинной книге. Я прав, Глайвер?
Он смотрел на меня холодно, высокомерно; во взгляде его явственно читались и мелочная зависть, которую он питал ко мне, и злобное желание отомстить за то, что дружбе с ним я предпочел общение с другими, более близкими мне по духу ребятами. Эти чувства были написаны у него на лице и безошибочно угадывались в его небрежно-вызывающей позе – позе человека, считающего, что он недвусмысленно продемонстрировал свое превосходство в силе.
– Не хочешь прогуляться по городу? – спросил он затем.
Шиллито снова презрительно осклабился.
– Как-нибудь в другой раз, – с улыбкой ответил я. – Сегодня я занят.
Мое спокойствие, похоже, огорчило Даунта. Он поджал губы и слегка прищурился.
– Это все, что можешь сказать?
– Больше ничего не приходит в голову. Хотя нет, постой. Кое-что я и вправду могу тебе сказать. – Подступив ближе, я встал между Даунтом и его прихвостнем. – У мести долгая память, – прошептал я ему на ухо. – Возможно, тебе захочется поразмыслить над этой сентенцией. Всего доброго, Даунт.
Засим я зашагал прочь. Мне не было нужды оборачиваться. Я знал, что еще увижусь с ним.

Рассказывая об этом случае Легрису в уютной гостинице Миварта через двадцать с лишним лет, я испытывал такой же лютый гнев, какой душил меня в тот день.
– Так, значит, это был Даунт. – Легрис удивленно присвистнул. – И ты молчал столько времени. Почему же ты ничего не рассказал мне?
Казалось, он изрядно расстроился, что я не поделился с ним своим секретом раньше. Честно говоря, теперь я и сам недоумевал, почему мне ни разу не явилось на ум сделать это.
– Надо было рассказать, – признал я. – Сейчас я понимаю. Я потерял все: стипендию, репутацию и – самое главное – будущее. Все по милости Даунта. Я хотел поквитаться с ним, но в свое время и своим способом. Но потом возникло одно обстоятельство, другое, третье – и мне так и не представилось удобного случая. А когда ты приобретаешь привычку к секретности, становится все труднее и труднее довериться другому человеку – даже лучшему другу.
– Но какого черта он столь усиленно пытается разыскать тебя теперь? – спросил Легрис, несколько успокоенный моими словами. – Разве только хочет загладить вину…
Я глухо хохотнул.
– Маленький обед à deux? [67]67
На двоих (фр.). (Прим перев.)
[Закрыть]Покаянные извинения и сожаления по поводу моего оклеветанного имени и загубленных перспектив? Вряд ли. Но тебе следует узнать о нашем школьном товарище еще кое-что – и только тогда ты поймешь, почему я считаю, что Даунт разыскивает меня вовсе не из желания попросить прощения за содеянное.
– В таком случае давай расплатимся и выдвинемся к «Олбани», – предложил Легрис. – Там удобно усядемся, задрав ноги, и ты сможешь говорить хоть до рассвета, коли пожелаешь.
Немногим позже, устроившись у горящего камина в уютной гостиной Легриса, я продолжил повествование.

В Сэндчерч я возвращался в сопровождении Тома Грексби, приехавшего в Итон сразу по получении моего письма. Я встретился с ним в гостинице «Кристофер», но, прежде чем успел промолвить хоть слово, он отвел меня в сторону и сообщил печальную новость: моя матушка тяжело заболела, и надежды на выздоровление нет.
За одним потрясением следовало другое, Пелион громоздился на Оссу. [68]68
[Выражение пошло из «Одиссеи» Гомера (XI, 315), где повествуется о титанах Алоидах, которые попытались достичь обители богов, взгромоздив гору Пелион на гору Оссу в Фессалии. Рассказчик, несомненно, отсылает к словам Лаэрта на смерть Офелии: «Теперь засыпьте мертвую с живым / Так, чтобы выросла гора, превысив / И Пелион и синего Олимпа / Небесное чело» (Гамлет, V. 1, 247). (Прим. ред.)]
[Закрыть]Потерять столь многое – и за столь малое время! Я не плакал, не мог плакать. Я просто молча смотрел в пустоту – у меня было такое ощущение, будто я вдруг очутился в чужом пустынном краю, где нет ни одного знакомого ориентира. Старый Том за руку вывел меня за дверь, и мы медленно зашагали по Хай-стрит к мосту Барнс-Пул-Бридж.
В своем письме к нему я не упомянул об обстоятельствах, заставивших меня покинуть Итон, но, когда мы достигли моста, пройдя почти весь путь от гостиницы в молчании, я наконец изложил дело, хотя и не стал говорить, что мне известно имя человека, предавшего меня.
– Мой милый мальчик! – вскричал старик. – С этим нельзя мириться! Ты невиновен. Нет, нет, такое решительно недопустимо!
– Но я не могу доказать свою невиновность, – сказал я, все еще пребывая в оглушенном состоянии. – А обстоятельства и показания свидетелей доказывают мою вину. Нет, Том. Я должен смириться – и прошу вас сделать то же самое.
В конечном счете он скрепя сердце согласился не предпринимать никаких попыток заступиться за меня, и мы направились обратно в гостиницу, чтобы подготовиться к отъезду в Сэндчерч. К моему облегчению, Легрис тогда был на реке, а потому я смог забрать свои вещи из пансиона, избежав необходимости лгать насчет того, почему я столь внезапно уезжаю и почему больше не вернусь в колледж. Когда мы благополучно погрузили весь багаж, Том уселся рядом со мной, и наемная карета покатила к Барнс-Пул-Бридж, навсегда увозя меня из Итона.
Вечером мы прибыли в маленький домик на утесе, где нас встретил деревенский врач.
– Боюсь, вы опоздали, Эдвард, – печально произнес доктор Пенни. – Ваша матушка скончалась.
Я неподвижно стоял в прихожей, глядя оцепенелым взором на знакомые вещи – медные часы у двери, мерно отсчитывающие секунды; силуэтный портрет моего деда, мистера Джона Мора из Черч-Лэнгтона; высокую цилиндрическую вазу, украшенную драконами и хризантемами, где матушка держала зонтики от дождя и от солнца, – и вдыхая приятный запах восковой мастики (матушка была помешана на чистоте). За распахнутой дверью гостиной я видел письменный стол, заваленный бумагами. Шторы там были задвинуты, хотя солнце еще светило вовсю. На стопке книг стоял оловянный подсвечник с огарком свечи, безмолвный свидетель последних полночных часов тяжкой работы.
Я поднялся по лестнице, подавленный незримым присутствием смерти, и отворил дверь матушкиной спальни.
Ее последний роман, «Петрус», недавно вышел из печати, и она уже принялась писать следующее сочинение для мистера Колберна – несколько первых страниц, выпавших у нее из руки, все еще валялись на полу у кровати. Годы непрестанного беспрерывного непосильного труда наконец взяли свое, и я нашел известное утешение в мысли, что она обрела вечный покой и отдохновение. Некогда красивое сердцевидное лицо матушки теперь стало морщинистым и исхудалым, а волосы, которыми она так гордилась в молодости, поредели и поседели, хотя ей было всего сорок лет. Истончились до прозрачности и бледные пальцы, все еще запачканные чернилами, что она обильно расходовала на выполнение своих обязательств перед издателем. Я запечатлел прощальный поцелуй на холодном лбу усопшей, а потом просидел возле нее до самого утра, окутанный удушливой тишиной смерти и отчаяния.
Она одна растила и кормила меня, покуда щедрость моей благодетельницы несколько не облегчила наше материальное положение; но даже тогда она продолжала писать, с прежним упорством, изо дня в день. Что двигало ею, если не любовь? Что придавало ей силы, если не любовь? Дорогая моя, любимая матушка – нет, больше чем просто матушка: мой лучший друг и мудрейший советчик.
Никогда больше не увижу я, как она склоняется над письменным столом в гостиной; никогда больше не будем мы сидеть бок о бок, возбужденно разворачивая посылку с ее последней вышедшей в свет книгой, прежде чем гордо поставить оную ко всем прочим на полку, изготовленную Билликом из обломков французского военного корабля, разбитого при Трафальгаре. Никогда больше не расскажет она мне своих историй и никогда больше не будет слушать, с милой своей полуулыбкой, как я читаю излюбленные места из английского перевода «Les mille et une nuits». Она ушла навек, и весь мир казался мне холодным и темным, как комната, где она лежала сейчас.
Мы похоронили матушку на Сэндчерчском кладбище над морем, рядом с ее беспутным мужем Капитаном, о чьей смерти никто не скорбел. Том ни на шаг не отходил от меня, и я был как никогда рад, что он рядом. По моей просьбе мистер Марч, местный пастор, прочитал пассаж из Джона Донна под крики чаек и глухой рокот волн, а потом она навек покинула пределы чувственного мира, увядший цветок в саване кремнистой земли.
Матушкина кончина послужила для всех достаточным объяснением моего внезапного возвращения домой из школы; на эту же причину сослался я в письме к Легрису и прочим своим итонским друзьям. Один только Том знал правду, и к нему я обратился за помощью теперь.
Мистер Байам Мор, мой единственный живой родственник, выразил готовность стать моим опекуном. Но поскольку я решительно не хотел переезжать в Соммерсет, мы с ним договорились, что Том временно останется in locoparentis [69]69
Вместо родителя (лат.). (Прим. перев.)
[Закрыть]и снова возьмет надо мной педагогическую опеку, а я буду жить – один, если не считать Бет и старого Биллика – в сэндчерчском доме, доставшемся мне от матушки. Пятьдесят соверенов, в свое время принятые ею по моему упорному настоянию, я потратил на неизбежные расходы, связанные с погребением, и у меня возникла необходимость обратиться к своему доверительному собственнику мистеру Мору с просьбой вынуть из дела часть моего капитала и отдать мне на домашнее хозяйство.
Между тем я, в свои шестнадцать лет, пытался свыкнуться с неожиданной ролью полновластного хозяина дома. На первых порах находиться там одному, без матушки, было в высшей степени странно: я постоянно почти ожидал столкнуться с ней на лестнице или увидеть из окна своей спальни, как она идет по садовой дорожке. Иногда среди ночи я вдруг исполнялся уверенности, что слышу ее шаги в гостиной. С колотящимся сердцем я затаивал дыхание и отчаянно напрягал слух в попытке понять, что же там такое: бедный ли матушкин призрак, так и не обретший покой от работы, придвигает кресло к большому столу, дабы взяться за незаконченное сочинение, – или просто деревянные стены старого дома скрипят и стонут под напором воющего ветра с моря.
Я жил и получал домашнее образование в Сэндчерче под неофициальной опекой и наставничеством Тома до осени 1838 года. Мои бывшие школьные товарищи, включая Феба Даунта, готовились к поступлению в Кембриджский университет, и я тоже хотел продолжить учебу в каком-нибудь подходящем очаге науки и просвещения. По совету Тома я отправился в Гейдельберг, записался на несколько лекционных курсов в тамошнем университете и всецело предался утолению своих разнообразных интеллектуальных интересов. Вынужденный уход из колледжа разрушил мои честолюбивые планы, лишив возможности поступить в Кембридж и стать научным сотрудником, а посему я решил использовать время наилучшим образом, хотя и не собирался получать ученую степень.
Я исправно посещал лекции и читал запоем: труды по философии, этике, юриспруденции, риторике, логике, космологии – я с жадностью поглощал знания, точно умирающий от голода человек. Потом я вновь набрасывался, как одержимый, на предметы, интересовавшие меня с малых лет, – древние алхимические тексты, розенкрейцерское учение, древнегреческие мистерии. А еще благодаря одному из университетских профессоров я страстно увлекся археологией древних очагов цивилизации – Ассирии, Вавилона и Халдеи. Потом я пускался разыскивать полотна старых немецких художников в уединенных замках, затерянных в лесной глуши, или по внезапной прихоти отправлялся колесить по всей округе, чтобы услышать, как какой-нибудь местный виртуоз исполняет Букстехуде [70]70
Букстехуде, Дитрих (ок. 1637–1707) – немецко-датский органист, один из наиболее известных композиторов эпохи барокко. (Прим. перев.)
[Закрыть]на органе начала восемнадцатого века или как деревенский хор поет старинные немецкие псалмы в белостенной церкви. Я без устали разъезжал по букинистическим лавкам старых немецких городков, откапывая там подлинные жемчужины – антикварные молитвенники, служебники, иллюстрированные манускрипты Бургундского двора и другие библиографические сокровища, которые я знал по книгам, но никогда прежде не видел. Ибо я безумно жаждал все увидеть, услышать, узнать!
Тогда-то я и переживал свое золотое время (когда бы там Феб Даунт ни переживал свое) – и испытывал настоящее блаженство, когда погожим летним утром поднимался по Philosophenweg [71]71
[Знаменитая «Тропа философов» на северном берегу Неккара. (Прим. ред.)]
[Закрыть]со стопкой книг под мышкой, находил свое излюбленное укромное место высоко над Неккаром и наслаждался восхитительным видом на церковь Святого Духа и Старый мост, а потом ложился навзничь на шелковистую траву, наедине со своими книгами и мечтами, и ласточки кружили на фоне облаков, достойных кисти Пуссена, и голубая бесконечность простиралась надо мной.