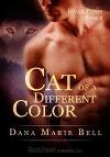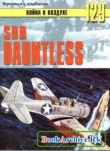Текст книги "Смысл ночи"
Автор книги: Майкл Кокс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
[«Откровение». (Прим. ред.)]
[Закрыть]
Я покинул Гейдельберг в феврале 1841 года и отправился сначала в Берлин, потом во Францию. Я прибыл в Париж за двое суток до своего двадцать первого дня рождения и остановился в гостинице «Отель-де-Пренс» [86]86
[На рю де Ришелье. (Прим. ред.)]
[Закрыть]– возможно, дороговатой, но не настолько, чтобы я посчитал такие расходы неприемлемыми. По достижении совершеннолетия я вступил в право владения остатками капитала, в свое время переданного в доверительное управление мистеру Байаму Мору. Воодушевленный этим радостным событием и уверенный в скором восполнении всех трат, я позволил себе спустить значительную часть своих сбережений, предавшись разнообразным развлечениям, которые Париж может предложить молодому человеку с широкими взглядами, живым воображением и высоким самомнением. Но всякое удовольствие рано или поздно кончается, и вскоре меня стала преследовать неприятная мысль о необходимости зарабатывать на жизнь своим трудом. Через шесть упоительных недель я неохотно начал готовиться к возвращению в Англию.
Но утром в день намеченного отъезда я столкнулся с Легрисом в читальне Галиньяни, [87]87
[На рю Вивьен. «Огромная библиотека-читальня для англичан в Париже», как написано в «Путеводителе для гостей Франции» Мюррея. (Прим. ред.)]
[Закрыть]куда наведывался ежедневно. Мы провели восхитительный вечер, рассказывая друг другу, как складывалась наша жизнь в течение пяти лет, что мы не виделись. Разумеется, Легрис сообщил разные новости о нескольких наших школьных товарищах, в том числе и о Даунте. Я слушал вежливо, но при первой же удобной возможности переменил тему. Мне не надо было напоминать о Фебе Даунте: я думал о нем постоянно, и желание отомстить ему за содеянное со мной по-прежнему горело в моей груди ярким ровным пламенем.
Легрис направлялся в Италию с единственной целью провести время в чудесных краях и в приятной компании, пока он обдумывает дальнейшие планы на жизнь. Поскольку я тоже еще толком не определился со своими планами, моему другу не составило большого труда уговорить меня отказаться от намерения вернуться в Сэндчерч, чтобы я присоединился к нему в беспорядочных странствиях. Я тотчас отправил мистеру Мору письмо с просьбой перевести остаток моего капитала на мой лондонский счет и написал старому Тому, что еще немного задержусь на континенте. На следующее утро мы с Легрисом начали наше путешествие на юг.
Неспешно проехав через всю Францию извилистым маршрутом, мы наконец прибыли в Марсель, откуда двинулись вдоль Лигурийского побережья в Пизу, а из Пизы направились во Флоренцию, где поселились в роскошном палаццо рядом с площадью Дуомо. Там мы провели несколько недель, предаваясь праздным развлечениям, но потом летняя жара погнала нас в горы в поисках прохлады, а затем на Адриатическое побережье, в Анкону.
К концу августа, когда мы, проделав путь на север, добрались до Венеции, Легрис начал выказывать признаки беспокойства. Я все не мог вволю налюбоваться старинными церквями, картинами, скульптурами, но моего друга подобные вещи совершенно не интересовали. Все церкви, устало говорил он, похожи одна на другую; аналогичное мнение он выражал и при виде каждого из многочисленных полотен с изображением распятия или рождества Христова. Наконец, на второй неделе сентября, мы с ним расстались, условившись встретиться в Лондоне, как только позволят обстоятельства.
Легрис отправился в Триест, чтобы там сесть на корабль до Англии; я же провел несколько дней один в Венеции, а потом снова двинулся на юг. В течение следующего года я, с мюрреевским «Путеводителем по Малой Азии» [88]88
[«Путеводитель для путешественников по Ионическим островам, Греции, Турции и Малой Азии». (Джон Мюррей, 1840.) (Прим. ред.)]
[Закрыть]в руках, объездил всю Грецию и весь Левант, где посетил Дамаск, прежде чем вернуться обратно в Бриндизи через острова Киклады. После недолгого пребывания в Неаполе и Риме в конце лета 1842 года я снова оказался во Флоренции.
Во время нашего первого визита в город Медичи мы с Легрисом свели знакомство с одной американской четой, некими мистером и миссис Форрестер. Сразу по возвращении во Флоренцию я заявился к ним в гости – там я узнал, что они недавно уволили домашнего учителя двух своих сыновей по причине его профессиональной непригодности, и незамедлительно предложил свои услуги. Я занимал высокооплачиваемую и необременительную должность у Форрестеров следующие три с половиной года, за каковое время чрезвычайно обленился и прискорбнейшим образом забросил собственные занятия. Я часто думал о своей прежней жизни в Англии и представлял, как однажды вернусь на родину, – но все подобные мысли неизменно заставляли вспомнить о Фебе Даунте и нашем с ним незавершенном деле. (Даже во Флоренции он продолжал преследовать меня: на двадцать третий день рождения миссис Форрестер, дама замечательной учености, подарила мне экземпляр последнего его сочинения, «Татарский царь. Поэма в XII песнях». «Я обожаюмистера Даунта. – Она томно вздохнула. – Истинныйгений – и такоймолодой!»)
С того-то времени у меня и начали складываться привычки, грозившие безвозвратно погубить остатки незаурядных способностей, дарованных мне свыше. Тогда я еще не пускался во все тяжкие, но уже начал ненавидеть себя и свой нынешний образ жизни. В конце концов, после неприятной истории с дочерью одного городского чиновника, я принес Форрестерам свои извинения и в некоторой спешке покинул Флоренцию.
Возвращаться на родину мне все еще не хотелось, а посему я направился на юг. В Милане я познакомился с одним английским джентльменом, неким мистером Брайсом Ферниваллом, служащим отдела печатных изданий в Британском музее, – он тогда готовился к поездке в Санкт-Петербург. Беседы с мистером Ферниваллом вновь воспламенили во мне давнюю библиографическую страсть, и когда он спросил, нет ли у меня желания посетить вместе с ним Россию, я охотно согласился.
В Санкт-Петербурге нас любезно принял известный библиограф В. С. Сопиков, [89]89
[Василий Степанович Сопиков, книготорговец и автор классических эссе по русской библиографии. (Прим. ред.)]
[Закрыть]в чью книжную лавку в Гостином дворе я стал ежедневно наведываться. Примерно через неделю обстоятельства вынудили моего спутника мистера Фернивалла вернуться в Лондон, но я решил остаться в Санкт-Петербурге. Ибо меня очаровал этот удивительный бело-золотой город с его громадными общественными зданиями и дворцами, широкими площадями, живописными каналами и церквями. Я снял комнаты рядом с Невским проспектом, взялся изучать русский язык и даже нашел своего рода наслаждение в лютых северных зимах. Закутанный в меха, я часто бродил по улицам ночами, когда валил густой снег, стоял в задумчивости у Львиного мостика через канал Грибоедова или наблюдал за ледоходом на величественной Неве.
Только спустя без малого год я наконец обратил свои взоры в сторону отчизны. Перед отъездом мистер Фернивалл довольно настойчиво предложил мне по возвращении в Англию заглянуть к нему в музей, дабы обсудить возможность моего поступления на недавно появившуюся вакансию в отделе печатных изданий. Поскольку никакой другой работы у меня не предвиделось, эта перспектива начала казаться заманчивой. Я слишком долго прожил вдали от родной страны. Настало время серьезно заняться каким-нибудь делом. И вот в феврале 1847 года я покинул Санкт-Петербург, неспешно направился на Запад, изредка отклоняясь от своего маршрута по велению прихоти, и прибыл в Портсмут в начале июня.
Биллик с рессорной двуколкой поджидал меня на остановке портсмутского дилижанса в Уэреме. Сердечно похлопав друг друга по спине при встрече, мы два с лишним часа, к обоюдному нашему удовольствию, ехали в полном молчании, которое нарушало лишь причавкиванье моего спутника, безостановочно жевавшего табак. Наконец мы достигли Сэндчерча.
– Высади меня здесь, Биллик, – велел я, когда двуколка поравнялась с церковью.
Он покатил дальше вверх по склону холма, а я постучал в дверь покосившегося коттеджика сразу за церковным двором.
Дверь открыл Том, с очками в руке и книгой под мышкой.
Он улыбнулся, протянул мне руку, и книга упала на пол.
– Бродяга вернулся к родным пенатам, – промолвил он. – Входи, друг мой, и чувствуй себя как дома.
И ведь она действительно когда-то была моим вторым домом, эта пыльная низкая комната, от пола до потолка заваленная книгами самого разного вида и размера. С детства знакомая обстановка – трехногий комод, подпертый скрипучей стопкой тронутых плесенью кожаных фолиантов, скрещенные удилища над камином, поблекший мраморный бюст Наполеона на полочке у двери – вызывала одновременно сладкое умиление и щемящую боль в сердце. Да и сам Том, со своим длинным морщинистым лицом и большими ушами с торчащими из них седыми пучками шерсти, всколыхнул в душе воспоминания детства.
– Том, – сказал я, – сдается мне, вы лишились последних остатков волос со времени прошлой нашей встречи.
Мы от души рассмеялись, и с молчанием на тот вечер было покончено.
Много часов кряду мы разговаривали о моем житье-бытье на континенте и вспоминали былые дни, но наконец часы пробили полночь, и Том сказал, что возьмет фонарь и проводит меня до дома. Он попрощался со мной у калитки под каштаном, и я вошел в тихий дом.
После девяти лет странствий я наконец снова улегся в собственную постель и мирно заснул под вечную музыку моря, набегающего на берег.
Лето прошло спокойно. Я изо всех сил старался занять себя делами: много читал, выполнял мелкую хозяйственную работу, копошился в саду. Но с наступлением осени я начал испытывать беспокойство и неудовлетворенность. Почти каждый день ко мне заходил Том, и я отчетливо видел, что моя праздность тревожит славного старика.
– Чем собираешься заняться дальше, Нед? – наконец спросил он.
– Полагаю, придется зарабатывать на жизнь собственным трудом, – со вздохом ответил я. – Я истратил почти весь свой капитал, дом разваливается, а теперь еще мистер Мор написал, что перед смертью моя матушка заняла у него сто фунтов и теперь они ему срочно нужны.
– Если у тебя по-прежнему нет на примете ничего определенного, – после паузы промолвил Том, – осмелюсь дать тебе один совет.
Во время путешествий по Леванту я писал Тому о возникшем у меня страстном интересе к истории древних цивилизаций Малой Азии. Получив известие о моем скором возвращении в Англию и не зная, что я подумываю о месте сотрудника Британского музея, он навел предварительные справки относительно возможности моего участия в экспедиции, которая в настоящее время набиралась для раскопок исторических памятников в Нимруде.
– Ты получил бы полезный опыт, Нед, и немного денег. И начал бы делать себе имя в новой, быстро развивающейся области науки.
Я сказал, что это превосходная идея, и горячо поблагодарил старика за ценный совет, хотя на самом деле предложенный план вызывал у меня некоторые сомнения. Возглавлявший экспедицию джентльмен – с ним Том познакомился через одного своего родственника – жил в Оксфорде. Мы договорились, что Том безотлагательно напишет профессору письмо с просьбой принять нас с ним в ближайшее удобное для него время.
Ответа не было несколько недель, но наконец, одним ясным и ветреным осенним утром, Том явился ко мне с сообщением, что от оксфордского профессора С. [90]90
[Я не сумел установить личность «профессора С.» и не знаю, почему автор решил сохранить его анонимность. Похоже, он участвовал в подготовке некоего проекта, призванного составить конкуренцию экспедициям в Нимруд под руководством Остина Генри Лайарда (1817–1894), но так и не осуществленного. (Прим. ред.)]
[Закрыть]пришло письмо, где он выражает готовность принять меня в Нью-Колледже, дабы обсудить мою кандидатуру на должность сотрудника экспедиции.
Комнаты профессора были битком набиты слепками и фрагментами барельефов; глиняными таблицами, покрытыми загадочными клинообразными письменами, описанными в отчете Роулинсона о путешествиях по Сусиане и Курдистану; [91]91
[Отчеты о предпринятых в 1836 и 1838 гг. экспедициях, написанные для Королевского географического общества Генри Кресвиком Роулинсоном (1810–1896). (Прим. ред.)]
[Закрыть]статуэтками мускулистых крылатых быков, высеченными из блестящего черного базальта. Различные карты и схемы валялись повсюду на полу, лежали на столах, свешивались с кресельных спинок, а на мольберте посреди комнаты стояло нечто, поначалу принятое мной за однотонную масляную картину с изображением царя-исполина, увенчанного короной и с заплетенной в косички бородой, который стоит в грозной и величественной позе над простертым ниц пленным врагом или мятежником, всем своим видом являющим рабскую покорность перед могуществом победителя.
При ближайшем рассмотрении это оказалась вовсе не картина, а – как любезно пояснил профессор, заметив мой интерес, – фотогенический рисунок, созданный по методу, изобретенному его ученым коллегой мистером Толботом, [92]92
[Уильям Фокс Толбот (1800–1877) – британский изобретатель фотографии. Работал над созданием «фотогенических рисунков» с 1835 г. Прочитал доклад о своем «фотогеническом методе» в Королевском научном обществе 31 января 1839 г. В 1841 г. запатентовал усовершенствованный негативно-позитивный процесс, известный под названием «калотипия» или «тальботипия». (Прим. ред.)]
[Закрыть]специалистом по клинописным текстам. Я просто оцепенел от восхищения, ибо видел перед собой изображение восточного деспота – каменного колосса в песчаной пустыне, – сотворенное не посредством некоего тленного вещества, придуманного и изготовленного человеком, но посредством лучей самого светила вечного. Свет небесный, свет солнца, некогда сиявшего над древним Вавилоном, а ныне рассеивавшего октябрьский сумрак на улицах Оксфорда девятнадцатого века, был здесь пойман и пригвожден к месту, точно попранный царственной пятой раб, и наделен непреходящим постоянством.
Я вхожу в такие подробности, поскольку то был один из важнейших моментов в моей жизни, как станет ясно впоследствии. Прежде я следовал торными стезями знания, берущими начало в тихой гавани гуманитарных наук. Теперь же я осознал, что точные науки, всегда изучавшиеся мной без особого усердия, открывают возможности, о каких мне и не грезилось.
От профессора исходил кисловатый запах старости, слишком заметный в тесном замкнутом пространстве мансардных комнат; вдобавок сей джентльмен, похоже, считал, что проводить собеседование лучше всего стоя вплотную к человеку и разговаривая с ним очень громким голосом. Он тщательно проэкзаменовал меня на предмет моих познаний о Месопотамии и вавилонских династиях, а также по ряду родственных вопросов. Том же тем временем топтался поодаль, с надеждой улыбаясь.
Вполне возможно, я выдержал экзамен. Да нет, не возможно, а точно выдержал – ибо через несколько дней после нашего возвращения в Сэндчерч профессор письменно сообщил о своем желании, чтобы я при первом же удобном случае снова приехал в Оксфорд и познакомился с остальными участниками намеченной экспедиции.
Но к тому времени в сердце моем уже горела новая страсть. Блистательно схваченная и запечатленная игра светотени, увиденная мной на фотогеническом рисунке каменного колосса, пленила мое воображение, и я напрочь отказался от перспективы ковыряться в песках знойной месопотамской пустыни. Кроме того, я устал от путешествий. Мне хотелось прочно обосноваться на одном месте, найти занятие по своему вкусу и овладеть фотографическим искусством, которым, возможно, однажды я стану зарабатывать на жизнь.
Старому Тому я ничего не сказал, но ловко придумал предлог, чтобы не возвращаться в Нью-Колледж, как просил профессор, и умудрился несколько дней безвылазно просидеть дома, симулируя легкую, но временно истощающую силы болезнь.
В первый день моей мнимой болезни с юга пришел проливной дождь и хлестал без устали, покуда на утес не наползла ночная мгла, плотно окутав дом. С утра я удобно устроился в кресле у окна гостиной с видом на море и углубился в чтение букингемовских «Путешествий по Ассирии» [93]93
[«Путешествия по Ассирии, Мидии и Персии» (1830), автор Джеймс Силк Букингем (1786–1855). (Прим. ред.)]
[Закрыть]в тщетной попытке заглушить укоры совести, вызванные моей ложью славному старине Тому. Но ко времени, когда Бет принесла ланч, Букингем мне уже изрядно наскучил, и я обратился к любимому потрепанному томику донновских проповедей, в который ушел с головой до самого вечера.
После ужина я начал думать о вопросах практического свойства. Чтобы прочно утвердиться на пути успеха, не имея университетской степени, требовалось очень и очень постараться. До того как Том принял деятельное участие в моей судьбе, я намеревался продать дом и перебраться в Лондон, дабы попробовать найти там работу, позволяющую применить на деле мои интеллектуальные способности. Прежде всего я планировал воспользоваться приглашением мистера Брайса Фернивалла и предложить свою кандидатуру на вакансию в отделе печатных изданий Британского музея. Подобная перспектива по-прежнему казалась заманчивой: библиографическая страсть продолжала гореть в моей груди, и представлялось несомненным, что на этом чрезвычайно увлекательном (для меня) поприще я найду столько интересной и полезной для общества работы, что на всю жизнь хватит.
Но куда бы я ни отправился – в Месопотамию или на Грейт-Рассел-стрит – мне понадобятся наличные деньги, чтобы содержать себя на первых порах. А еще надо бы наконец разобрать матушкины бумаги – у меня все как-то руки до них не доходили, и они вот уже одиннадцать лет пылятся на письменном столе в туго перевязанных стопках, немой укор мне. Ну уж чем-чем, а этим делом я могу заняться без долгих отлагательств. И вот, решив начать просматривать бумаги завтра с утра пораньше, я зажег сигару, придвинул кресло поближе к камину и приготовился скоротать вечер за изящным томиком стихотворений лорда Рочестера.
Уютно потрескивало пламя, дождь монотонно барабанил в окна. В скором времени я опустил книгу и уставился на стопки пожелтелых страниц со скрученными краями.
На стене по обеим сторонам от стола висели изготовленные Билликом полки, где теснились изданные сочинения моей матушки, двух– и трехтомники в темно-зеленых или синих матерчатых переплетах, с поблескивающим в свете камина золотым тиснением на корешках. Они стояли строго в порядке публикации, начиная от «Эдит» и кончая «Петрусом, или Благородным рабом» – несмелой попыткой исторического романа, вышедшего из печати в год матушкиной смерти. Под этой библиотечкой находилось непосредственно рабочее место – огромный письменный стол в полных восемь футов по диагонали, который впоследствии займет почетное место в моих комнатах на Темпл-стрит.
Громоздившиеся на нем кипы страниц образовывали подобие горного ландшафта – с высокими пиками и затененными узкими долинами, с крутостенными ущельями и оползнями от слабых подземных толчков. Вся эта груда бумаг, я знал, состояла из черновых рукописей и фрагментов романов, а равно из приходно-расходных счетов и прочих записей, касающихся домашнего хозяйства. Матушка имела курьезное обыкновение: она раскладывала все свои бумаги и документы по категориям, потом перевязывала накопившиеся стопки шнуром, лентой или тонкой полоской тафты и, никак их не помечая, водружала одну на другую примерно в той последовательности, в какой они формировались. В результате на столе получилось нечто вроде макета сражения при Фарсалии, [94]94
[Город в Фессалии, исторической области северной Греции, где в 48 г. до н. э. Юлий Цезарь одержал победу над сенатскими войсками под командованием Помпея. (Прим. ред.)]
[Закрыть]виденного мной однажды, с выстроенными в каре и уступами подразделениями противоборствующих войск. Посередке, окруженное с трех сторон высоченными кипами бумаги, оставалось крохотное – размером не более стандартного писчего листа – свободное место для работы.
Здесь же находились и квадратные записные книжечки в твердых черных обложках, перевязанные, каждая по отдельности, темной шелковой ленточкой, – в детстве они неизменно пленяли мой взор своим сходством с плитками черного шоколада. В них матушка постоянно заносила свои мысли, склоняясь над столом даже ниже, чем во время своей литературной работы, поскольку из-за малого формата страниц (всего лишь три или четыре квадратных дюйма) приходилось писать мельчайшим почерком. Я так и не уразумел, зачем она добровольно входила в лишние хлопоты и расходы, заказывая такие вот записные книжки у одного веймутского переплетчика, что по нашим достаткам представлялось непозволительной роскошью. Сейчас дюжина-полторы этих миниатюрных томиков стояли в ряд с одной стороны стола, подпертые у самого края шкатулкой красного дерева, где некогда хранились мои двести соверенов.
Повинуясь внезапной прихоти, я решил заглянуть в одну из черных книжечек, прежде чем отправиться на боковую. Я понятия не имел, какого рода записи в них содержатся, и тревожное любопытство – легкая дрожь необъяснимого волнения, охватившая меня, когда я встал и двинулся к столу, – прогнало сонливость, которая начала овладевать мной, пока я сидел перед угасающим камином, читая блистательные непристойности лорда Рочестера.
Я взял наугад одну из записных книжек и развязал шелковую ленточку. Поднеся книжку поближе к свече, я раскрыл твердую обложку и принялся читать тесные убористые строчки, составленные из крохотных аккуратных буковок. Там шла речь о последних неделях, проведенных матушкой в Черч-Лэнгтоне перед их с Капитаном переездом в Сэндчерч. Заинтригованный, я пробежал глазами еще несколько страниц, а потом захлопнул этот томик и взял следующий. Около часа я перебирал книжечки таким образом, просматривая по несколько страниц из каждой, и незадолго до одиннадцати решил напоследок сунуть нос еще в одну, а потом лечь спать.
На двух первых желтоватых страницах не содержалось ничего интересного – так, короткие отчеты о разных незначительных обыденных делах. Я уже собирался закрыть дневник и поставить на место, когда, небрежно пролистнув несколько страниц, зацепился взглядом за нижеследующие строки:
Я прекрасно понимаю: это безумие, чистой воды безумие. Все мое существо протестует против этого; все чувства, почитавшиеся мной священными, восстают против такой перспективы. Однако от меня требуют этого, и избежать сей чаши невозможно. Похоже, судьба моя не принадлежит мне, но лепится другой рукой – увы, не Божьей! Мы долго говорили вчера; Л. порой заливалась слезами и умоляла, порой распалялась гневом и грозилась сотворить даже худшее, чем то, что она предлагает сделать. Может ли быть что-нибудь хуже? О да! И она способна на такое. Минувшей ночью он отсутствовал дома, что дало нам еще немного времени. После ужина Л. опять пришла в мою комнату, и мы долго плакали вместе. Но потом решимость вернулась к ней, и она вновь обратилась в сталь и пламя, проклиная его с неистовой яростью, приводившей меня в неподдельный ужас. Л. удалилась только с первыми проблесками зари, оставив меня в столь изнуренном состоянии, что я воротилась из Э*** домой уже далеко за полдень. Капитан находился в отлучке, а потому не заметил моего опоздания.
Запись была датирована 25 июня 1819 года.
Вперять столь пристальный взор в дневник матушки значило грубо вторгаться в ее частную жизнь, но я вдруг осознал, что не в силах принудить себя закрыть книжицу и снова перевязать шелковой ленточкой, не вникая в содержание записей. Ибо, будучи хроникой частной жизни, дневник этот наверняка содержал некую правду, некие неявные, но достоверные сведения о хрупкой маленькой женщине из моих детских воспоминаний, которая постоянно строчила пером по бумаге, низко склонившись над столом. Я почувствовал острую необходимость выяснить, что же кроется за словами, сию минуту мной прочитанными, даже если ради этого мне придется отложить все свои планы, направленные на достижение успеха в жизни.
Но я напрочь не понимал, о чем именно идет речь в вышеприведенных загадочных строках. Ведь здесь говорилось не о произошедших событиях, как во всех предшествующих записях, но о приближении некоего рокового момента, о глубоких внутренних сомнениях, вызванных пока еще неизвестной мне причиной. Следующая запись, датированная несколькими днями позже, тоже не поддавалась истолкованию.
Появление Л. сегодня, столь неожиданное и шумное, привело в немалое смятение меня и Бет, которая как раз спускалась по лестнице, когда гостья неистово забарабанила в дверь, точно сам дьявол. Бет спросила, не больна ли леди, но я тотчас послала ее принести воды, а когда она воротилась в гостиную, Л. уже овладела собой и держалась самым пристойным образом. Он вернулся, но снова отказал ей – и на сей раз произошло нечто ужасное, о чем она не пожелала рассказывать, но что вызывало новые непримиримые противоречия между ними. Она снова начала распаляться гневом, но я ласково призвала ее успокоиться, что она и сделала немного погодя. Л. приехала, дабы самолично сообщить мне (ибо она по-прежнему не доверяет никаким средствам извещения, помимо собственных слов, произносимых шепотом), что мадам де К. будет в городе в ближайшие понедельник и вторник и что я очень скоро узнаю еще кое-что.
Кто такая Л.? Что за мужчина упоминается здесь – Капитан или кто-нибудь другой? И кто такая мадам де К.? Донельзя заинтригованный загадочными записями, я уже и думать забыл про сон. Я попытался увязать воспоминания о тихой, трудолюбивой жизни моей матушки с этими недвусмысленными намеками на некие неотвратимые роковые события, в которые она оказалась вовлечена, но быстро сдался и стал читать дальше, напряженно выискивая на маленьких желтых страницах какие-нибудь указания, способные пролить свет на эту тайну.
Вот так все и началось. Я раскрыл следующую черную книжечку, потом следующую – и читал, читал в своего рода сосредоточенном оцепенении, остро сознавая всю странность записей, но не находя в себе сил оторваться от них, покуда глаза у меня не заслезились от усталости. Когда зашипела, догорая, уже вторая или третья зажженная мной свеча, я наконец поднял взгляд и увидел за окном гостиной бледно-розовую дугу зари, вырастающую над горизонтом. Для мира и для меня наступил новый день.