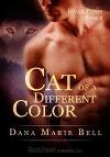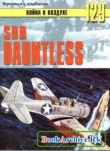Текст книги "Смысл ночи"
Автор книги: Майкл Кокс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)
Мадам Матильда
На следующее утро, сообразно полученному накануне распоряжению, я явился в личный кабинет мистера Тредголда. Часом позже я вышел оттуда доверенным помощником старшего компаньона, каковая должность, указал он, предполагала исполнение самых разных обязанностей конфиденциального и частного характера. Последующие пять лет я довольно успешно исполнял упомянутые обязанности, и знали о них только мы с мистером Тредголдом.
Легко представить, что известный и преуспевающий адвокат вроде мистера Тредголда часто нуждался в важной для того или иного дела информации, получить которую по обычным каналам было, скажем так, затруднительно. В таких случаях, когда он предпочитал оставаться в неведении относительно источников и способов добычи информации, мистер Тредголд вызывал меня и предлагал прогуляться по Темпл-Гарденс. Проблемы, имевшие особое значение для фирмы, обычно излагались и обсуждались в отвлеченной манере.
– Интересно, – говорил под конец старший компаньон, – можно ли тут что-нибудь сделать?
На этом тема закрывалась, и мы неспешно возвращались на Патерностер-роу, беседуя о разных пустяках.
Никаких официальных распоряжений не отдавалось, никаких записей о наших разговорах не велось. Но за все дела сугубо конфиденциального и частного свойства в «Тредголд, Тредголд и Орр» стал отвечать я.
Первая «небольшая проблема», представленная мне мистером Тредголдом для теоретического рассмотрения, касалась некой миссис Боннер-Чайлдс и может служить типичным примером работы, вменявшейся мне в обязанность в дальнейшем.
Поименованная дама являлась постоянной клиенткой некоего заведения на Риджент-стрит под названием «Обитель красоты», которым управляла некая Сара Бунс, она же мадам Матильда. [120]120
[Похоже, эта дама была предшественницей более знаменитой Рейчел Леверсон, вымогательницы и воровки, в 1868 г. привлеченной к суду и приговоренной к пяти годам каторжных работ точно за такую же преступную деятельность, какой занималась мадам Матильда. (Прим. ред.)]
[Закрыть]Мадам соблазняла легковерных женщин, озабоченных сохранением красоты (а таким, надо думать, несть числа), тратить свои, а чаще мужнины, деньги на уникальные препараты с экзотическими названиями (якобы бесследно и навсегда удаляющие морщины или восстанавливающие молодой цвет лица), стоившие по двадцать гиней доза. В заведении также имелась роскошная купальня наподобие турецкой бани. Злополучная миссис Боннер-Чайлдс поддалась на уговоры посетить сие место отдохновения, а по возвращении в раздевальню обнаружила пропажу своих бриллиантовых серег и кольца. В ответ на претензии клиентки мадам Матильда заявила следующее: если миссис Боннер-Чайлдс вздумает поднять шум, она сообщит мистеру Боннер-Чайлдсу, заместителю министра по делам Индии, что его супруга пользовалась купальней для тайных любовных свиданий.
Процветанию заведения мадам Матильды – как и процветанию «Академии» Китти Дейли – немало способствовал панический страх публичного скандала, владевший несчастными жертвами подобного шантажа. Но в данном случае миссис Боннер-Чайлдс тотчас доложила о случившемся мужу, и он, нисколько не усомнясь в невиновности своей благоверной, безотлагательно обратился за советом к мистеру Кристоферу Тредголду.
Мы с моим работодателем надлежащим образом прогулялись по Темпл-Гарденс. Мистер Боннер Чайлдс был готов возбудить судебное преследование, коли понадобится, но выразил надежду, что мистер Тредголд изыщет способ вернуть украденные драгоценности, не доводя дела до суда. В любом из случаев вопрос гонорара – сколь угодно крупного – не имел для него значения.
– Интересно, можно ли тут что-нибудь сделать? – задумчиво промолвил мистер Тредголд, после чего мы двинулись обратно на Патерностер-роу, болтая о разных пустяках.
Назавтра я занял наблюдательную позицию у «Обители красоты» и в конце концов дождался нужной мне особы.
Ближе к полудню мелкая изморось постепенно переросла в частый дождь. Повсюду вокруг гремел и громыхал город. Лондонцы всех чинов и званий, от живущих впроголодь трудяг до изнеженных роскошью бездельников, сновали взад-вперед по грязным закупоренным артериям огромного бессонного зверя, занятые всяк своими делами, – кто брел по слякотным пасмурным улицам, кто катил в каретах с зашторенными окошками, кто трясся в переполненных омнибусах, кто восседал на передке грохочущих тяжелогруженых телег.
Несмотря на ранний час, уже смеркалось, и в окнах домов и лавок горел свет. «Мы живем в темном мире», – любят повторять проповедники, и в тот день метафора воплотилась в явь.
Я уже довольно долго стоял на Риджент-стрит, глазея в витрину «Месье Джонсон и К°» [121]121
[Королевские шляпники. (Прим. ред.)]
[Закрыть]и размышляя, не порадовать ли мне себя новой шляпой. Внезапно я увидел в стекле отражение женщины лет тридцати, которая прошла у меня за спиной и остановилась перед дверью «Обители», разглядывая кричащую вывеску. Поколебавшись, она двинулась дальше, но через несколько шагов снова остановилась и после короткого раздумья вернулась к двери заведения.
У нее было открытое честное лицо и в ушах висели дорогие изумрудные серьги. Я проворно шагнул вперед, препятствуя ей войти в «Обитель». В первый момент она оторопела, но я быстро уговорил ее отойти от двери. То был мой первый урок смелости, и я превосходно с ним справился. Я также обнаружил, к немалому своему удивлению, что обладаю природным даром убеждения в подобных ситуациях: я в два счета завоевал доверие дамы, и после недолгого обсуждения дела она согласилась принять участие в осуществлении моего плана.
Через несколько минут она вошла в «Обитель красоты», сразу же изъявила желание принять ванну и сняла с себя одежду и драгоценности в раздевальне, как в свое время сделала миссис Боннер-Чайлдс. Зная, что в настоящее время мадам Матильда находится в заведении одна, я вошел следом за своей сообщницей, выждал несколько минут, чтобы она успела зайти в купальную комнату, а затем имел удовольствие застать на месте преступления мадам, умыкающую изумрудные серьги.
Мы обменялись несколькими словами, и мадам, похоже, осознала ошибочность своего поведения. «Обитель» приносила ей изрядный доход, и она решительно не желала оказаться замешанной в судебном процессе, возбудить который, заверил я, теперь будет проще простого.
– Это недоразумение, сэр, чистое недоразумение, – жалобно заскулила она. – Я всего лишь собиралась переложить серьги в надежное место, как поступила служанка с драгоценностями другой дамы, только я тогда ничего не знала…
В конце концов она отдала мне украшения миссис Боннер-Чайлдс, страдальчески заламывая руки и горячо обещая уволить служанку, по глупости своей никого не поставившую в известность, что она убрала бриллианты клиентки от греха подальше.
Мистер Тредголд выразил глубокое удовлетворение, что дело улажено столь быстро и тихо, без всякого суда; а мистер Боннер-Чайлдс незамедлительно выписал на имя фирмы чек на крупную сумму, значительная часть которой была переведена на мой счет в банке «Куттс и К°».
Следует также коротко упомянуть о деле Джосаи Плакроуза – потому что оно дает представление о неприятной стороне моей работы на мистера Тредголда, а также по ряду других причин, кои станут понятны впоследствии.
Плакроуз этот был человеком самого заурядного пошиба: один из великого множества мясников, умудрившийся сколотить порядочный капитал весьма сомнительными (как шепотом выразился мистер Тредголд) способами. В возрасте двадцати четырех лет он оставил мясницкое ремесло, немного выступал на ринге, работал лодочником и щеточником, а потом вдруг чудесным образом вылез из грязи, обратившись псевдо-джентльменом, владельцем особняка на Веймут-стрит и немалого состояния.
Плакроуз – верзила со змеиными глазками и багровым шрамом на щеке – недолгое время состоял в браке с женщиной, прежде служившей в каком-то богатом доме. Он обращался с женой просто по-скотски, и в один прекрасный день осенью 1849 года бедную даму нашли мертвой, с размозженным черепом, а Плакроуза арестовали за убийство. Ранее Плакроуз неоднократно пользовался услугами нашей фирмы для решения разных вопросов коммерческого свойства, а потому, естественно, он нанял Тредголдов и в качестве своих адвокатов. «Неприятная необходимость, – доверительно признался старший компаньон, – избежать которой я не могу, поскольку Плакроуз привел к нам немало выгодных клиентов. Он, разумеется, заявляет о своей невиновности, но тем не менее дело попахивает сомнительно». Затем мой собеседник спросил, не представляю ли я часом, каким способом можно решить эту «небольшую проблему».
Коротко говоря, я нашел такой способ – и впервые за все время моей работы на Тредголдов малость поступился своей совестью. Входить здесь в подробности не имеет смысла. Дело слушалось в январе 1850 года, с Плакроуза сняли обвинение в убийстве, и впоследствии на виселицу отправили невиновного человека. Я не горжусь этим, но я справился со своей задачей настолько хорошо, что никто – даже мистер Тредголд – и не заподозрил правды. Ну и долой с воза этого гнусного Плакроуза.
Во всяком случае, я так тогда думал.
После истории с мадам Матильдой, произошедшей в феврале 1848 года, у меня началась жизнь, о какой всего полуголом ранее я и помыслить не мог, – жизнь, не имевшая ничего общего с моими прежними интересами и устремлениями. Вскоре стало ясно, что у меня настоящее призвание к работе, вменявшейся мне в обязанность у Тредголдов, – и действительно, я взялся за нее со сноровкой, удивившей даже меня самого при всей моей самоуверенности. Я собирал информацию, обзаведясь широкой сетью знакомств в верхах и низах столичного общества; я изобличал в опрометчивых поступках, подкреплял фактами шаткие свидетельства, наблюдал, вел слежку, предостерегал, умасливал, иногда угрожал. Вымогательство, присвоение чужого имущества, преступное половое сношение, [122]122
[То есть супружеская измена. (Прим. ред.)]
[Закрыть]даже убийство – характер дела не имел значения. Я мастерски выискивал слабые места, а затем находил способ бесповоротно развалить судебный процесс, возбужденный против нашего клиента. Мой особый дар заключался в умении выведывать простые человеческие недостатки – крохотные семена низости и своекорыстия, которые, будучи извлечены на свет и обильно политы, превращались в саморазрушительную силу. И вот наша фирма процветала, а лучезарная улыбка мистера Тредголда становилась все шире.
Сам Лондон стал моей мастерской, моим ремесленным цехом, моим рабочим кабинетом,где я применял на практике все свои познавательные способности. Я стремился интеллектуально овладеть им, как овладевал любым научным предметом, к которому обращал свой ум в прошлом; стремился заарканить и укротить Великого Левиафана, поселившегося в моем воображении, подчинить своей воле бессонное чудовище, в чьем ненасытном чреве я обретался ныне.
Повсюду – от блистательных высот просвещенной утонченности до клоачных глубин варварского невежества, от Мэйфера и Белгравии до Роузмари-лейн и Блюгейт-Филдс, – повсюду распознавал я его характерные черты, его многоликие сущности, мириады его особенностей и проявлений. Я наблюдал за щипачами, съемщиками [123]123
[Категории карманных воров. (Прим. ред.)]
[Закрыть]и прочими представителями воровского ремесла, работавшими на запруженных народом улицах Уэст-Энда при свете дня, и за налетчиками, [124]124
[Уличные грабители. (Прим. ред.)]
[Закрыть]выходившими на свой грубый промысел с наступлением темноты. Особый интерес вызывали у меня проститутки всех рангов: облаченные в шелка куртизанки, развязно выступавшие под руку со своими лордами и джентльменами, панельные девки самого низкого пошиба и прочие разновидности женщин веселого [125]125
[Здесь в смысле «безнравственного». (Прим. ред.)]
[Закрыть]поведения. Каждый день я пополнял свой запас знаний и каждый день расширял собственный опыт в части развлечений, какие мог предложить этот город – единственный и неповторимый в божьем мире – человеку страстного темперамента и богатого воображения.
Я не намерен описывать вам свои многочисленные амурные приключения; подобные рассказы в лучшем случае скучны. Но об одном из них все же упомяну. Девушка, о которой пойдет речь, относилась к разряду так называемых ряженых. [126]126
[Проститутка, которую содержательница публичного дома обеспечивала дорогой одеждой. (Прим. ред.)]
[Закрыть]Дело произошло вскоре после истории с мадам Матильдой: я вернулся на Риджент-стрит, чтобы еще раз взглянуть на шляпные изделия, предлагавшиеся на продажу в ателье «Месье Джонсон и К°». Она собиралась перейти улицу, когда я обратил на нее внимание: хорошо одетая, миниатюрная, с ямочкой на подбородке и маленькими изящными ушами. Стояло пасмурное сырое утро, и я находился достаточно близко, чтобы разглядеть жемчужные капельки влаги у нее на локонах. Вместе с группой пешеходов она быстро пересекла мостовую и остановилась на противоположном тротуаре, нервно теребя выбившуюся из-под шляпки длинную прядь волос. В следующий миг я увидел пожилую женщину, переходившую улицу в нескольких шагах позади нее, и сразу понял: это присмотрщица, приставленная хозяйкой борделя следить за девушкой, чтобы та не сбежала в «рабочей одежде». У неимущих особ не хватало денег на пышные туалеты, необходимые для поимки клиентов, – такие как у модных кокоток, что ошиваются у театральных подъездов и Café Royal.
Я устремился за ней следом. Она шагала в толпе прохожих быстро и целеустремленно. В Лонг-Акре я поравнялся с ней. Мы в два счета столковались, присмотрщица свернула в ближайший кабак, а девушка завела меня в дом на углу Энделл-стрит.
Ее звали Дорри, сокращенное от Дороти. Позже она пояснила, что занялась своим ремеслом, дабы содержать вдовую мать, не могшую найти постоянную работу. Мы немного поговорили, и я начал проникаться к девушке теплыми чувствами. По моей просьбе она отвела меня – присмотрщица по-прежнему следовала за нами – в тесную сырую комнатушку в грязном переулке неподалеку. Ее матери, надо полагать, было лет сорок, не более, но она выглядела немощной старухой и поминутно разражалась хриплым лающим кашлем. Увидев на лице бедной женщины неизгладимую печать, наложенную усталостью и страданием, я тотчас подумал (хотя там был совсем другой случай) о своей матушке, подорвавшей здоровье непосильным трудом.
Почти не раздумывая, я заключил с ней соглашение, о котором ни разу не пожалел. В течение нескольких лет, пока мои обстоятельства не переменились, миссис Грейнджер два-три раза в неделю приходила ко мне на Темпл-стрит, чтобы прибраться в комнатах, забрать в стирку белье и вынести помои.
Когда она появлялась утром, я обычно говорил:
– Доброго вам утра, миссис Грейнджер. Как поживает Дорри?
– У ней все в порядке, сэр, благодарствуйте. Она все такая же славная девочка, – отвечала миссис Грейнджер.
На том все наши разговоры и заканчивались.
Так я сделался своего рода покровителем Дорри Грейнджер и ее матери. Но даже этот непредумышленный акт милосердия с моей стороны стал одной из нитей в гибельной паутине обстоятельств, что уже стягивалась вокруг меня.
Раннее утро, февраль, MDCCL [127]127
[Как и в случае с фрагментом под названием «Сон о Великом Кузнеце», листок с данными строками вклеен здесь в рукопись. Зачем они включены в повествование, на первый взгляд непонятно, но для автора они явно имеют важное значение. Можно также предположить, что они написаны под воздействием опиума. (Прим. ред.)]
[Закрыть]
О город! Бездонный и бескрайний!
Колыбель всего сущего!
Это солнце, эта луна, эти звезды – я трогаю
и осязаю их.
Я горю. Я стыну.
Эти горы я стираю в пыль движением руки.
Эти потоки я поглощаю, эти леса я пожираю.
Я живу во всем сущем, в свете, в воздухе,
в неслышной музыке.
О город из крови, костей и плоти!
Из мышц и сухожилий! Многоокий и острозубый!
Театр мирской суеты, мой вожделенный ад,
Что неистовствует, беснуется у меня под ногами.
Жизнь моя. Смерть моя.
Эвенвуд
Когда я поселился на Темпл-стрит и начал работать на Тредголдов, мои фотографические амбиции временно угасли, хотя я продолжал переписываться с мистером Толботом. Но едва обустроившись на новом месте, я оборудовал маленькую «темную комнату» в отгороженном занавесом углу гостиной. Здесь я хранил свои камеры (недавно купленные в лавке Хорна и Торнтуэйта [128]128
[Оптики, «изготовители химических и алхимических приборов», а также главные поставщики фотографического оборудования, державшие мастерскую и лавку по адресу Ньюгейт-стрит, 121 и 123. (Прим. ред.)]
[Закрыть]), а также фонари, фильтры, ванночки и чаши, лотки и мягкие кисточки, проявительные и закрепительные растворы, мензурки, мерные стаканы, многие дести бумаги, шприцы, пинцеты и прочие необходимые принадлежности фотографического искусства. Я прилежно освоил все нужные химические и технические процессы и летними вечерами отправлялся с камерой к реке или к живописным зданиям судебных инн, расположенным неподалеку, чтобы овладевать композиционными приемами. Таким образом я начал набираться опыта и знаний, а равно собирать коллекцию собственных фотогенических рисунков.
Пристальное и сосредоточенное наблюдение, необходимость учитывать тончайшие переходы светотени и тщательно выбирать верный ракурс, спокойное, вдумчивое исследование заднего плана и окружения – все это доставляло мне глубокое удовлетворение и переносило меня в другой мир, не имеющий ничего общего с моей повседневной работой у Тредголдов, зачастую грязной. Главным моим интересом – зерно которого посеял во мне фотогенический рисунок мистера Толбота с изображением Лакокского аббатства – было попробовать уловить и передать дух, или атмосферу, того или иного места. В Лондоне так много живописной натуры – старинные дворцы, жилые дома разных эпох, река с мостами, огромные общественные здания, – что вскоре я развил тонкое чувство линии и объема, света и тени, фактуры и контура.
Одним воскресным днем в июне 1850 года, полагая, что достиг вполне приличного уровня мастерства, я решил показать образцы своих работ мистеру Тредголду.
– Просто превосходно, Эдвард! – воскликнул он, просмотрев несколько вставленных в рамку фотогенических рисунков, сделанных мной в Памп-Корте и в апартаментах сэра Эфраима Гэдда на Кингс-Бенч-уок. – У вас замечательный глаз! Поистине замечательный! – Он вдруг встрепенулся, словно осененный некой мыслью. – Знаете, а ведь я, пожалуй, могу договориться о заказе для вас. Как вы на это смотрите?
Разумеется, я ответил, что был бы премного благодарен.
– Прекрасно. На следующей неделе я собираюсь нанести визит одному важному клиенту, и ваши работы навели меня на мысль, что, возможно, сей джентльмен желал бы иметь фотографические изображения своего поместья, дабы оставить потомкам увековеченное свидетельство своего процветания. Вне всяких сомнений, там перед вашей камерой откроются самые пленительные картины.
– Тем охотнее я соглашусь на ваше предложение. Где находится поместье?
– В Эвенвуде, Нортгемптоншир. Родовое гнездо самого важного клиента, лорда Тансора.
Не знаю, заметил ли мистер Тредголд мое удивление. Он сиял обычной своей лучезарной улыбкой, но смотрел на меня с настороженным прищуром, словно ожидая какой-то неприятной реакции. Потом он прочистил горло и продолжил:
– Полагаю, вам будет также любопытно увидеть бывшее местожительство леди Тансор – я имею в виду, разумеется, дружбу ее светлости с покойной матерью вашего последнего работодателя, миссис Симоной Глайвер. Но если мое предложение вызывает у вас возражения…
Я вскинул ладонь.
– Ни в коем случае. Уверяю вас, я ничего не имею против подобной экспедиции.
– Отлично. Значит, вопрос решен. Я безотлагательно напишу лорду Тансору.
Да разве мог я отказаться от неожиданного предложения мистера Тредголда, когда ни один уголок на земле не интересовал меня больше, чем Эвенвуд? Из различных публикаций я уже знал историю усадьбы, расположение зданий, топографию обширного парка. Теперь мне представилась возможность воочию увидеть поместье, столь часто рисовавшееся в моем воображении.
С начала моей работы на Тредголдов я мало продвинулся в поисках достоверных свидетельств, подтверждающих выводы, сделанные мной на основании матушкиных дневников. Я располагал рядом косвенных указаний и намеков, служивших веским – а для меня безусловным – доказательством правды, касающейся моего рождения; но они не являлись неоспоримыми и не объясняли, почему моя матушка и леди Тансор вступили в тайное соглашение и каким образом осуществили свой план. К настоящему времени я перечитал дневники уже несколько раз, с полным вниманием к каждому слову, и сделал уйму выписок из них; теперь я принялся по второму кругу перебирать и тщательно изучать все матушкины бумаги – от счетов и рецептов до писем и различных списков (как выяснилось, матушка питала неодолимую слабость к составлению списков – их были десятки и сотни). Я надеялся найти какой-нибудь фрагмент правды, ранее мной не замеченный, но вскоре стало ясно, что из имеющихся в моем распоряжении документов мне больше ничего не выжать и что я не продвинусь дальше ни на шаг, сидя в своих комнатах и горестно размышляя об утраченном наследстве. Если я хочу восстановиться в наследных правах, мне необходимо расширить поле зрения – а с чего здесь лучше начать, как не с посещения своего родового гнезда?
Через несколько дней мистер Тредголд сообщил, что лорд Тансор с радостью примет меня вместе с ним в Эвенвуде и позволит мне свободно разгуливать по поместью. На следующее утро мы сели на поезд до Питерсборо, одинаково довольные возможностью вырваться из душного пыльного Лондона.
Едва расположившись в купе, мы с мистером Тредголдом пустились в разговор на нашу излюбленную книжную тему, который и продолжался до самого Питерсборо, несмотря на несколько моих попыток перевести беседу на Эвенвуд и главных обитателей поместья. По нашем прибытии в Истон, расположенный милях в четырех от Эвенвуда, мистер Тредголд отправился вперед, а я со своим дорожным сундуком с фотографическим оборудованием поехал за ним следом в почтовой повозке. У сторожки привратника, сразу за деревней, я вышел, и повозка с грохотом укатила прочь. Дело шло к двум часам пополудни, когда я поднялся на вершину пологого холма по длинной аллее, ведущей от ворот, и остановился там, чтобы полюбоваться восхитительным видом, открывшимся моему жадному взору.
Теперь наконец я опишу вам Эвенвуд, впервые увиденный мной погожим июньским днем в 1850 году – таким же погожим, возможно, как день приезда доктора Даунта с семьей двадцатью годами ранее. Я словно воочию вижу Эвенвуд сейчас – так же ясно, как тогда.
Деревня лежит в тихом уединенном месте, рядом со спокойным притоком Нина, Эвеном (на местный лад – Эвенбруком), который вьется через парк и несколькими милями восточнее впадает в главную реку. Церковь с пасторатом, роскошный вдовий особняк конца семнадцатого века, скопления живописных коттеджей, несколько отдаленных ферм и сама усадьба – подобные композиции встречаются по всей Англии. Но Эвенвуд не похож ни на одно другое место на земле.
Неумолчно шелестящие камыши по речным берегам, тенистые плакучие ивы, белокаменные домики, крытые тростником или колливестонским сланцем, [129]129
[Знаменитая сланцевая плитка северного Нортгемптоншира. (Прим. ред.)]
[Закрыть]холмистый парк с озером, древними деревьями и сказочно красивой усадьбой лорда Тансора порождают атмосферу глубокого нерушимого покоя, отрадную для души, уставшей от суетного повседневного мира. Эвенвуд существует словно бы вне времени, отгороженный и защищенный от обыденной мелочной жизни извилистой рекой и лесистыми склонами долины, которые в ясный день видятся взору длинными мягкими пеленами серо-зеленого цвета.
Если вы заглянете в вереккеровский скучный, но надежный «Путеводитель по графству Нортгемптоншир» [130]130
[Конрад Вереккер (1770–1836). Первое издание его путеводителя вышло в свет в 1809 г. (Прим. ред.)]
[Закрыть](его дополненное издание 1812 года в данный момент лежит передо мной), вы прочитаете, что родовое гнездо лорда Тансора «расположено в живописном густом парке площадью во много акров, засаженном благородными дубами, ясенями, вязами и орошаемом водами Эвена, или Эвенбрука. Господский особняк возведен из кирпича и песчаника. Благодаря разнообразным пристройкам, сделанным в течение нескольких веков, здание обрело приятный для взора хаотический вид, величественный и романтичный одновременно». Из Вереккера вы почерпнете также голые факты, связанные с архитектурой Эвенвуда: стены с бойницами, сооруженные по лицензии от 1330 года; елизаветинские флигеля, пристроенные к средневековому укрепленному жилищу; декор в яковетинском стиле; реконструкция, произведенная Тальманом в начале прошлого века, и позднейшие пристройки в классическом стиле, спроектированные Генри Холландом, работавшим и над Олтропом, другой знаменитой усадьбой Нортгемптоншира.
Чего вы не найдете у Вереккера да и в любом другом путеводителе, так это объяснения магнетической способности Эвенвуда пленять сердце и разум. Вероятно, человеческий язык не в силах описать странное чувство, порождаемое в душе атмосферой подобных старинных поместий: чувство чего-то безвозвратно утраченного, но вечно присутствующего. Коли у вас есть такая возможность, подкатите к Эвенвуду с юга (как я в свой первый визит) ясным днем в середине лета. Войдя в парк, вы подыметесь по упомянутой мной аллее на вершину пологого холма, где непременно остановитесь (как сделал я), завидев далеко впереди усадьбу. Слева, за низкой парковой оградой, сверкает в солнечном свете река, плавно изгибающаяся на запад. Потом вы замечаете церковь, чей изящный шпиль в такую ясную погоду четко вырисовывается на фоне безоблачного лазурного неба; а напротив церкви, за дальней границей маленького погоста, стоит пасторат с увитыми плющом стенами.
Пройдите немного дальше. Подъездная аллея спускается к реке, пересекает ее по красивому мосту с балюстрадами, а затем поворачивает направо и выравнивается, давая возможность получше рассмотреть усадьбу и трепещущую кудрявую дымку деревьев за ней; потом она разветвляется, обтекая с обеих сторон овальную лужайку с великолепной классической скульптурой посередине, изображающей Посейдона с тритонами, и наконец проходит через массивные железные ворота в огороженный передний двор, усыпанный песком.
Взор ваш непременно устремляется вверх, к нагромождению остроконечных щипцов и каннелированных дымовых труб, над которым высоко взмывают шесть башен, увенчанных крытыми свинцом куполами. За строгим холландовским фасадом разбросаны в живописном беспорядке свидетельства минувших эпох: булыжные дорожки между высокими стенами; крытая сводчатая галерея, ведущая в регулярные сады; тюдоровский кирпич вперемежку с гладким тесаным камнем; эркеры и парапеты с бойницами, соседствующие с классическими колоннами и фронтонами. А посреди всего этого – замкнутый средневековый двор, заставленный декоративными урнами и скульптурами, летом напоенный ароматом лаванды и лилий, наполненный эхом птичьего щебета и журчащей воды.
Эвенвуд. Я бродил по его коридорам и залам в своих снах, собирал гравюры и эстампы с его изображением, жадно прочитывал все публикации о нем, вплоть до самых банальных и несущественных – от исторического сочинения Уильяма Кэмдена до брошюрки, изданной в 1825 году предшественником доктора Даунта. На протяжении нескольких лет он был для меня не реальным сооружением из камня, дерева и стекла, доступным осязанию и телесному взору, но призрачной, невыразимо прекрасной обителью грез, подобной громадному халифскому дворцу, столь блистательно описанному мистером Теннисоном. [131]131
[В стихотворении «Воспоминания о „Тысяче и одной ночи“», впервые опубликованном в сборнике под названием «Стихотворения, по преимуществу лирические». (Прим. ред.)]
[Закрыть]
Теперь он раскидывался прямо передо мной, не во сне, но наяву – глубоко врытый фундаментом в землю, по которой ступали мои ноги, омытый дождями многих веков, согретый и озаренный бесчисленными рассветами, воздвигнутый ушедшими поколениями смертных.
Я задохнулся от избытка чувств и едва не расплакался, когда впервые воочию увидел величественное здание, прежде представавшее лишь внутреннему моему оку. А потом, с пронзительным чувством сродни физической боли, я вдруг исполнился уверенности, что видел Эвенвуд раньше – не на картинах и книжных иллюстрациях, не в своих фантазиях, но собственными глазами. «Я уже был здесь когда-то, – сказал я себе. – Я дышал этим воздухом, слышал этот шелест ветра в деревьях и это журчание отдаленной реки». В следующий миг я вдруг снова стал маленьким мальчиком, грезящим о громадном полузамке-полудворце со взмывающими ввысь шпилями и башнями до неба. Но как такое возможно? Да, название поместья связано у меня со смутными воспоминаниями детства, но я решительно не помню, чтобы меня когда-нибудь привозили сюда. Так почему же все здесь кажется мне знакомым?
Словно во сне, ошеломленный столь странным слиянием реального и нереального, я прошел еще немного дальше, и картина передо мной начала меняться. Обозначились тени, где размытые, где четкие; линии проступили резче; шпили и башни вытянулись, обретая изящество очертаний. Залаяла собака, и над лесом дымовых труб закружили крикливые грачи, запорхали белые голуби. Я увидел рыбный пруд, темный и тихий, и две белокаменные беседки рядом. Подойдя еще ближе, я разглядел признаки обыденной человеческой жизни: ухоженные садовые растения; прислоненную к ограде метлу; оконные занавески, колышущиеся на легком ветерке; сизые клубы дыма, выплывающие из труб; оставленное у ворот ведро.
Из опубликованных в «Субботнем обозрении» воспоминаний Даунта мы знаем, что Эвенвуд явился очам юного Феба, словно «великий свет с неба», узренный Павлом. «Мне вдруг показалось, – пишет он, – будто я и не жил доселе».
Я не виню маленького Феба за то, что он испытал такое потрясение при первой встрече с неописуемой красотой Эвенвуда. Ни один человек, имеющий глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, не мог остаться равнодушным к ней. Я почувствовал то же самое, что и он, когда впервые увидел купола и зубчатые стены величественного здания, подернутые летним маревом; и чем лучше я узнавал Эвенвуд, тем сильнее к нему привязывался, и в конечном счете он, даже в мыслях моих, возымел такую власть надо мной, что порой я просто изнемогал от желания прожить там до скончания дней полновластным хозяином.
Если Феб Даунт действительно пережил подобное откровение, впервые увидев Эвенвуд, тогда я от души прощаю его. Списываю все долги, с полным моим благословением. Но если в своих воспоминаниях он написал истинную правду и действительно считал, что «Эвенвуд – рай, предназначенный для меня одного», тогда он заслуживал наказания.
Этот рай предназначался для меня.
Мой чемодан с камерой, штативом и прочим фотографическим оборудованием лежал на тележке в узком дворике, смежном с передним двором. Приставленный ко мне в помощники лакей, некий Джон Хупер, оказался славным, дружелюбным малым, и мы непринужденно болтали о разной всячине, пока вдвоем тащили тележку к первому месту съемок. У меня еще будет случай тайно обратиться к нему за сведениями по ряду вопросов, связанных с Эвенвудом, и он с радостью предоставит мне всю информацию.
Я привез с собой дюжину негативных пластин, приготовленных по способу, недавно изобретенному месье Бланкаром-Эвраром. [132]132
[Луи Бланкар-Эврар (1802–1872) – суконщик из Лилля. Он разработал усовершенствованный вариант калотипного процесса, позволяющий приготавливать бумажные негативы заранее и проявлять их через несколько часов и даже дней после экспозиции. Вдобавок негативы обладали большей светочувствительностью, а потому требовали меньшей выдержки. В 1850 г. Бланкар-Эврар изобрел альбуминную бумагу, которая оставалась главным печатным фотоматериалом до появления желатиновой бумаги в 1890-х гг. (Прим. ред.)]
[Закрыть]Три часа кряду я усердно трудился в твердой уверенности, что лорд Тансор останется доволен результатами моей работы.
Я только-только закончил снимать оранжерею с нескольких ракурсов и проходил через калитку в древней каменной стене, когда чей-то смех заставил меня внезапно остановиться. Передо мной простиралась широкая, коротко подстриженная лужайка, где четыре человека – две дамы и два джентльмена – играли в крокет.
Я бы не обратил на него внимания, не засмейся он. Но едва услышав характерный смех с заключительным фырчком, я сразу понял, кто передо мной.