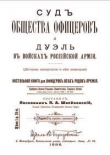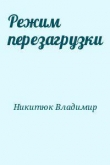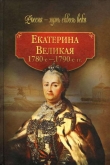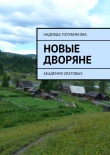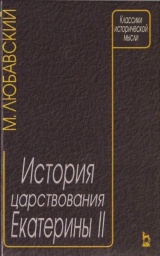
Текст книги "История царствования Екатерины"
Автор книги: Матвей Любавский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Сама Екатерина проявляла колоссальную работоспособность. Она вставала в 5 часов утра и тотчас же принималась за дела. Министры говорили про императрицу, что она работает 15 часов в сутки. Тут ей помогло ее энциклопедическое образование. Стараясь тщательно подбирать лиц, Екатерина думала устранить недостатки: нередко она выступала в роли воспитательницы. Редко у кого из государей исполнение обязанностей связано с таким чувством ответственности; и в то же время Екатерина обладала редким оптимизмом и игрой в свои способности, в свою непогрешимость. Этот оптимизм объясняется отчасти ее собственной крепкой натурой, а отчасти влиянием века. Екатерина вынесла из французской политической литературы идею о всемогуществе законодательной власти, а так как она считала себя умной, то верила, что может дать хорошие un коны. Эти психологические объяснения необходимы для того, чтобы понять вполне деятельность и личность Екатерины.
Тяжела была задача, взятая на себя Екатериной: государство было в крайнем расстройстве, финансы были истощены, армия два месяца не получала жалованья, торговля была в жалком состоянии, ни в чем не было системы, военное ведомство было в долгах, а морское едва влачило свое существование, духовенство было недовольно отнятием земель, заводские и монастырские крестьяне были в открытом непослушании, а к ним готовы были присоединиться и помещичьи, правосудие было дорого, что вызывало всеобщий ропот.
Итак, Екатерине предстояли следующие четыре задачи: 1 ) улучшить финансы,упорядочить хозяйство, 2) решить вопрос о церковных имуществах, 3) умиротворить крестьянское население, 4) упорядочитьи удешевись судебный процесс.
Екатерина сначала стала решать эти вопросы сама, но затем убедилась, что одних этих мер недостаточно и что ей нужно призвать себе на помощь широкое содействие общества. Но прежде, чем дойти до сознания, что без содействия общества ей не обойтись, Екатерина стала действовать при помощи бюрократии.
На первый план выдвигался сам собой вопрос денежный.Екатерина увидела, что получается мало косвенных доходов, что свидетельствует об упадке торговли, и приписала это развитию казенных монополий. Поэтому указом 31 августа 1762 года она разрешила вывозить на продажу за границу хлеб, соленое мясо из всех портов с уплатой половинной пошлины. Этот указ уничтожал также все стеснения при ввозе товаров, тяготевшие над некоторыми портами: это еще Петр I обложил высокой пошлиной товары, идущие через Архангельск, с целью отвлечь торговлю в Петербург. Теперь Екатерина уничтожала эти ограничения, справедливо полагая, что если они и приносят некоторую пользу Петербургу, то в общем причиняют казне зато больший вред. Отданы были в вольную торговлю узкий холст, ревень, шелк, бобровые меха (раньше эти товары составляли монополию казны); уничтожены были откупы на рыбные, бобровые и тюленьи промыслы. Всеми этими мерами Екатерина надеялась оживить торговлю.
В 1763 году Екатерина созвала комиссию «для рассмотрения коммерции государства Российского». Эта комиссия рекомендовала ей уничтожить пошлины с посылок за границу. Екатерина брала на себя инициативу в деле расширения торговли, она вошла участницей в компанию для торговли с Италией и за свой счет снарядила корабль, который в 1764 году прибыл в Ливорно, нагруженный русскими товарами.
Для оживления торгового оборота Екатерина пришла к мысли увеличить само число денег и организовать кредит.В 1763 году на одном из заседаний Сената Екатерина высказала мысль, что в России находится в обращении не более 5 000 000 рублей денег. Уже во времена царя Алексея Михайловича чувствовалась необходимость пополнить количество денежных знаков, так как благородных металлов было мало. Екатерина решила чеканить медные деньги по 16 рублей из пуда. Так и появились большие екатерининские пятачки, попадающиеся еще и теперь.
Ввиду того, что эти деньги были неудобны для торговых оборотов, Екатерина заявила, что желает устроить в разных местах банки,чтобы можно было делать на них переводы и таким путем избавиться от перевозки тяжелых денег. В 1764 году Екатерина велела бить золотую монету 88-й пробы, империалы и полуимпериалы, с тем расчетом, чтобы золотая монета была дороже серебряной в 16 раз. Но кредит было трудно организовать, Екатерина велела, чтобы банки принимали и частные вклады с тем, чтобы выдавать ссуды из них только частным лицам. Эти меры вводились не сразу, а постепенно.
Для удовлетворения текущих потребностей Екатерине пришлось увеличить как прямые, так и косвенные налоги. В 1763 году была увеличена цена вина на 30 копеек с ведра, а пива и меда на 5 копеек с ведра. Но увеличение цены казенного вина вызвало сильное развитие корчемства и сильное сокращение потребления казенного вина. Это зло приняло такие размеры, что с ним стало невозможно бороться. «В корчемстве, – писала Екатерина, – столько виновных, что наказывать их нельзя». Продажа казенного вина происходила двумя способами: оно или отдавалась на откуп, или поручалась городским ратушам. Откупщики так много платили в казну, что самим им приходилось продавать без барыша, поэтому они сами сплошь и рядом покупали и продавали контрабандное вино; что же касается ратуш, то тут, по отзывам современников, происходили «великие подлоги, утайки и тяжбы». Екатерина долго билась над этим вопросом u n конце концов решила созвать комиссию, которая бы указала ей, что делать с вином. Комиссия высказалась за то, чтобы отдать продажу вина на откуп, но не с ведра, как прежде, а оптом с целой местности. Сенат согласился с этим, и 1 августа 1764 года родилась та откупная система, которая существовала около 100 лет вплоть до отмены ее при Александре П. Доход с откупов простирался до 4 000 000 рублей в год, что равнялось пятой части тогдашнего государственного дохода.
Что касается мер увеличения прямыхналогов, то Екатерина позаботилась произвести новую ревизию,так как подати (подушная) собирались по ревизским сказкам. Распоряжение о производстве третьей ревизии было отдано еще Елизаветой, но не было приведено в исполнение. Новая ревизия была сущим бедствием для населения. Не говоря уже о том, что к старым плательщикам присоединялись еще новые, сам процесс производства ревизии для населения был разорителен. Ревизоры прямо обирали и помещиков, и крестьян; от ревизии, как от морового поветрия, народ бежал, преимущественно в Польшу. Ревизоры за взятки или показывали меньшее число жителей, или, если им было дано мало, показывали большее число жителей, а так как подати вносились не каждым отдельным плательщиком за себя, а по раскладке всем миром или помещиком оптом за всех крестьян, то это было разорительно как для крестьян, так и для помещиков.
Ввиду этого Екатерина решила изменить порядок производства ревизии. Она предписала Сенату, чтобы каждое селение через своих помещиков или старост вычисляло наличное число ревизских душ, свою ревизскую сказку пересылало бы в воеводскую канцелярию, воеводская канцелярия пересылала бы губернатору, а губернатор уже в Сенат. В скором времени оказалось, что воеводские канцелярии отказываются принимать без взяток от старост их ревизские сказки; тогда Екатерина предписала отправлять ревизские сказки в воеводские канцелярии по почте. При таком способе переписи, конечно, были утайки, но ведь утайки были и при ревизорах, и поэтому Екатерина решила, что лучше уж пусть происходит так, по крайней мере ревизоры не будут разорять население. Тем не менее были объявлены строгие наказания за утайку ревизских душ. В общем Екатерина не ошиблась в своем расчете; ошиблась она только в расчете на скорость переписи, которая была окончена только к 1 июня 1768 года. Но все же расчет Екатерины оправдался, ибо всех ревизских душ теперь (для 1764 г.) окапалось 7 363 348, тогда как по второй ревизии их значилось всего 6 614 529, то есть плательщиков прибавилось более чем на 700 000.
В связи с вопросами государственного хозяйства выдвинулся вопрос о церковных имениях.Уже Петр III приступил к его разрешению и распорядился все церковные имения взять в Коллегию экономии, которая должна была только часть доходов отдавать на содержание духовенства. По восшествии на престол Екатерины духовенство подало ей челобитную о возврате отобранных у него имений. Сенат обсудил челобитную духовенства и решил вернуть ему отобранные имения, но с церковных и монастырских крестьян, кроме подушной подати, брать еще 1 рубль, из которого 50 копеек шли в казну на содержание инвалидов и 50 копеек на духовенство. Монастырские крестьяне должны были управляться собственными выборными старостами и освобождаться от присуда Коллегии экономии, управлявшей через своих отставных офицеров. Указом 12 августа 1762 года коллегия экономии с ее офицерами была «отставлена», то есть уничтожена. Но мнение Соната о разделении доходов не было принято Екатериной. Духовенство обещало платить государству оптом во все церковные имения 300 000 рублей в год.
Но жадные часто расплачиваются за свою жадность, так случилось и с духовенством. Когда духовенство предлагало этот платеж, Екатерина не знала еще, согласиться или нет. По предложению новгородского митрополита Дмитрия Сеченова была образована комиссия из светских и духовных лиц для сочинения «штатов» духовенству и монастырям. Когда заседала эта комиссия, монастырские крестьяне, не желая принадлежать опять духовенству, сильно взбунтовались. Это было на руку Екатерине, и по ее предначертанию комиссия решила восстановить Коллегию экономии с ее отставными штаб– и обер-офицерами, которые управляли церковными вотчинами и выдавали из собираемых ими денег на содержание архиереев и училищ. Духовенство теперь уже не было в состоянии возражать против этого.
Монастырских крестьян было отобрано в казну до 911 000 душ, не включая сюда губернии Херсонскую, Екатеринославскую, Харьковскую, Курскую и всю Малороссию. Решено было, чтобы каждый бывший церковный крестьянин, кроме подушной подати, платил еще за землю 1 рубль 50 копеек с души, что давало в общем 1 366 299 рублей в год. Из этой суммы 149 500 рублей шли на содержание архиерейских домов, почти 175 000 на содержание 676 мужских монастырей, вошедших в штат, 33 000 – на содержание женских монастырей и т. д. Что касается остальных монастырей, не имевших крестьян, то 161 из них, которые могли жить своими средствами, были оставлены, а остальные упразднены. Каждый архиерейский дом должен был содержать кроме архиерея еще богадельню и духовную семинарию.
Так был решен вопрос о церковных имениях, поставленный на очередь еще в начале XVI века при царе Иване III. Решение его в пользу государства имело крупные последствия. Секуляризация, лишив церковь ее материального обеспечения, лишила ее и самостоятельности и независимости от государства, которое с тех пор получило полное господство и торжество над ней.
Кроме задач упорядочения финансов перед Екатериной стоял грозный крестьянский вопрос.Екатерина говорила потом, что в начале ее царствования в явном возмущении было 49 000 заводских и до 150 000 помещичьих крестьян.
Для усмирения заводских крестьян Екатерина отправила князя Вяземского. В данной ему инструкции Екатерина поручала сначала привести крестьян «в рабское повиновение и послушание», затем сыскать подстрекателей и, наконец, исследовать те злоупотребления, которые привели заводских крестьян к возмущению. Екатерина боялась быть в данном случае справедливой и, чтобы не поднять еще большего возмущения, виновных приказчиков приказывала наказывать нестрого и тайно от крестьян. Усмирив крестьян и сыскав зачинщиков, Вяземский должен был расследовать состояние заводов и узнать, не лучше ли вместо крепостных употреблять рабочих по вольному найму и таким образом предотвратить беспорядки.
Вяземский исполнил данное ему поручение: крестьян усмирил и представил записку, в которой излагал причины их волнений. Эта записка очень любопытна в качестве описания жизни заводских крестьян. Крестьян, вопреки закону, приписывали к заводам не целыми деревнями, а отдельных по выбору, чиня этим им сильное отягчение. Затем, работы на заводе были так велики, что никто не мог выполнить своего урока, не говоря уже о том, чтобы оставалось свободное время. Иногда приписывали крестьян, живших от завода верст за 400, так что они теряли много времени на проход туда. При таком положении дел заводы не приносили прибыли, а крестьяне бедствовали и бунтовали.
Результатом этой записки был указ Берг-коллегии, который предписывал объявить заводчикам, что крестьяне восстали не сами, а послушавшись по простоте своей наущения злоумных людей; но так как крестьяне несли большие отягчения от заводчиков, то и содержатели заводов не могут искать своих убытков. Так, Екатерина оштрафовала заводчиков за отягчение крестьян. Затем заводчикам предлагалось войти в мирное соглашение с крестьянами относительно работы.
Но это были совершенно платонические пожелания. Екатерина сознавала это сама, и в 1765 году была созвана комиссия, чтобы решить вопрос, не лучше ли заводы из партикулярных рук отобрать в казну на ее содержание. В своих записках Екатерина признается, что возмущения заводских крестьян происходили до тех пор, пока крупные заводы не были отобраны в казну и и 1779 году не был издан манифест, таксировавший размеры работы на заводах.
Еще труднее был вопрос о помещичьих крестьянах, которые бунтовали в разных местах России. Усмирять их Екатерина послала Бибикова с солдатами и пушками, который исполнил ее поручение, причем некоторые селения пришлось бомбардировать.
Но все эти меры не были решением крестьянского вопроса. Справедливость требовала, чтобы после манифеста 18 февраля 1762 года, освобождавшего от обязательной службы государству дворян, последовало бы освобождение крестьян от обязательной работы на дворян, службу которых они обеспечивали. Это сознание и подняло крестьянские массы и привело их в волнение. Но государственные основы крепостного права затмились в сознании правительства и высших классов и заменились частно-правовой точкой зрения. Екатерина, обязанная дворянам своим восшествием на престол, не могла отклониться от этого взгляда, и в манифесте, изданном в начале царствования, она прямо заявила, что благосостояние государства требует, чтобы «все при своих имениях и правостях сохраняемы были, и мы намерены помещиков нерушимо во владении сохранять и крестьян им содержать».
Легко сказать, но трудно было выполнить эту программу. Крестьян усмиряли военной силой, а они отвечали на это побегами в Польшу. Эти побеги были так сильны, что встревожили правительство. Одним из побуждений русского правительства произвести раздел Польши, которое разделялось и дворянством, было желание уничтожить ту область, куда укрывались беглые крестьяне. Частные меры, вроде амнистии вернувшимся на родину и даже посылки военных команд в Польшу, не помогали общему положению дел: необходимы былине частные, а общие меры.
Екатерина была озабочена этим вопросом, и вскоре Петр Иванович Панин подал ей доклад, в котором указывал на причины крестьянских побегов и на меры их пресечения. Интересно послушать от дворянина XVIII века, как жилось, на Руси крестьянам. Из России в Польшу бежало много раскольников. Панин объясняет это строгостью корыстолюбивого духовенства. Затем, крестьяне бежали от рекрутских наборов и от привычки продавать крестьян из своих деревень другим помещикам для зачета рекрутов, требуемых с крестьян того помещика. Панин считает возможным добирать лишних рекрутов в другой деревне того же помещика, если в какой-нибудь его деревне не хватает рекрутов, но продавать крестьян другим помещикам для зачета в рекруты Панин считает совершенно недопустимым. Затем он указывал на дурное содержание рекрутов до распределения их по полкам: рекрутов обирали, заставляли работать, оставляли без помещения, так что зимой они целый день проводили на морозе, а ночь в жаре в торговых банях. Панин указывал также на безграничность власти помещиков, роскошь которых заставляет употреблять труд своих крестьян свыше меры. Общие условия жизни также были неблагоприятны: дорогие цены на соль и вино и их монопольная продажа. Много, по Панину, значило и с правосудие, нерадение и лихоимство администрации. Тут уже затрагивался вопрос, полезный не только для одних крестьян.
Для возвращения беглых Панин рекомендовал Екатерине вернувшихся раскольников облагать небольшой подушной податью в 2 рубля 70 копеек; крестьян, вернувшихся из-за границы не возвращать прежнему помещику, с которым они не ужились, а платить ему выкуп в 100 рублей, а крестьян зачислять в казенные, и если возвращались дети или внуки бежавших, то помещики не получали ничего. С деревень и городов, которые лежат не далее 70 верст от границы, Панин предлагал совсем не брать рекрутов, а брать выкуп в 100 рублей на вербовку вольных людей в гусарские полки. Затем надо запретить продажу рекрутов в чужие деревни, а вообще же продажу крестьян разрешить только семьями. Так как много крестьян бежало от рекрутчины, то Панин предлагал издать закон «для приласкания идущих в солдаты и для утешения разлучающихся семей», то есть предлагал гуманное отношение к солдатам. Затем, вследствие того что многие крестьяне бежали по вине помещиков, Панин предлагал сочинить «примерное уложение для работ», но не опубликовывать его, а тайно разослать губернаторам, которые должны были руководиться им при усмирении волнений. И этом «уложении» Панин рекомендовал требовать с крестьян 4 рабочих дня в неделю, считая нормальным рабочим днем, если крестьянин вспашет 1 десятину, скосит три четверти десятины сена или нарубит полторы погонных сажени дров.
Но опять-таки легче было написать, чем исполнить все это. Екатерина увидела всю непрактичность этих мер, поняла, что вопрос лежит глубже, и стала искать новые пути. Об этих путях и о тех применениях, которые она сделала из них, речь будет впереди. Пока же мы остановимся на одной стороне вопроса.
Дело в том, что препятствием к раскрепощению крестьян была незначительность населения.На вольнонаемном труде нельзя было построить ни частного, ни казенного хозяйства, и поэтому правительство поневоле «приписывало» крестьян, а помещики укрепляли их за собой. До чего велика была нужда в крепостном праве видно из того, что даже депутаты торгового сословия а «Комиссии для сочинения проекта Нового Уложения» просили себе права иметь крепостных, мотивируя это тем, что не из кого им нанять надежных приказчиков. Екатерина поняла это и стала заботиться о приращении населения в России.
Екатерина, будучи поклонницей французской просветительной литературы, верила, что в том государстве процветают образование, наука, искусство, торговля и промышленность, в котором много населения. В этой уверенности есть доля правды, так как, действительно, при более густом населении жизнь вообще идет ускоренным темпом. И вот Екатерина указом 15 октября 1762 года велела Сенату принимать в Россию без доклада всех иностранцев, кроме евреев. Так как иностранцы боялись ехать в Россию, опасаясь притеснений, то была устроена особая канцелярия «опекунства иностранцев», президентом которой был назначен Орлов. Иностранцам по желанию позволялось записываться в купцы, в цеховые любых городов или селиться особыми колониями. Они получали гарантию в свободе исполнения своей религии, разрешение строить церкви и держать пасторов и обращать в свою веру магометан. Им запрещалось только строить монастыри (это относилось к католикам) и совращать православных. Колонисты получали льготы на 20 лет, а поселившиеся в городах – лет на 5-10; каждый из них по прожитии 10 лет три года получал денежное вспомоществование. Все колонии получали самоуправление.
Так было положено начало иноземной колонизации Поволжья и южных степей, если не считать иностранной колонизации, которую производила в военных целях Екатерина, поселяя на пограничных линиях сербов.
Предоставляя льготы иноземцам, Екатерина имела в виду не только одно численное увеличение населения, но и культурное влияние их на русских. Но эта надежда ее не оправдалась: иностранцы до самого последнего времени жили особняком, не сообщаясь с остальным населением.
В интересах гуманности Екатерина заботилась и о «зазорных детях», то есть о незаконнорожденных. В 1763 году Екатерина утвердила план генерального Императорского Воспитательного дома, который через год и был открыт в Москве, а несколько позже и в Петербурге.
Панин указывал на страшное неправосудие и нерадение администрации. На это зло указала и императрица в своем манифесте от 18 июля 1762 года. «Ищет ли кто, – писала она, – защиты от клеветы, он обороняется деньгами, клевещет ли кто, он действует тоже ими… Судьи свое священное место в торжище превратили. Звание судьи почитают данным для доходов на дом, а не за службу Богу, государю и отечеству… Берут не только за беззаконные дела, но и за те, за кои монаршее благоволение следует». Екатерина была очень расстроена, узнав, что новгородский губернский регистратор Яков Ренберг брал деньги за привод к присяге на верность ей.
Господствующее лихоимство Екатерина объясняет том, что на должности назначают людей без разбора, и тех, которые не имеют пропитания, отсылают к делам, а денег им не платят.
Действительно, после Петра I у нас водворилась еще более откровенная система кормлений, чем в былое время в Московской Руси, где дьяки, подьячие и разные приказные люди какое-никакое, но все же получали денежное жалованье, а после Петра люди определялись на должности совершенно без жалованья с тем, чтобы они кормились от дел. 15 декабря 1763 года Екатерина издала манифест о назначении жалованья чиновникам по штату, служащим не только в столице, но и в провинции. Этот манифест был крупным шагом вперед в деле государственного управления. Последовательность требовала и назначения пенсий, что и было сделано: за 30 лет службы была назначена пенсия.
Кроме лихоимства чиновническое управление страдало от их полной индифферентности: подчиненные органы не проявляли никакой инициативы. Это объясняется отчасти тем террором, который был наведен на чиновников в царствование Петра I: чиновники во избежание ответственности или даже просто объяснений ничего не делали по собственному почину, исполняли только то, что приказывало начальство.
Такую индифферентность Екатерина склонна была объяснять тем, что Сенат лишил подчиненные органы инициативы. Но дело заключается не только в этом. Еще в Московском государстве подчиненные органы были исполнителями приказаний свыше: централизация – это давнишний злой факт русской жизни. Екатерина считала централизацию крупным недостатком и старалась противодействовать ему.
В 1764 году она издала инструкцию губернаторам, объясняющую им их права и обязанности. Здесь Екатерина объясняет, что губернатор – это хозяин губернии, ответственный за нее перед государем, который должен заботиться о населении вверенной ему губернии, о процветании в ней земледелия, торговли и промышленности, о размножении производимых здесь продуктов, должен следить за дорогами, ловить воров и разбойников, заботиться о сохранении лесов и т. д. Всех чиновников, обвиненных в лихоимстве, он должен отстранять без суда. В экстренных случаях, на пожаре, при наводнении или во время народного мятежа, губернатор должен принять на себя главное начальство над всеми. Все учреждения, до сих пор не подчиненные губернской канцелярии, переходят в ведение губернатора. Как «опекун» губернии губернатор имеет право представлять о пользах и нуждах общественных и должен защищать бедных. Эти взгляды Екатерина воплотила потом в «Учреждении об управлении губерний»: инструкция 1764 года была теоретической прелюдией закона 1775 года.
К числу мероприятий, предпринятых Екатериной до созыва комиссии 1767 года, относится реформа управления Малороссией. Екатерина слышала о нестроении гетманского управления Малороссии и поручила Тяглову написать доклад. Тяглов, бывший в Малороссии, представил Екатерине записку о беспорядках. По его словам, Малороссия управлялась не законом, а силой и кредитом старшин. Благодаря этому число свободных казаков и посполитых уменьшалось, а число крепостных – увеличивалось. По ревизии, произведенной после смерти гетмана Скоропадского, числилось 45 000 дворов свободных казаков и посполитых, а при Разумовском число их сократилось до 4000, то есть уменьшилось раз в 11. Происходило это так потому, что свободные земледельцы – казаки и посполитые, желая избежать тягостей военной службы, продавали свои земли казацким старшинам, а сами становились по отношению к ним в положение арендаторов, подсуседков, которые военной службы не несли, а платили подать 2 копейки или алтын: это и соблазняло казаков и посполитых бросить свои земли. Тяглов говорит, что переход крестьян очень разорителен для бедных помещиков и вреден для крестьян, которые, таскаясь от помещика к помещику, приучились к лени и безделью.
По докладу Тяглова Екатерина издала указ об учреждении Малороссийской коллегиивместо бывшей ранее гетманской власти. Президентом этой коллегии был назначен Румянцев, а членами – 4 великорусских чиновника и 4 малороссийских старшины. Румянцеву была дана инструкция, чтобы он составил подробную карту Малороссии, чертежи и планы разных городов, чтобы он заботился о процветании земледелия, о сохранении лесов, разведении табака и других полезных растений и т. п. Кроме того, ему поручалось помогать архиереям, но в то же время наблюдать за ними, чтобы они не присваивали себе власти сверх своего сана и не вмешивались бы не в свои дела, что они любят делать по корыстолюбию своему.
Результатом выполнения этой инструкции явилась так называемая Румянцевская опись Малороссии, богатый материал, который в настоящее время исследуется учеными.
Все эти мероприятия Екатерины не были радикальным разрешением вопросов, поставленных на очередь русской жизнью. Екатерина сознавала это и, желая ближе ознакомиться с положением дел в своей стране, предпринимала путешествия. Так, в 1763 году она ездила из Москвы в Ростов и Ярославль, в 1764 – из Петербурга в Малороссию, а в 1767 году – по Волге вплоть до Симбирска.
Эти путешествия не могли дать ей полного понятия о России. Более пользы принесла ей созданная ею «Комиссия для составления проекта Нового Уложения». К рассмотрению этого наиболее замечательного учреждения Екатерины мы теперь и обратимся.
В своих записках 1779 года Екатерина говорит, что в первые годы своего царствования из разных прошений, сенатских и коллежских дел, из рассуждений сенаторов она усмотрела «неединообраэные о единой вещи суждения и правила», также усмотрела, что законы, изданные в разное время, противоречат друг другу, и задалась целью привести законодательство в лучший порядок.
Действительно, трудно представить себе что-либо более хаотичное, чем русское законодательство того времени. В него входило и Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года, и новоуказные статьи, и Петровские регламенты, и указы, которые изменяли их, и новые указы Сената, Верховного Тайного Совета и т. д. Все эти указы отменяли один другой, не были собраны воедино и вообще не были известны правительственным органам, кроме немногих старых подьячих, которые из своей монополии знания всех законов извлекали большую выгоду.
Хаотичное состояние законов заботило и предшественников Екатерины, но их попытки улучшить положение остались без результата или имели очень слабый успех.
В 1700 г. Петр учредил палату для исправления Уложения, в состав которой вошли бояре, окольничие, дьяки, всего 71 человек. Эта палата должна была написать «Новоуложенную книгу», то есть свести Уложение 1649 года с новоуказными статьями. Палата исполнила возложенное на нее поручение, но «Новоуложенная книга» явилась чисто механическим сводом статей Уложения с новыми, между которыми часто не было согласия: рядом со статьями, расположенными, в системе, стояли статьи совсем без нее. Познакомившись с «Новоуложенной книгой», Петр велел, чтобы судьи судили по старому Уложению, а из новых указов пользовались лишь теми, которые «не в перемену, а в развитие и дополнение старых статей изданы». Это еще более затрудняло дело. Не надеясь на исполнение, Петр приказал Сенату озаботиться собранием статей, изданных в дополнение к Уложению, и присоединить их к ному, то есть составить новый кодекс законов. Сенат, не желая заниматься этим делом сам, выделил из себя особую комиссию. Петр велел составить новый кодекс к 1720 году, но к этому времени комиссия успела дополнить лишь 10 глав.
Скучая в ожидании русских законов, Петр решил заменить «Новоуложенную книгу» иноземным кодексом, исправив его и приспособив для русской жизни. Но откуда взять иноземные законы? Наиболее подходящими Петру казались шведские законы. Тогда была создана новая комиссия, в которую вошли 3 иностранца и 5 русских. Комиссия эта работала до конца 1725 года, но исправила всего 4 книги Уложения. Большинство членов комиссии со временем выбыло, так что Екатерине пришлось пополнить ее 2 духовными, 2 военными особами, 2 гражданскими чиновниками и 2 из главного магистрата. Но прибавка новых членов не помогала, так как дол о само по себе очень несуразное: русские люди должны были разбирать иностранные законы, в которых ничего не понимали, так как не знали ни языка, ни строя иностранных государств, которые им приходилось теперь изучать. Из их работы ничего не вышло.
Отчаявшись в возможности сделать что-либо при помощи чиновников, правительство решило обратиться к обществу. В мае 1728 года Верховный Тайный Совет указал Сенату организовать новую комиссию для сочинения Уложения, для чего выслать из офицеров и дворян каждой губернии (кроме Эстляндии, Лифляндии и Сибири) по 5 человек, которые должны собраться в Москве к 1 сентября 1728 года. Но дворяне не спешили выбирать, а выборные не спешили ехать в Москву. Все смотрели на это дело как на новую тяжелую повинность, как на прихоть правительства. Местное начальство для поощрения выборов должно было прибегнуть к репрессивным мерам: чтобы дворяне охотнее выбирали и чтобы выборные скорее ехали в Москву, губернаторы стали арестовывать их жен и захватывать их крепостных. В результате были выбраны не пригодные к делу лица: дворяне послали тех, кто не мог отбояриться. Когда эти выборные собрались, то правительство поспешило распустить их по домам и предписало произвести новые выборы под ответственностью губернаторов.