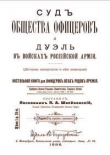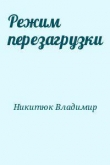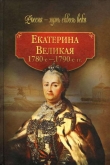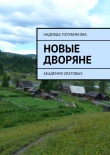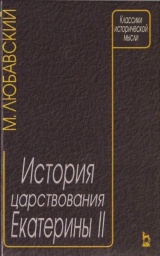
Текст книги "История царствования Екатерины"
Автор книги: Матвей Любавский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Но Екатерина предчувствовала, что всех этих принимаемых ею мер будет мало, и поэтому она поставила вопрос об открытии, целой сети училищ „низших“, „средних“ и „верховных“, то есть начальных училищ, гимназий и университетов. Поняв огромное значение заведения училищ, Екатерина велела учредить при комиссии для составления проекта Нового Уложения особую частную комиссию, чтобы она занялась вопросом об учреждении училищ. Эта комиссия выработала проекты о нижних деревенских, нижних городских и средних городских школах. На этом проекте остановимся подробнее.
Комиссия предложила, по примеру Пруссии, ввести обязательное обучениев деревнях мальчиков, а в городах и мальчиков, и девочек. С этой целью она предложила основывать школы в каждом селе и в каждой деревне, с тем расчетом, чтобы на каждые 100–250 семей приходилось по школе. Постоянное содержание этих училищ проект возлагал на прихожан, а чтобы обучение стоило дешевле, оно поручалось по проекту духовенству за особую плату. Поп должен получать три четверти ржи и 2 рубля, а дьяконы и дьячки по 4 рубля (дьяконы и дьячки получали больше, потому что собственно они вели преподавание, а священнику предоставлялся только высший надзор). Учение должно происходить по составленным Синодом руководствам. В круг обучения в низших школах входили: церковная и гражданская азбука, некоторые молитвы, краткий катехизис и изложение обязанностей крестьянина или горожанина. Крестьянские мальчики должны обязательнообучаться чтению, а письму, если только пожелают; в городах обучение обязательнос семилетнего возраста не только мальчикам, но и девочкам; мальчики обязательно обучаются и чтению, и письму, а девочки обязательно только чтению, обучение письму для них необязательно. Комиссия предлагали также штрафовать тех родителей, которые не будут посылать своих детей учиться, налагать штрафы на те общества, которые не будут платить на содержание училищ, и наказывать помещиков, которые будут препятствовать своим крестьянам отдавать детей.
Заведование низшими городскими школами поручалось губернаторам совместно с архиереями, заведование низшими сельскими школами – архиерею и дворянам, которые должны выбрать от себя депутата, чтобы он по крайней мере один раз в два месяца посещал школы, присутствовал на экзаменах, наблюдал за учителями и смирял их и т. п. Таким образом, проект училищной комиссии выдвинул план постройки церковноприходских школ,которые усиленно вводились в жизнь при Александре III.
Что же касается средних школ,то комиссия предлагала установить единственный тип их – гимназии. Средняя школа должна быть единоначальной, светской и духовной одновременно; в эти гимназии комиссия предлагала обратить все существовавшие уже духовные семинарии. При таких задачах средняя школа и управляться должна светскими и духовными властями – архиереем и губернатором; во главе ее должны стоять дваректора – один духовный, архимандрит или игумен, по назначению Синода, а другой светский по назначению университета.
Курс этих гимназий-семинарий должен быть чрезвычайно многопредметен. В него входили: латинский, греческий, французский, немецкий языки, философия, метафизика, архитектура, геодезия, космография, геометрия, политика, история, юриспруденция и т. д. Но так как научить все эти предметы было нельзя, то ученикам предоставлялось право выбрать себе из них несколько для специального изучения, то есть устанавливалась предметная система с группами.
Гимназии эти должны были быть закрытыми, учеников отпускали домой лишь на каникулы, рассчитаны они были на 120 казеннокоштных учеников. В гимназии принимались дети как дворян, так и разночинцев, но дети дворян должны были по возможности отделяться от детей разночинцев как в помещении, так и в столе.
Таков был план народного образования, выработанный в частной комиссии об училищах.
Академия наук предложила учредить „особое правительство“ для заведования высшим, средним и низшим образованием. Это правительство из 9 лиц, подчиненное непосредственно государю, должно было выработать общий план обучения и отдельные уставы. Этот проект заслуживает нашего внимания: народилась идея особого центрального ведомства народного просвещения.Эта идея нашла себе первоначальное осуществление в царствование Екатерины, а затем окончательное при Александре I“ когда было учреждено Министерство народного просвещения.
Екатерина не нашла возможным ввести всеобщее обучение и не приняла проект. Дело учреждения училищ было возложено ею на приказ общественного призрения. По „Учреждению о губерниях“ 1775 года предписано было открывать школы не только в городах, но и в селах, учиться могли желающие,без всякого принуждения. За учение полагалась умеренная плата, от которой бедные освобождались совсем. Курс этих школ состоял из обучения чтению, письму, арифметике, рисованию и основам катехизиса. Екатерина даже в общем плане дала ряд наставлений учителям: телесные наказания запрещались совсем, рекомендовались упражнения на свежем воздухе и т. п.
Все эти постановления остались мертвой буквой, да и не могли не остаться ею. Приказы общественного призрения не имели средств для оборудования и содержания училищ. Правда, им было дано по 16 000 рублей, но этот капитал был только фондом, на проценты с которого должны были содержаться училища. Приказы общественного призрения и стали заботиться о приращении процентов, но так увлеклись этой ссудной деятельностью, что забыли, что проценты должны расходоваться на школы; они их только копили и расширяли свои ссудные операции, давая деньги под залог имений. Но главным препятствием было полное отсутствие учителей и руководства, то есть перед Екатериной стояла задача создать и тех, и других. Екатерина не остановилась перед этой задачей, и за то многое, что она сделала, мы должны быть благодарны ей, так как она, можно сказать, почти и а ничего положила основание русскому школьному образованию.
Итак, Екатерина заботу о постройке новых училищ возложила на Приказ общественного призрения, который должен был иметь попечение о школах. Но это, как мы уже видели, было очень непрактично: приказы общественного призрения занимались ссудными операциями и не строили школ на получаемые проценты; правда, они должны были привлекать частные пожертвования, но из этого выходило очень мало пользы. Главным препятствием было то, что не было учителей.
Заботясь о приискании учителей, Екатерина вела переписку с Гриммом и другими западными учеными. Но на верный путь она стала только в 1767 года, когда свиделась в Могилеве с австрийским императором Иосифом II, который рассказал ей, как поставлено дело народного образования в Австрии. Там преподавание велось по методу, выработанному в Пруссии настоятелем августинского Сатанского монастыря Фельбингером. И Австрии школы вводились этим самым Фельбингером, который был выписан для этой цели Марией Терезией. Екатерина захотела ввести в России такую систему обучения, которая уже была в Австрии. Иосиф II выбрал для нее подходящего человека – серба, православного, знавшего русский язык – Янковича де Мириево,который был директором народных училищ. Этот Янкович и мнился у нас творцом общеобразовательной русской школы: он сделал так много, что все, сделанное до него, кажется только обрывками.
Янкович в 1782 году приехал в Россию, и тогда же была образована „Комиссия об учреждении народных училищ“под председательством Завадовского. Янкович был дан и в распоряжение этой комиссии; ему было поручено составить „общий план народных училищ“, что он и исполнил, и 21 сентября 1782 года этот план получил санкцию Екатерины. Свой окончательный вид этот план получил в „Уставах народных училищ“ 1786 года.
Этот план предлагал три вида начальных школ: двухклассные малые, трехклассные средние и четырехклассные главные. Двухклассные школы предполагалось строить в селах, трехклассные в городах и четырехклассные в губернских городах. Все преподавание разделялось концентрически, так что программа каждого класса представляла из себя нечто целое и повторялась в следующем классе, только в большем размере.
В малых школахв I классе преподавалось чтение, письмо, цифры, катехизис, грамматика; во II классе предметы были те же, но катехизис подробнее, хотя и без текстов, вместо цифр уже начала арифметики, затем чистописание, рисование и „книга о должностях человека и гражданина“.
Средняя школасостояла из тех же двух классов и кроме них еще третьего, в котором преподавались те же предметы, но катехизис уже с текстами, затем история и география России.
В главных народных школахк трем предыдущим классам присоединялся еще четвертый, в котором география и история проходились подробнее, грамматика – не только орфография, но и правила сочинения, основы геометрии, естественной истории, начала физики и архитектуры.
Вот какой план был спроектирован комиссией об учреждении народных училищ.
Этот план не получил полного осуществления. Екатерина нашла непрактичным устраивать высшие, средние и низшие школы и решила основывать только низшие и высшие школы, причем в программу последних был включен еще латинский язык, так как предполагалось, что из них ученики пойдут в университет; таким образом, школы в губернских городах сделались предшественниками гимназий.
Цель этих учебных заведений была создать нравственного человека и доброго гражданина. Янкович в своих инструкциях требовал от учителей, чтобы они приходили в класс не для одного только задавания уроков или выспрашивания отдельных учеников, а для того, чтобы ученики усвоилиурок; для этого он должен спрашивать всех учеников.
Янкович рекомендовал даже ряд приемов занятий в классе для лучшего усвоения учениками уроков: например, учитель читает ученикам, за ним повторяет один ученик, а потом все хором; или же учитель, прочитав что-либо, пишет на доске одни заглавные буквы прочитанных им слов, а ученики догадываются, как будет далее. Это не Бог знает, какого достоинства метод, но для того времени это было крупное улучшение. В некоторых случаях Янкович рекомендовал заставлять учеников пересказывать своими словами, вообще же он советовал чаще прибегать к наглядномуобучению и индивидуализировать учеников: тех, кто имеет хорошую память, но плохо соображает, надо заставлять рассказывать своими словами, приводить свои примеры; тупым детям надо всячески облегчать учение и не обращаться с ними строго. Теперь эти наставления опять-таки представляют из себя труизмы, а тогда, в конце XVIII века, когда педагогическая практика была совершенно иная, это было новостью. Мягкость, гуманное обращение с учениками были обязательны для учителей; телесные наказания совершенно исключались, потому что „нельзя детей растить, как скот“. Для поддержания дисциплины в классе достаточно увещаний, предостережения и лишения приятного. В этих инструкциях были разработаны все детали, все предвиделось наперед.
Но одних инструкций было мало: надобны были еще учителя и учебники.Заготовкой и тех и других занялась комиссия.
Прежде всего комиссия обратила свое внимание на семинаристов.Семинаристы у нас на Руси всегда служили и служат затычкой; их употребляют всегда в тех случаях, когда надо что-нибудь изготовить наспех. Янкович обратился к семинаристам, и в четыре месяца были подготовлены учителя для первых семи училищ. В первые четыре года было открыто до 70 малых училищ. Для того чтобы готовить учителей, в Петербурге было учреждено Главное народное училище, сделавшееся учительской семинарией. В нее набирали учеников из семинарий, из Славяно-греко-латинской академии, всего 100 человек. К 1786 году был уже подготовлен первый выпуск учителей, из которых половина получила праве быть преподавателями в главных училищах, а другая половина – в малых. Таким образом, оказалась возможность открыть училища в 26 губерниях,а затем главные народные училища были открыты еще в 14 губерниях.
Одновременно с этим печатались учебникии другие учебные пособия. Ко времени открытия училищ было уже напечатано 27 учебников, большей частью переведенных с немецкого, но некоторые из них, как, например, „Книга о должностях человека и гражданина“, были самостоятельным произведением. Эта книга интересна я том отношении, что она показывает новую точку зрения Екатерины на школьную науку. Екатерина отступилась теперь от своей первоначальной мысли, что наука ничего не может дать для облагораживания человека; теперь она заботливо стала следить за составлением новых учебников – в этом видна несомненная эволюция.
С открытием в 1786 году главных народных училищ потеряла смысл „Комиссия об учреждениинародных училищ“.
Тогда она была преобразована в Главное правительство училищ,родоначальник современного Министерства народного просвещения.
Это Главное правительство училищ было непосредственно подчинено императрице.
Местным управлением в каждой губернии ведали губернатор и Приказ общественного призрения. Губернатор должен был заботиться об устроении по городам училищ и ободрять учащих и учащихся. Приказ общественного призрения должен был изыскивать средства и помещения для училищ, подыскивать учителей и заготавливать учебники. Заведование учебным делом было поручено директорам народных училищ,которых должно быть по одному на губернию. Директор должен наблюдать, чтобы никто не попадал в учителя без надлежащего экзамена и диплома, должен присутствовать на экзаменах и посещать уездные училища по крайней мере один раз в год. В уездных городах для наблюдения за училищами избирались попечители, или, как тогда называли, „смотрители“, должность вроде инспекторов. Нынешняя организация во многом ведет начало от времен Екатерины.
Так были устроены начала народного образования. Обучение было бесплатное, при этом учителям на всякий случай внушалось, чтобы они не пренебрегали детьми бедных родителей. Главное правительство училищ имело право командировать членов для осмотра, ревизии училищ.
Положение о народных училищах принадлежит к числу замечательных актов Екатерины: им было положено начало широкому народному образованию в России. Петровские цифирные школы не были удачны, и они не привились, после них появлялись лишь сословные школы, да и то лишь в Петербурге, а в провинции были только бестолковые духовные училища. При таком положении дел законодательство о народном обучении, обдуманное и проверенное опытом других стран, явилось важным и крупным шагом вперед. В основе его лежала продуманная система, с мельчайшими подробностями было объяснено и распределено решительно все, не только предметы, подлежащие изучению, но и часы занятий, жалованье учителям, администрация и даже помещения. В нашей истории можно найти немало примеров, когда законы оставались только на бумаге. Законодательство об училищах не было бесплодным, так как яму предшествовали энергичные меры, например, были напечатаны руководства, то есть было сделано именно то, чего недоставало петровским школам.
Но местные органы управления народным образованием не были вполне на высоте своей задачи: губернаторы были завалены текущей работой, а Приказы общественного призрения стали ведать только хозяйственные дола. Попечители, „смотрители“, были нередко людьми невежественными, которые часто не только не содействовали делу образования, но даже тормозили его. В этом отношении обессмертил себя один козловский купец, смотритель, который докладывал начальству, что „все училища вредны и оные полезно было бы повсеместно закрыть“.
Самой слабой стороной народного образования было то, что на него не было отпущено достаточных средств.Когда Екатерина давала 15 000 рублей в качестве фонда в Приказы общественного призрения, то она рассчитывала, что Приказы будут привлекать общественные пожертвования.На первых порах на училища поступило довольно много пожертвований. В Архангельске крестьянин Степанов пожертвовал под школу дом; жертвователи находились и в других городах – в Новгороде, в Петербурге и других, большей частью жертвовались помещения для школ. Благодаря этому в уездных городах открылось довольно много училищ.
Но, как это всегда бывает в России, первый порыв остыл, и городские думы стали тяготиться содержанием училищ и не только не стали строить новые помещения, но и просили закрыть старые. В 1786 году обыватели Лебедяни, Спасска (города Тамбовской губернии) подали губернатору просьбу освободить их от несения повинности на училища, мотивируя ее следующим образом: „Понеже купецких и мещанских детей в школах не состоит, и впредь отдавать их туда мы не намерены, того ради, что пользы в сем не видим“.
Вследствие всех этих причинам училища влачили жалкое существование. Учителя прямо бежали от своих должностей, так как полагавшееся им грошовое жалованье часто платили не вовремя или же не доплачивали; те же, кто оставался, то прямо спивались от горя, так как приходилось побираться, для того чтобы не умереть с голоду. При таких условиях не было места идеальным методам, и дело шло по-старому: учителя продолжали выспрашивать учеников, а ученики долбили уроки.
Но как бы то ни было, делу народного образования при Екатерине было положено серьезное начало. К концу царствования Екатерины во всей России числилось 316 народных училищ с 744 учащими 14 341 учащимися. Преемникам Екатерины пришлось только совершенствовать начатое ею дело, а не созидать его заново.
Мы познакомились с попытками, которые предпринимались в царствование Екатерины для решения крестьянского вопроса.Они не привели к полному разрешению вопроса, но не были и безрезультатными: крестьянский вопрос получил широкую теоретическую разработку, был поставлен на очередь в литературе, так что XIX век в разрешении крестьянского вопроса шел уже по проложенному пути, дополняя его новыми деталями.
Затем мы рассмотрели то, что предпринималось для народного просвещения.Первоначальный широкий план нибыл осуществлен, но раз и навсегда было установлено, что народное просвещение есть такая же государственная задача, как, например, оборона страны. При Екатерине возник и особый орган государственного попечительства о народном образовании: при ней по всей России была раскинута сеть народных училищ, которые должны служить для просвещения широких кругов.
При Екатерине была поставлена на очередь и та задача, которая с трудом разрешается теперь: я разумею попытки и желания ограничения самодержавной власти через определенные конституционные формы.
Еще в начале своего царствования в манифесте от 6 июля 1762 года Екатерина писала: „Наиторжественнейше обещаемНашим императорским словом узаконить такие государственные установления,по которым бы правительство любезного Нашего отечества в своей силе и прилежащих границахтечение имеет“. Как ни туманен смысл этой фразы, в ней нельзя не видеть обещания ограничитьдействовавшую тогда самодержавную власть on конными учреждениями.
По всем данным, это обещание вырвалось у Екатерины п од давлением обстоятельств.Возможно, что на нее действовал в этом направлении Никита Иванович Панин. Н. И. Панин с Е. Р. Дашковой и еще целый круг дворян замышляли ограничение самодержавной власти. По словам Ривьера, это намерение ограничить самодержавную императорскую власть привлекло к себе много сторонников. Княгиня Дашкова в своих „записках“ рассказывает, что раз, во время разговора с ней, H. И. Панин сказал, что недурно было бы новое правительство устроить на началах шведской монархии. В сущности говоря, ограничение власти было необходимо Панину, так как он работал для переворота, но не в пользу Екатерины, а в пользу малолетнего Павла; Екатерина, по его мнению, должна была бы стать только регентшей: поэтому-то и являлась необходимость подумать, как бы оградить регентшу каким-нибудь постоянным учреждением.
Через несколько месяцев после вступления на престол Екатерины Панин подал ей уже известный нам проект, выработанный им на началах шведской монархии. Как бы выполняя свою программу, Панин предлагал учредить совещательное учреждение – Императорский Совет.Все законы обязательно должны проходить через этот Совет, сепаратные распоряжения государя не должны уже иметь места.
Императорский Совет Панин определял как то учреждение, в котором и через которое действует императорская власть. Припомним судьбу этого проекта: Екатерина, распознав, что значит, что если ее указы не могут миновать Императорского Совета, отступилась от своей первоначальной точки зрения и надорвала уже подписанный ею манифест.
После этого Екатерина на некоторое время сосредоточилась на мысли оградить и упрочить самодержавную власть,В секретной инструкции генерал-прокурору князю Вяземскому Екатерина писала, что, „хотя некоторым воспоминание о недавних событиях и приятно, но, пока я живу, я все оставлю по-старому. Российская империя есть страна столь обширная, что всякая иная власть кроме самодержавной ей вредна“.
Такова точка зрения Екатерины приблизительно около 1764 года. Те же мысли она развивала и в Наказе. Тут она находила поддержку у Монтескье, который считал неограниченную монархию самой подходящей формой правления для страны с редким населением и обширной территорией.
Хотя Екатерина и решилась поддерживать самодержавную власть, она, тем не менее, получала внушения о граничить самодержавиеи делала в этом направлении некоторые шаги.
Такое внушение сделал ей Дидро, советовавший снова созвать распущенную комиссию для составления Нового Уложения и сделать ее постояннымучреждением, то есть преобразовать ее в Государственную думу. Дидро исходил из того, что хорошие монархи, как Екатерина II или Петр I, редки, а более бывают монархи плохие, да, ни конец, и хорошие монархи могут испортиться, так что необходимо принять меры к ограждению нации от их произвола. Недостаточно только созватьнацию, чтобы составить законы. Законы есть только записанное право, а за ними ведь стоит физическое существо, которое говорит и действует: этим физическим существом и должна быть комиссия. Дидро полагал, что от самой Екатерины зависит, какую часть своих прав и прерогатив уступить комиссии, „но раз отчужденные ей права необходимо оградить от произвола: пусть Комиссия не вмешивается в политику, но пусть ей будет дано право писать новые законы и право петиций“.
Вот что предлагал Екатерине Дидро.
И дома находились люди, которые предлагали Екатерине ввести народное представительство в России. Тут на первый план нужно поставить профессора Дилътея,того самого, который одно время представлял собой весь юридический факультет Московского университета. Собрание народных представителей, по Дильтею, должно охранять основные законы от нарушения их монархом; я случае, если монарх нарушит основные законы, то народные представители имеют право низложить и судить монарха. Это писалось тогда вполне открыто и было издано.
В 1773 году вновь выступил с конституционным проектомНикита Иванович Панин.Панин предлагал внести политическую свободу,но только для одних дворян.Панин предлагал учредить Верховный Сенат,причем часть его членов должна быть назначаема и несменяема, но большая часть должна быть выборной от дворянства. Синод входит в состав общего собрания Семита. Для дворянских собраний, уездных и городских, Панин требовал права совещаться о местных и государственных пользах, предлагать высшей власти о своих пользах и вносить проекты новых законов. Сенатдолжен быть облечен законодательнойвластью, а император – исполнительной.
По некоторым известиям, этот проект явился будто бы плодом заговора, составленного Н. И. и П. И. Паниными, княгиней Дашковой и некоторыми из вельмож и гвардейских офицеров. Заговор этот имел целью низложить Екатерину и возвести на престол Павла; говорят, что будто бы Павел знал о предстоящем перевороте и о готовящейся конституции и присягнул не нарушать законы и конституцию.
Но у нас есть также такие известия, более достоверные, которые утверждают, что мнение, будто бы этот конституционный проект составлен для Павла, является домыслом. Есть данные, что около того времени Екатерина сама думала об изменении самодержавного строя,так что этот конституционный проект, очень может быть, Панин составил для нее. Данные эти следующие: в 1773 году была напечатана в русском переводе книга Мабли „Наблюдение над историей Греции“, снабженная Радищевым примечаниями. В этих примечаниях Радищев выступил резким противником самодержавной власти.
Например, он писал: „Самодержавие есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние“. Эта книга была издана на средства самой Екатерины: значит, у нее самой были намерения ограничить самодержавную власть и их она хотела пропагандировать. Радищев далеко шел в своих примечаниях: „Неправосудие государя дает народу над ним право, какое дает ему (то есть народу) закон над преступником“. Таким образом, мы видим, что в книге, изданной самой Екатериной, проводилась мысль об отмене самодержавной власти и об ее ограничении.
Надо полагать, что проект Панина был знакомЕкатерине. Мнения, высказанные в нем, отразились на Учреждении о губерниях 1775 года и на Жалованной грамоте дворянству 1785 года, ведь и тут, и там дворянству дается и подтверждается право совещаться о своих пользах и нуждах и подавать петиции.
Наконец, от 1775 года у нас сохранилось известие о разговоре Екатерины с московским главнокомандующим князем Волконским. Говоря ему о преобразованиях, которые в ближайшем будущем намечаются в государственных учреждениях, Екатерина сказала: „Сенат останется, при нем будет Палата,дабы Сенат мог совещаться с нею о законах. В Палату войдет Комиссия об Уложении“.
И долго еще Екатерина лелеяла мысль о переустройстве высшего управления в России. Накануне второй турецкой войны в 1787 году ею был заготовлен проект, о сенатской реформе.Текст его неизвестен, но содержание его сохранилось в записках князя Безбородко от 1799 года. По этим запискам власть Сената была следующая: все собрание департаментов Сената под председательством канцлера юстиции составляет „надзирание прав государственных“. Когда издаются новые законы, то проекты их, прежде всего, поступают на рассмотрение собрания всего Сената, а затем уже утверждаются самодержавной властью. Вот еще в каком году бродила в голове Екатерины мысль об устройстве в России народного представительства.
Но в 1788 годуначалась вторая турецкая война, и мысли Екатерины отвлеклись от реформ внутреннего управления. Секретарь Храповицкий в своем дневнике отметил следующие слова Екатерины: „Не время теперь делать реформы“. Не время было тем более, что тогда начиналась Французская революция,и Екатерину стал волновать вопрос, подпишет ли Людовик XVI предъявленную ему конституцию.
Подписание королем этой конституции привело к разрыву России с Францией. Екатерина, хотя и желала дать конституцию, была решительно против нее, когда она требовалась.Вот почему Екатерина разгневалась и на Радищева за его „Путешествие из Петербурга и Москву“, где он написал, в сущности говоря, то же, что и раньше, но только в решительном и требовательном тоне.
Такой же каре подвергся в 1789 году Княжнин,который написал тогда драму „Вадим Новгородский“. Здесь восхвалялась политическая свобода славян, а Рюрик, основатель династии, обрисовывался как узурпатор.
Конституционные идеи, насажденные в русском обществе самой Екатериной, с наибольшей яркостью расцвели в то время, когда во Франции начиналась революция. Священник Самосский, бывший при дворе Екатерины, писал в конце 80-х годов: „„Вольноглаголание о власти самодержавней стало всеобщим“ все восхваляют французов, что предвещает кровопролитие“. В мемуарах Сегюра сообщается, что взятие Бастилиивызвало взрыв радостине только среди французов, но и среди либерального русскогообщества. Прохожие посредине улиц обнимались и поздравляли друг друга, как с праздником.
Все проявления общественного движения болезненно влияли на самолюбивую Екатерину. Она сама любила конституционные мечты, но как только эти мечты превращались в требования общества, она становилась решительно против них. Поэтому ясно, почему ее конституционные мечты не получили осуществления.
На Екатерину в ее желании ввести конституционные учреждения влияла не только просвещенная мысль западной философии – в эту же сторону направлял ее и характер ее наследника Павла. Павел Петрович вышел очень похожим „на своего батюшку“, как выражалась Екатерина. Поэтому у Екатерины явилась мысль отстранить от наследования сына Павла, а преемником себе назначить внука Александра. Была и другая мысль, объявить на всякий случай нечто вроде конституции, так как Екатерина не была уверена, что Павел не свергнет Александра, и поэтому она желала оградить Павла известным учреждением. В конце жизни Екатерины ходили слухи, что 1 января 1797 года в России будет введена конституция.Но Екатерина умерла раньше (6 декабря 1796 г.), прежде чем опубликовала ограничительный закон.
Мечты Екатерины о введении конституции так и остались мечтами… Но важно указать, что вопрос об изменении формы правления в России был поставлен еще при Екатерине II, во второй половине XVIII века.