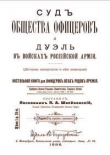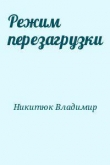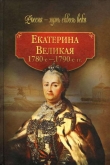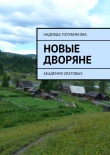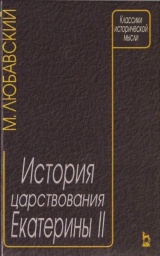
Текст книги "История царствования Екатерины"
Автор книги: Матвей Любавский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Взыскательность императора по отношению к офицерам распространялась и на собственных его сыновей. Великий князь Александр, по званию шеф Семеновского полка и по должности военный губернатор Петербурга, каждое утро в семь часов и каждый вечер в восемь часов подавал отцу рапорт о мельчайших подробностях службы и за малейшую ошибку получал строгий выговор. Великий князь Константин, бывший шефом Измайловского полка, отличаясь горячностью, часто позволял себе опрометчивые и жестокие поступки, но одно напоминание о военном суде, которого, по уставам Павла, мог требовать себе каждый корнет над своим полковым командиром, было, по словам Саблукова, "медузиной головой, которая оцепеняла ужасом его высочество". "Оба великие князья, – замечает он, – смертельно боялись своего отца и, когда он смотрел сколько-нибудь сердито, они бледнели и дрожали как осиновый лист". Павел не изменил своего отношения к войскам и после того, как они вернулись, покрытые славой, из итальянского похода. Забыты были их подвиги, и в целом ряде приказов сделаны были выговоры за то, что "инспекторы и шефы полков мало прилагали стараний к сохранению службы в таком порядке, как было императорскому величеству угодно".
Павел остался недоволен и Суворовым. Он осыпал его сначала милостями, дал ему титул князя италийского, сан генералиссимуса, приказал отдавать ему воинские почести, какие полагались самому императору, хотел отвести ему покои в Зимнем дворце и устроить триумфальную встречу, но затем вдруг переменил свое намерение. Поводом для гнева императора на Суворова было то, что Суворов, вопреки военному уставу Павла, имел при себе во все время похода дежурного генерала. Когда Суворов по возвращении заболел и умер, Павел не проводил тела своего знаменитого полководца до могилы. Опалы, которые постигали генералов и офицеров, заставляли их, в свою очередь, терзать и мучить солдат. Особенной жестокостью отличались гатчинцы и больше всех Аракчеев. Однажды он схватил гренадера за усы и оторвал их вместе с мясом. Сам император был в общем милостив к солдатам, но бывали случаи, когда он приказывал прогнать палками со смотра целый полк; в другой раз он скомандовал даже конногвардейскому полку: "В Сибирь". Смотры и вахтпарады были совершенным мучительством солдат. Аракчеев за малейшие ошибки отмечал на спине солдат, сколько палочных ударов им придется дать.
А между тем ошибку легко было сделать, так как солдаты являлись на парад в большинстве случаев не выспавшись. Солдаты носили букли и толстые косички с множеством пудры и помады. Такая сложная прическа требовала много времени; между тем парикмахеров было мало. Поэтому солдатам накануне парада приходилось обыкновенно не спать всю ночь. Причесанные с вечера не могли спать, чтоб не смять прическу, или ложились, подкладывая под голову полено. Это обучение солдат усугублялось еще тем, что мука с салом, употреблявшиеся в качестве пудры и помады, вызывали обильное появление паразитов. Кроме причесок, солдату было истинное мучение с узкими панталонами, чулками, лакированными штиблетами, подтяжками, курточками, пряжками и т. д. Парады были настолько мучительны, что не радовали солдат даже рублями и обильным столом с водкой, который давался после смотра. К страшному напряжению и утомлению примешивалось сознание бесцельности экзерциций, которые представляли, по выражению современника, "более забаву, увеселяющую глаза, нежели настоящую пользу и надобность".
Постоянным опалам Павла подвергались высшие сановники и придворные. В данном случае у Павла почти не было исключений. Никто не усердствовал более Архарова и Аракчеева, однако и они должны были уехать в свои деревни. Наконец, немилости его подверглись императрица Мария Федоровна и его сыновья.
В бытность свою великим князем Павел был примерным семьянином, нежным супругом и отцом. Но в 1798 году в семейной жизни его произошла тяжелая драма. После рождения четвертого сына Михаила медики доложили Павлу, что императрица не в состоянии выносить новой беременности, и предписали ей тихий и спокойный образ жизни в любимом ею Павловске. Павел счел себя после этого свободным. Нашлись люди" враждебные императрице, вроде камердинера Кутайсова, которые постарались совершенно отдалить Павла от жены. Кутайсов объяснил Павлу, что его считают за тирана, а благодетельные и разумные распоряжения его приписывают влиянию императрицы и фрейлины Нелидовой, которая дружна была с императорской четой. Павел пришел в ярость от этого сообщения и проникся враждой и недоверием к императрице. Эта вражда и недоверие усилились после того, как Павел сыскал себе новую подругу в лице Анны Павловны Лопухиной, которую для видимости выдал замуж за князя Гагарина. Павел стал опасаться каких-нибудь активных шагов со стороны императрицы и потому удалил из Петербурга всех, кто уже известен был в качестве ее сторонника. Такой же участи подвергались и все лица, пользовавшиеся дружбой великого князя Александра.
Павел мучился тысячами подозрений, которые раздувались Кутайсовым и его клевретами. Тогда при дворе начался уже настоящий террор. Каждый рисковал быть высланным, получить оскорбление в присутствии всего двора, благодаря какой-либо неожиданной вспышке императора. Императору постоянно казалось, что бывают не совсем почтительны к его фаворитке, к ее родственницам или подругам, и что это следствие злоумышлении императрицы. Поэтому недостаточно глубокий поклон, невежливый поворот спины во время контрданса или какой-нибудь промах в этом роде выводили из себя императора и навлекали на виновных кару. Все придворные находились в постоянном страхе: никто не был уверен, что останется на своем месте до конца дня; ложась спать, никто не мог поручиться за то, что ночью или рано утром не явится к нему фельдъегерь и не посадит его в кибитку. Состояние духа, питаемое придворными отношениями, отражалось и на других подданных. "Время это было самое ужасное, – рассказывает один из современников (Мертваго), – государь был на многих в подозрении.
Тайная канцелярия была занята делами более вотчинной, знатных сановников почти ежедневно отстраняли от службы и ссылали на жительство в деревни. Государь занялся делами церковными, преследовал раскольников (духоборов), разбирал основание их секты; многих брали в Тайную канцелярию, брили им бороды, били и отправляли на поселение, – словом, ежедневный ужас". Провинившихся достигали и более ужасные наказания. Так, лейтенант Акимов за эпиграмму на построение Исаакиевского собора сослан был в Сибирь с урезанием языка. Пастор Зейдер, уличенный в том, что имел запрещенные книги в своей библиотеке, был наказан кнутом. Генерал-лейтенант князь Сибирский по неосновательному доносу закован был в кандалы и также сослан.
На сторонних наблюдателей Павел стал производить впечатление ненормального. Уже в марте 1800 года сардинский посланник доносил своему правительству о помешательстве Павла. Английский посланник Витворт писал, что Павел "в буквальном смысле лишился рассудка". Павел стал класть бессмысленные резолюции на делах и издавать несуразные распоряжения. Так, на докладе, заключающем в себе несколько различных мнений, он пишет: "Быть по сему"; на докладе межевого департамента о споре из-за земли между донскими казаками и частными владельцами Павел на плане во всех спорных местах также написал: "Быть по сему". 13 января 1801 года Павел приказал донским казакам двинуться в поход в Индию, причем не было заготовлено продовольствия, не имелось даже карт пути.
Настроение Павла сделалось, наконец, опасным для его семьи. Замечая нерасположение и страх жены и сыновей, Павел стал подозревать их в неприязненных замыслах против своей особы и грозно давал им понять это. Однажды он призвал к себе великого князя Александра и, показывая ему указы Петра Великого о царевиче Алексее Петровиче, спросил его, знает ли он историю этого царевича. Принц Евгений Вюртембергский, племянник Марии Федоровны, был свидетелем того, как после одного концерта Павел остановился перед императрицей и, скрестив руки, с язвительной насмешкой и тяжело дыша, не сводил с нее глаз несколько минут. То же проделал он и перед двумя старшими великими князьями. После обеда он с насмешкой оттолкнул жену и сыновей, когда они по обыкновению хотели раскланяться с ним. Этот принц Евгений, красивый и умный мальчик, сделался любимцем императора. Павел стал думать о том, чтобы объявить его наследником престола. Императрицу он хотел сослать в Холмогоры; великого князя Александра заточить в Шлиссельбург, Константина – в Петропавловскую крепость и т. д. Но временами у Павла стали проявляться заявления и более устрашающего характера. Своей фаворитке Гагариной и Кутайсову Павел говорил, что он хочет выполнить grand coup, что скоро вынужден будет снять когда-то дорогие ему головы, и т. д.
При таких обстоятельствах должен был возникнуть в придворных сферах заговор с целью устранить Павла от престола. Законного средства к удалению душевнобольного государя от правления русская политическая жизнь еще не выработала.
Мысль об удалении Павла возникла первоначально у вице-канцлера Никиты Петровича Панина. К Панину присоединились военный губернатор Петербурга фон-дер Пален, князь Платон Зубов, командир Преображенского полка Талызин, Семеновского – Депрерадович, Кавалергардского – Уваров и некоторые другие офицеры. К заговору привлекли и великих князей Александра и Константина, которым было разъяснено, что Павел будет арестован, лишен власти и интернирован в крепости, где будет пользоваться всеми удобствами жизни частного человека. Таково было, по-видимому, и намерение Палена. Но его сообщники не останавливались на этом, хорошо понимая, что мечта о лишении Павла одной только власти не осуществима, что Павел, имеющий много сторонников, будет безвреден лишь тогда, когда перестанет жить. Но, разумеется, в эти планы они не посвящали великих князей. Нельзя сказать, чтобы заговорщики действовали очень скрытно. К заговору привлечены были некоторые гвардейские офицеры, и в гостиных Петербурга много говорили о нем. Павел начал подозревать окружающих в злом умысле и для большей безопасности переехал в новый дворец свой, Михайловский замок, построенный на месте разобранного Летнего дворца, где он родился. "На том месте, где родился, – говорил император, – хочу и умереть". Михайловский замок по наружному виду представлял рыцарскую крепость, окруженную рвами, гранитными брустверами, на которых стояли орудия. Сообщение производилось по подъемным мостам, у которых стояли караулы. Но никакие силы и орудия не могут защитить, раз нет верных людей.
9 марта Павел, кем-то предупрежденный о заговоре, когда Пален пришел к нему с обычным докладом, как бы невзначай спросил его, возможно ли теперь повторение событий 1762 года. Пален хладнокровно заметил на это, что некоторые и теперь задумывают подобные покушения, но исполнить его не так легко, как прежде: войска тогда еще не были в руках государя, и полиция не так действовала, как теперь. Предположив затем из дальнейших слов Павла, что он, быть может, хорошо осведомлен о заговоре, Пален заявил, что он сам состоит во главе одного заговора для того, чтобы наблюдать за действиями заговорщиков, что в этом заговоре принимают участие императрица, наследники и другие члены императорской семьи. Вслед за тем он добавил, что не может отвечать за безопасность государя, пока не будет иметь в руках письменного повеления арестовать в случае надобности великого князя Александра Павловича и других членов императорской фамилии. Павел тотчас же выдал это повеление. Получив этот документ, Пален немедленно показал его великому князю Александру. Яркими красками он расписал великому князю последствия, к каким поведет его дальнейшее упорство в отказе на низвержение отца с престола, все бедствия, которые постигнут царскую семью. Испуганный Александр дал свое согласие на то, чтобы у Павла было исторгнуто отречение от престола, а Пален поклялся, что жизнь государя будет в безопасности [119] [119]Опубликованные за последнее время данные доказывают, что Александр был осведомлен относительно намерений заговорщиков гораздо больше, чем это предполагалось раньше…
[Закрыть].
Осуществление заговора первоначально было назначено на 15 марта. Но Пален ускорил наступление конца. Он боялся приезда Аракчеева, которого Павел вызвал из деревни в Петербург, по-видимому, для того, чтобы поручить ему командование в столице. Слухи о заговоре неведомыми путями уже расходились по Петербургу. 11 марта даже извозчики говорили о "конце", указывая на Михайловский замок.
Вечером 11 марта заговорщики под предводительством адъютанта Преображенского полка Аргамакова взошли по маленькой лестнице, ведшей к покоям императора. Их было вначале около 40 человек, а когда подошли к задней двери передних покоев, то из 40 человек в отряде осталось едва 10, да и то более или менее пьяных. Заговорщики постучались в дверь и на вопрос камер-гусаров, кто стучит, Аргамаков отвечал: "Пожар". Узнав голос Аргамакова, камер-гусары не поколебались отворить ему дверь, и таким путем заговорщики ворвались в покои Павла. Император, разбуженный криками, вскочил со своей постели и спрятался за экраном, стоявшим у кровати. Но заговорщики вскоре заметили его. Бенигсен, подойдя к нему, сказал: "Государь, вы арестованы". – "Я арестован? Что же ото значит?" – спросил Павел. "Уже четверть года следовало бы с тобой покончить", – было грубым ответом одного из заговорщиков. "Что же я вам сделал?" – воскликнул Павел. Тогда князь Яшвиль первый с ожесточением бросился на Павла, который пробовал сопротивляться, но Николай Зубов ударил его золотой табакеркой в висок, и Павел упал. Собрав последние силы, он встал, но вновь был опрокинут, и при падении расшиб себе о мраморный стол висок и голову. Масса пьяных офицеров набросилась на императора. Кто-то накинул ему на шею шарф. Слышно было, как Павел успел сказать по-французски: "Господа, именем Бога, умоляю вас пощадить меня", – но через несколько секунд шарф был затянут.
Так разыгрался последний акт павловской трагедии.
Александр I и Польша
Восстановление Польши стало мечтой Александра еще в дни ранней юности, когда ему исполнилось 19 лет. Последний раздел Речи Посполитой случился как раз в то самое время, когда он только что закончил курс сентиментально-политического воспитания у Лагарпа, когда душа его преисполнена была мечтаниями о свободе, справедливости народов… Насилие, учиненное над Польшей, огорчало его, и он откровенно высказал это молодому князю Адаму Чарторыйскому в беседе в Таврическом саду весной 1796 года. Великий князь прямо заявил, что он не одобряет политики и действий своей бабки, осуждает ее принципы; заявил, что все его желания были на стороне Польши и ее славной борьбы, что он оплакивает ее падение, что Костюшко в его глазах – великий человек как по своим доблестям, так и по тому делу, которое он защищал, – по делу гуманности и справедливости.
Разумеется, эти признания будущего наследника русского престола привели в восторг и удивление князя Чарторыйского, который не замедлил сообщить о них и своему брату. Оба брата предались мечтам о светлом будущем, которое раскрывалось перед ними. "Я был тогда молод, – оправдывался впоследствии князь Чарторыйский, – преисполнен возвышенных идей и чувств; вещи необычайные меня не изумляли, и яохотно верил тому, что казалось мне великим и доблестным. Я поддался обаянию, которое легко понять: в словах этого молодого князя было столько чистосердечия, простодушия, несокрушимой решительности, самозабвения, духовного подъема, что он мне казался каким-то особенным существом, которое Провидение послало на землю для блага человечества и моей Родины".
Чарторыйский крепко привязался к Александру, стал его истинным другом и, когда Александр стал императором, одним из ближайших его советников и сотрудников в начатом им деле внутреннего преобразования России.
Но, сделавшись русским государственным человеком, Чарторыйский не забывал о своем отечестве и ждал только благоприятного случая, чтобы выступить с предложением восстановления Польши. Этот случай и представился в 1805 году. Готовилась коалиция держав против Наполеона, во главе которой должна была стать Россия. Чарторыйский, бывший в то время русским министром иностранных дел, предъявил государю свой план образования коалиции с указанием тех оснований, на которых она должна была быть утверждена. Он указывал, что одной внешней силы недостаточно для того, чтобы обуздать колосса, что необходимо пробудить в Европе чувство солидарности и уважения к международному праву, политике завоеваний противопоставить принципы справедливости и законности.
Почин и руководство в осуществлении всего этого должна бы взять на себя Россия. Так как первым нарушением международного права был раздел Польши, необходимо прежде всего восстановить в целости это государство, на престоле которого должен воссесть тот, кто воскресил его, т. е. властитель России. Чарторыйский рекомендовал прежде всего привлечь к союзу Англию, затем Австрию и, наконец, Пруссию, причем, если она будет противиться, принудить ее к тому силой; и согласии других правительств Чарторыйский не сомневался. Коалиция, по его мысли, должна была носить посреднический характер, гарантировать европейский мир и свободу. Франции должны быть предложены условия, соответствующие ее достоинству и положению: за нею должны остаться Майнц, Кельн, Люксембург, Бельгия, Савойя, Женева; Рейн и Альпы должны быть ее границами, но ей следует отдать Пьемонт, Голландию и Ганновер, которые должны стать самостоятельными государствами. За эти уступки Англия должна покинуть Мальту и другие колонии Франции, оказать Франции помощь для возвращения Сан-Доминго из рук черных. Сверх того, должен быть выработан международный морской устав. Если Франция отвергнет эти предложения, тогда уже надо действовать против нее оружием. Если война удастся наполовину, то надо удовольствоваться отторжением от Франции Италии и реставрацией Бурбонов; если же закончится полной победой, то надо будет отнять от Франции и Рейнские владения, причем из Бельгии и Голландии должно быть образовано особое королевство под властью Оранского дома. Итальянское королевство должно быть отдано Савойскому дому, а Рейнские провинции – Пруссии; Австрия должна получить взамен Италии и польских земель владения в Молдавии и Валахии. Россия, как сказано, должна получить Польшу.
Но все это здание, как оказалось, построено было на песке…
Питт, которому Новосильцев привез предложения, выработанные Чарторыйским, и слышать не хотел о каких-либо предварительных обязательствах Англии и, кроме того, не согласен был и с другими предложениями относительно распределения европейских владений. Неподатлива оказалась и Пруссия, так что России пришлось заключить коалицию только с Англией и Австрией, не в том роде, как планировал Чарторыйский, а просто для вооруженной борьбы с Наполеоном.
Не удался и другой план восстановления Польши, придуманный Чарторыйским в то время. После того как оказалось невозможным восстановить Польшу путем международных соглашений, Чарторыйский вознамерился воссоздать ее силой оружия. Дело в том, что Англия и Россия, заключив союз против Наполеона, условились, принудить к тому же и Пруссию. Россия должна была поделить свои войска на две армии, из которых одна должна была отправиться через Галицию на помощь Австрии, а другая – вторгнуться внезапно в Пруссию и занять ее. Чарторыйский и задумал воспользоваться этим вторжением для восстановления Польши. Проживавший в Варшаве князь Иосиф Понятовский по уговору с ним должен был поднять восстание в прусской Польше, как только приблизятся русские войска, и провозгласить Александра королем польским. В этом направлении настраивалось и польское общество. Когда Александр вслед за своей армией отправился на помощь австрийцам, прибыл в резиденцию князя Чарторыйского – Пулавы, к нему стеклось множество поляков повидать того, кого молва называла освободителем их родины. Князь Понятовский прислал доверенных людей с выражением преданности и за получением приказов. Имя "короля польского" не сходило с уст посетителей Пулав. Казалось, что уже была близка минута возрождения Польши, но судьба определила иначе.
За девять лет, протекших со времени беседы в Таврическом саду, Александр не растерял своих добрых чувств по отношению к полякам, не утратил своего расположения к ним, с удовольствием выслушивал в Пулавах комплименты и выражения преданности, но эти чувства, возвышенные идеи юности уже не в состоянии были направлять его волю, влиять на его образ действий. Александр стал доступен и встречным воздействиям, и холодным расчетам политики, и новым сантиментам и эмоциям. Князь Чарторыйский нашел сильного противника в лице молодого генерал-адъютанта князя Петра Петровича Долгорукова, который, пользуясь дружбой государя, всячески противодействовал планам и внушениям Чарторыйского, представлял часто Александру опасность разрыва с Пруссией, пагубность восстановления Польши, прибавляя исподтишка, что князь Чарторыйский для Польши изменяет России. Однажды в горячем споре за царским столом Долгоруков прямо бросил Чарторыйскому: "Вы рассуждаете как польский князь, а я рассуждаю как русский князь". Мнительный и подозрительный Александр не мог не склониться на представления Долгорукова.
Он не только не поднял восстания в Польше, не провозгласил себя королем польским, но отправил в Берлин князя Долгорукова с изъявлением своей приязни королю Фридриху-Вильгельму, с предложениями приступить к союзу против Франции. Нерешительный король Фридрих-Вильгельм, на которого налегала со своей стороны Франция со своими предложениями, долгое время колебался и не знал, что делать, пока не вмешалась его супруга королева Луиза. Она послала к Александру в Пулавы приглашение прибыть лично в Берлин, и Александр тотчас же отправился на зов обожаемой женщины, которую он имел случай уже два раза видеть и которая произвела на него чарующее впечатление, Королева добилась своего. 3 ноября в Потсдаме была подписана конвенция о вступлении Пруссии в коалицию против Наполеона. Русский император и прусский король на гробе Фридриха Великого в присутствии королевы Луизы поклялись в вечной дружбе России и Пруссии. Пулавская идиллия сменилась Потсдамской мелодрамой.
Все планы князя Чарторыйского рухнули, и поляки бросились в объятия Наполеона. Они приняли горячее участие в борьбе его с коалицией и в награду за все жертвы и усилия получили так называемое Варшавское герцогство… Надежда на «одбудование отчизны» [120] [120]Построение родины.
[Закрыть]и на этот раз не исполнилась. Вследствие этого не исключена была возможность новых попыток восстановления Польши при помощи России.
На этот раз инициатива вышла уже от самого Александра. Когда стала надвигаться война с Наполеоном в 1811 году, Александр вступил в оживленную переписку с князем Чарторыйским. Чарторыйский после заключения Потсдамской конвенции устранился от заведования иностранными делами и остался только куратором Виленского университета. В 1811 году, подчиняясь сеймовому предписанию, чтобы все обыватели герцогства Варшавского оставили иноземные службы, князь Чарторыйский просил Александра уволить его от всех вообще званий и обязанностей по русской службе и стал проживать в своем имении Пулавы. Здесь и стал атаковать его своими письмами Александр. В этих письмах император тщательно учитывал шансы сторон в предстоящей борьбе и приходил к выводу, что окончательная победа принадлежит Россия, а следовательно, и полякам надо помогать ему, Александру, а не Наполеону. За оказание помощи Александр торжественно обещал восстановить Польшу. Император приглашал князя Чарторыйского стать do главе своего народа и склонить его к союзу с Россией. В частности, Александр просил Чарторыйского уговорить князя Иосифа Понятовского, командира польских войск, покинуть Наполеона и предаться на сторону России. Для облегчения ему этого шага Александр предлагал устроить внезапное вторжение русских войск в Польшу, причем князь Понятовский как бы по необходимости должен был сдаться. Но Чарторыйский уже горько разочаровался в своем царственном друге, мало верил в его успехи, а главное, очень хорошо понимал, что поднять поляков за Россию против Наполеона – несбыточная мечта. Поэтому он не только не принял предложения Александра, но даже счел своим долгом остеречь князя Понятовского насчет замыслов русского императора.
Но когда начали оправдываться расчеты Александра и победа стала склоняться на сторону России, Чарторыйский счел своим долгом покинуть занятую им позицию. 12 декабря 1812 года он писал Новосильцеву, что после таких успехов надо делать великие и прекрасные дела, не ограничиваясь простыми завоеваниями: "Восстановление Польши необходимо для России, для Англии, для всей Европы; одним разом оно в состоянии парализовать все средства Наполеона на севере". Дм недели спустя Чарторыйский написал в этом же смысле самому императору Александру: "Всем сердцем приступил я с народом к конфедерации, не покидая его в минуты несчастий и опасностей. Подай нам руку, светлейший государь, и я разделю радость с народом; оттолкнешь нас, и я разделю с ним горесть и отчаяние". Чарторыйский предложил русскому государю восстановить Польшу в прежнем ее виде под скипетром царского брата великого князя Михаила Павловича. Чарторыйский остался верен всем прежним взглядам на восстановление Польши, которое, по его мнению, должно было послужить началом нового правового порядка в Европе. Но Александр дал на письмо в высшей степени сдержанный ответ. "Для того чтобы провести в Польше мои любимые идеи, – писал он, – мне, несмотря на блеск моего теперешнего положения, предстоит победить некоторые затруднения, прежде всего общественное мнение в России. Образ поведения у нас польской армии, грабежи в Смоленске и в Москве, опустошение всей страны оживили прежнюю ненависть. Затем, разглашение в настоящую минуту моих намерений относительно Польши бросило бы всецело Австрию и Пруссию в объятия Франции… Эти затруднения при благоразумии и осторожности будут побеждены. Но чтобы достигнуть этого, необходимо, чтобы вы и ваши соотечественники содействовали мне. Нужно, чтобы вы сами помогли мне примирить русских с моими планами и чтобы вы оправдали всем известное мое расположение к полякам и ко всему, что относится к их любимым идеям. Имейте некоторое доверие ко мне, к моему характеру, к моим убеждениям, и надежды ваши не будут более обмануты…" Указав далее на то, что он всегда отдавал предпочтение либеральным формам правления, Александр самым решительным образом отклонил мысль о великом князе Михаиле Павловиче как о короле Польши и восстановлении ее в прежних границах. "Не забывайте, что Литва, Подолия и Волынь считают себя до сих пор областями русскими и что никакая логика в мире не убедит Россию, чтобы они могли быть под владычеством иного государя, кроме того, который царствует в ней. Что же касается до наименования, под коим они будут входить в состав империи, то это затруднение легче устранить… Итак, вот в общем выводе результаты, которые я могу сообщить вам: Польше и полякам нечего опасаться от меня какой бы то ни было мести. Мои намерения по отношению к ним все те же. Успехи не изменили ни моих идей относительно нашего отечества, ни моих принципов вообще, и вы всегда найдете меня таковым, каким вы знали меня". Несмотря на то что Александр, как видно из его письма, ушел уже далеко от своих юношеских намерений касательно Польши, Чарторыйский при всем том счел нужным явиться к нему в главную квартиру в Калиш, чтобы принять деятельное участие в решении судьбы своего отечества.
Александр исполнил свое обещание – не мстить полякам за все то зло, которое они причинили России в 1812 году. Он милостиво принял депутацию от польского войска, сражавшегося под знаменами Наполеона, явившуюся к нему в Париже 13 апреля 1814 года, после отречения Наполеона, воздал должное храбрости поляков и их любви к родине и разрешил полякам возвратиться в герцогство Варшавское со своими знаменами, назначив главнокомандующим над ними великого князя Константина Павловича. В письмах к генералу Костюшко Александр выражал надежду, что с помощью Всевышнего ему удастся осуществить возрождение храброй и почтенной нации, к которой принадлежит Костюшко. Но при всем том от каких-либо прямых и категорических обещаний на ближайшее время Александр уклонился, ясно сознавая, какие трудности необходимо преодолеть для того, чтобы восстановить Польшу. "Пройдет еще несколько времени, – писал он, – и при мудром управлении поляки будут снова иметь отечество и имя, и мне будет отрадно доказать им, что именно тот человек, которого они считают своим врагом, забыл прошедшее и осуществил все их желания". В Пулавах, куда Александр заехал, отправляясь на Венский конгресс, он выразился яснее. "Еду на конгресс, – говорил он, – чтобы работать для Польши, но надо двигать дело постепенно. У Польши три врага – Пруссия, Австрия и Россия, и один друг – это я. Бели бы я хотел присоединить Галицию, пришлось бы сражаться. Пруссия соглашается восстановить Польшу, если ей отдадут часть великой Польши. А я хочу отдать польским провинциям около 12 миллионов жителей.
Составьте себе хорошую конституцию и сильную армию, и тогда посмотрим". Из этих заявлений видно, что, предвидя затруднения со стороны соседей и со стороны русского общественного мнения к восстановлению Польши в прежнем объеме, Александр все более и более сосредоточивался на мысли создать Польское государство, какое только можно по условиям момента, соединить его с Россией и, если будет можно, усилить польскими провинциями России, окончательное же восстановление предоставить будущему, когда разовьется и окрепнет созданное Польское государство и когда более благоприятным образом сложатся внешние обстоятельства. В конце концов, и князь Чарторыйский должен был принять эту же самую программу.
Польский вопрос на Венском конгрессе едва было не стал причиной разрыва между недавними союзниками и новой европейской войны. Талейран ухватился за него именно, как за средство перессорить союзников и дать решительный голос Франции в предстоявшем устройстве европейских дел, вручил князю Меттерниху ноту, в которой заявлялось, что французский король почитал бы себя счастливым, если бы разрешен был польский вопрос, и народ, столь интересующий другие народы своей древностью, храбростью, оказанными Европе услугами и своими несчастиями, получил бы свою прежнюю и полную независимость. "Раздел, который вычеркнул его на списка народов, был провозвестником происшедших в Европе смятений". Представитель Австрии, несмотря на то, что его государство также участвовало в разделах Польши, не только не оскорблялся предложениями Франции, но даже пошел им навстречу. "Никогда Австрия, – писал он, – не видела врага в свободной независимой Польше. Принципы, которых держались и достойные предшественники его величества императора, и он сам со времени разделов не пришли в забвение; отношение Австрии к этому краю было только следствием обстоятельств, неодолимых и не зависящих от воли австрийских монархов". К этому Меттерних прибавлял: "Австрия не пожалеет никаких жертв для восстановления королевства Польского – независимого и управляемого народным правительством".