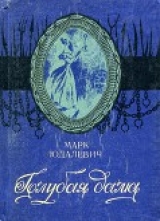
Текст книги "Голубая дама"
Автор книги: Марк Юдалевич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Гороскоп и сам по себе изрядно крамольного свойства. Но это еще не все. Подлинная суть его в том, что расположение планет отвечает часу рождения августейшего государя-императора.
И Николай Артемьевич должен приютить в здешних местах такого крамольщика – тот выехал за бергмейстером вслед и вот-вот будет. Это, как выразился бергмейстер, просьбица самого Михаилы Михайловича Сперанского.
Именно не просьба, просьбица, что намекает на ее малость и для генерала совершенную легкость исполнения. Тем более Сперанский считает, что полузлодей отнюдь не закоснел в своих убеждениях, а просто не ведает, что творит. Однако Николай Артемьевич в сильное замешательство приведен, говорит, что просьбица эта тягостней иной просьбы, и, как я замечаю, этого тоже сильно побаивается.
«А ежели кто дерзнет донести его величеству? Глаз сейчас и за генералами есть! Да поставят это в одну шеренгу с твоей перепиской. Не схоронишься тогда и за широкой спиной Сперанского. Да и так ли широка спина его? Конечно, Михал Михалыч из губернаторов в сановники прыгнул, близко к трону обретается, большую политику вершит. Шутка в деле, манифест составлял о вступлении государя на престол. Рылеева и прочих бунтовщиков судил. Сейчас, поговаривают, законы воедино сводит.
Но не секрет, каковы они, извороты судьбы, случаются. Взять, к примеру, предбывшего губернатора Федора Ивановича Саймонова. Любимцем был Петра Великого, говорят, жизнь ему спас в морском походе. Да и при Анне ходил кригс-комиссаром. А по делу Волынского угодил в Охотск. В солеварнях, на каторге, Федькой-варнаком звался – сам в лохмотьях, тело в расчесах. А из Федьки-то-варнака снова в генералы, да в Тобольск, в губернаторское кресло. А потом, говорят, опять чуть в ссылку не угадал. Вот и Сперанский Михал Михалыч! Кто он есть? Семинарист, клопами воняющий! Высоко летает, да уж садился, в государственных изменниках хаживал. Законы сводит! Так ведь и законы тоже не раз пытались сводить! При матушке-Екатерине цельная депутатская комиссия складывалась. Какие вельможи там подвизались – Бибиков, Вяземский, Шувалов! Медаль, относящуюся к сему, выбили: «Блаженство каждого и всех». А что из того произошло, только что многим комиссионникам опала. Так и Михал Михалыч, угадает вот к нам вослед за теми же, кого судить изволил. И ничего мудреного нет, ибо подобные-то совершители весьма редкостно добром оканчивают. Видывал я могилки ихние, холмики глиняные, видывал в вояже по Сибири-земле. И в Березове, и в Тобольске, и в иных местностях возле рудников и соляных варниц. С высоким-то умом гниют в безвестности».
Так или примерно так говорил Николай Артемьевич. И я думаю, как тут рассудить следует: прав он или нет?
Может быть, он и прав: легко навлечь на себя высочайший гнев, да трудно располагать на чью-либо помощь! А с другой стороны, я ловлю себя на том, что желаю: хотя бы приехал этот полузлодей – все какая-то новость в нашем болоте.
3 июля
Сегодня проводили, наконец, господина бергмейстера. Муж говорит, что все обошлось благополучно. Прохаживаясь по комнате, он долго размышлял вслух о своих сомнениях и опасениях. И наконец объявил:
– Кажись, бог пронес, Юлинька! Но нам урок. Теперь надо быть отменно благоразумными и мудро осторожными.
А я все думаю: как же я могу не написать Наташе, предать ее?
Господи! Как мне одиноко и тяжело!
Не обрела я в этих местах даже сердечного конфидента, душевную подругу. Она сделалась бы хранительницей моих дум, моих секретов. Но увы! В местном свете сошлась я накоротке с одной лишь светлокосой голубоглазой немочкой Авророй.
Аврора – прекрасной души девушка, однако она еще ребенок. Прелестный ребенок. Во время пребывания в Петербурге пользовалась там вниманием столичных щеголей и теперь доверительно повествует мне об этом. Я, конечно, не могу платить ей тою же откровенностью. Сойтись же с другими, возможно, препятствует положение матери-генеральши в мои двадцать четыре года. Да и полудворянство мое, может статься, тоже имеет свое значение. Хотя по отцу я – пятисотлетнего дворянского рода, и предки мои в летописях русских не раз упомянуты, никто того не забудет, что матушка моя была в своей юности крепостной дворовой девушкой. Дамы наши в один голос утверждают, что отсюда и манеры, и поведение мое.
Ох, эти дамы! Они обожают жаловаться друг другу на нервические болезни и мигрени, нюхают аптекарские соли и нашатырный спирт, ведут бесконечные беседы, в коих перемывают друг другу косточки с большим тщанием, чем прислуга на кухне моет и чистит миски или кастрюли. Мне же долгое сидение несносно. Я обожаю дальние прогулки, быструю верховую езду, катание на лодке, люблю грести, плавать. Папа всегда говорил, что мне надобно было родиться мужчиною.
А местным дамам все это кажется грубостью и плохим тоном. Ах, бедняжки! Они из кожи лезут, чтобы казаться аристократками, и даже приказания своей прислуге отдают на дурном французском языке.
К столу подают деликатесы, по тридцати блюд. Всюду кадят сладкими дымами и каждую минуту звонят в колокольчик.
Я, может быть, и парвеню, если учесть, что моя маман французскому обучалась после двадцати годов, а более всего любила доить коров, прясть да ткать, чему и меня обучила. Но и эти жеманницы истинных аристократов в глаза не видывали. Моя бабушка, имевшая при Екатерине Великой первейший придворный чин – статс-дамы императрицы, обожала редьку с квасом, и этот «деликатес» для нее на званых обедах подавали. Бабушка в сердцах ругала дворню последними мужицкими словами. А смолоду любимым ее удовольствием, как говорит мама, было сломя голову скакать верхом на лошади.
Да что статс-дама! Сама Екатерина, будучи великой княгиней, носилась по полям бешеным галопом и от нее воняло конским потом. А Елизавета Петровна, почитай, не меньше августейшего отца своего уважала дружеские лихие пирушки в компании героев Егерсдорфа, Куненсдорфа, Берлина. Чай, там было не до изысканных блюд и французского политеса.
Сказать коротко, не сблизилась я ни с кем в здешних местах, кроме юной Аврорки. Однако Аврора еще почти ребенок и об серьезных да глубоких вещах с ней трактовать не станешь. И сделалось таким манером, что я своими мыслями, невинными секретами своими делюсь с одним лишь медвежонком. Впрочем, нет, забыла сказать. Имеется и еще один верный конфидент. Это – мое фортепьяно. Ему вверяю я свои думы, память свою и грусть…
5 июля
Новый пассаж. Уж по правде в нашей жизни прередкостный. Весь город наш лишь об этом и гудит. Очевидно, с этими персонами ничего как с людьми не случается. Полузлодей, добираясь сюда на попутных, каким-то образом оказался в плену у ватаги разбойников. В город примчался верхом в сопровождении повозчика и о приключении своем никому ни слова. Но шила в мешке не утаишь. Повозчика хотели куда-то отправить и дознались, что у него пропала телега. Случилось здесь неожиданное приключение…
Как раз в этом месте я, пользуясь правами публикатора, решаюсь несколько сократить дневник Юлии Андриановны и обратиться к вклейке на листах, исписанных менее изящным, но более твердым почерком. И, кстати, менее плавными, более отрывистыми фразами.
Дневника, в который указано мне сделать вставку, не читал. Автор записок уверяла меня, что она не тщеславна. Помыслами прорваться в тесный круг сочинителей не обуреваема. Похвально! Ведь каждый сочинитель почитает себя ежели не господином Вольтером, то уж во всяком разе Дидеротом и ни за какие пироги не унизится до Пушкина или Марлинского. Досточтимый автор уверяла и в том, что сочинение ее для читающей публики не предназначается. И тем не менее у меня есть опасения. Боюсь, где-то на самом дне авторского сознания таится, возможно, не мысль, но лишь тень ее, – будут чьи-то глаза скользить по красивым, ровным строкам. И при этом будут меняться. Заискрятся смехом. Застынут во внимании. Расширятся от ужаса.
В потайном предчувствии того автор делает, что у авторов водится. Словно бы не отставая от истины, кое-что пеленает байроновскими дымками романтизма.
Но я решился воссоздать все мое приключение, весь анекдот в истинном виде.
Еду сибирским трактом. Слухами пользуюсь о шатучих ватажках из каторжных, беглых заводских тяглецов, армейских дезертиров. Однако наблюдаю – главной дорогой даже большие чины ездят без оберега. И то сказать: кого только не встречал я на главной дороге. Золотянку, то бишь обоз с золотом. Воинскую команду. Рудовозов. Дрововозов. Углежогов. Поспешливых курьеров. Медленно позвякивающих цепями кандальников. Замечу в скобках, кандальный звон как бы говорил мне: «Ведь и ты мог быть посреди них».
Короче, длинная дорога не была пустынной. И казалось, лихие люди шалят не на ней. Шалят на проселках.
Но пойду по порядку. Прибыл в полдень к одной из ямских изб. Предъявил подорожную. Как нередко приключается с нами, малочиновными, свежих лошадей не оказалось. Однако трапезовал здесь мужик виду столь характерного, что я невольно на него загляделся. Волосом по-славянски рус и глаза голубые, а лицо темное, скуластое и нос плоский. Видно, встретилась в этом лице Русь с Калмыкией. С кем только она, православная, не встречалась!
Мужик вскочил, поклонился. Ростом он – почти под матицу. Прозывался Пахомом, что, сколь помнится, в переводе с греческого означает «широкоплечий». И отвечает правде.
Пахом ехал порожняком в телеге, запряженной двумя конями. Возил командиру Омской крепости подарок ко дню тезоименитства – малахитовую чашу. Эта чаша в Колывани на шлифовальной фабрике искусными мастерами изготовлена. Подарок не одну сотню верст проделал. Ну, да по нашим российским нравам, ежели начальство надо ублажить, в издержках стеснения нет. Теперь Пахом возвращался на завод. Телега – не весьма удобный экипаж, но я был рад и телеге. Дорога из Петербурга длилась чуть не месяц. Успела опреснеть! А ожидание в ямских избах сделалось совсем тягостным.
Возница запасся охапкой соломы. Ехать по накатанному большаку было нетряско. Исподволь мы разговорились.
Пахом – мужик бойкий. Не глупый. И злой. С детства промышлял извозом. Как ни странно, и фамилия его Повозчиков. Пошла от дальнего предка. Тот во время шведской кампании рекрутирован был в повозчики.
Предок держался древлеотческой веры. Старинного благочестия. Не пожелал воевать за царя-антихриста. Под Ямбургом утопил пушку в болоте и бежал. Царь издал указ о беглых повозчиках: десятая вина виновата. Это означает, каждого десятого казнить согласно жребию. Других девять – бить кнутом. Кто не выдержит, от тех дворов забирать братьев, племянников и иных родичей.
От страха предок Пахомов звериными тропами бежал в Сибирь. Здесь в тайге набрел на единоверческое поселение. Но взял на душу грех: женился на калмычке немаканной.
Жили справно. Хлеба на непаханых землях подымались буйные. Зверя в тайге на всех хватало. Рыбу в реке – руками бери.
Жили в крепких рубленых домах. Ходили в собольих шапках, медвежьих шубах.
Но милости царские достали и здесь.
Новым указом деревню приписали к плавильному заводу. Только старообрядцам повезло – их не ставили к горячим плавильням. Определили урочными служителями.
Помог тому достаток. Каждый хозяин имел правдами-неправдами добытых у калмычья несколько лошадей. Крестьяне возили от Змеиной горы за сотни верст на своих лошадях руду. Возили из поколения в поколение. Старое название деревни стерлось в памяти. Деревня теперь звалась Рудовозная.
– Как вас довольствуют? Жалованьем либо провиантом? – интересовался я.
Пахом лишь рукой махнул:
– Ищи на казне, что на орле, на правом крыле.
Ни твердого жалованья, ни провианта они от казны не имеют. Получают лишь сдельную оплату. Не более полтины в месяц. За год набирается пять рублев с гривной. И на свое хозяйство времени в обрез.
И однако дорожат урочным состоянием. И пуще глаза берегут первый его залог – своих коней.
– Как нам не дорожиться, барин? Из двух зол меньшее берут. Это все ж таки не завод. Там от неволи только смерть обороняет. А здесь я почти вольный человек!
«Хороша воля!» – подумал я.
И здесь-то ожидал нас странный пассаж.
Дорога тесно прижалась к темному бору. Низко, чуть не цепляясь за верхушки деревьев, плыла туча. Зеленые сосны обрели синеватый оттенок.
– Тпр-ру… приехали!
Голос был насмешлив. Принадлежал отнюдь не моему вознице. Не успел я сообразить, откуда он прозвучал, как двое дюжих мужиков уже держали под уздцы наших лошадей. От ближайшей сосны отделился третий. Ростом разве чуть пониже Пахома. Безбородый, с глубоким, через всю щеку шрамом, с приметной военной выправкой.
– В чем дело? – запальчиво крикнул я. Но голос мой отчего-то сорвался.
– Приехали, – все так же, не пряча насмешки, повторил детина со шрамом. – Здравия желаем, ваше благородие!
– Но-но, не балуй, – строго окликнул он схватившего было бич Пахома и выдернул из кармана руку, в которой холодно сверкнул пистолет.
А мужики уже поворачивали коней на узкую просеку. Просека, впрочем, очень скоро оборвалась, и деревья встали довольно плотной стеной.
– Уж не гневайтесь, ваше благородие. Прощения просим. Одначе далее придется пешочком.
Голос становился все злее и колючее.
Мужики проворно распрягли лошадей, бросили телегу, из озорства перевернув ее, и погнали нас в глубь леса. Бородачи вели лошадей, на одну из которых навьючили мой кожаный баул. Детина со шрамом вел Пахома и меня. Я шел, упершись взглядом в широкую, озадаченную нежданным злоключением, спину Пахома.
Один раз довелось мне споткнуться и чуть шагнуть в сторону. Сразу же почуял меж лопаток холод пистолетного дула.
Туча проплыла, не изронив ни единой капли. Солнце проникало в бор, но оно освещало уже только подножия дерев. Тут услыхали мы басовитые голоса и оказались на просторной, поросшей мягким разнотравьем поляне. В центре поляны горел костер, кипело вкусно пахнувшее варево. Поодаль паслись стреноженные лошади. Ватажники, их было, кроме приведших нас, еще шестеро, по-видимому, ничего не опасались. Они громко приветствовали пришедших, похлопывая их по плечам, повторяли:
– С добычей, стало быть!
– К самому обеду доспели.
– Ай, удало вышло! Удало! Шибко удатлив ты, Ваньша!
– Сокол с лету хватает, а ворона и сидячего не имат.
Эта похвала относилась к детине со шрамом, бывшем, по всем приметам, у них за атамана.
Только один из мужиков лежал не вставая. Укрытый зипуном, он тихо постанывал.
– Ну как ты, Васек? – спросил его предводитель.
Васек не ответил.
– Горит весь, – сказал кто-то из мужиков.
Между тем, маленький, вертлявый, с рыжей продолговатой бородкой мужик бросился осматривать лошадей. Он поднимал им ноги, оглядывая копыта, проверял зубы, лазил под животом.
– Как, Гордей, на пашне сгодятся? – спрашивали мужики.
– Добрые кони. Добрые, – похваливал рыжий.
«Неужто у них и пашня есть?» – удивился я.
А Гордей мимоходом кинул взгляд на закаменевшего Пахома и с насмешкой оглядел меня. Бороденка его при этом уничижительно поднялась кверху. Видно, он нечаянно сравнил меня с моим могутным попутчиком. Сравнение вышло не к моей выгоде.

– Слышь, Ваньша, – продолжая осматривать меня, адресовался он к своему предводителю. – Я ровно предчуял чо, добрых прутов наломал. Да токмо барин-то жидковат. Выглядит на славу, да жидок на расправу.
Ваньша в свой черед тоже бросил на меня оценивающий взор.
– Сотню сдюжит, – определил, – а не сдюжит – его барская воля.
– Кафтанчик-то на ем добрый, – продолжал изучать меня рыжий. – Напяль этакий кафтан, так и станешь атаман. Слышь, Ваньша, тебе, однако, тесноват будет. Под мышками лопнет.
– Да бери, – равнодушно разрешил предводитель.
– Ваньша! Ты, поди, его и не обшарил? Пошто же ты?
Я сам диву давался, отчего разбойники не отнимут мой кошелек. Это всегда было не токмо их целью, но и традицией. Даже мой баул предводитель, не осмотрев, небрежно бросил на траву. Рыжий исправлял оплошность. Нащупал и вытянул из кармана мой бумажник.
– Деньжищ-то! – держа в руках пачку ассигнаций, восхищался он. – А тут ишшо бумаги какие-то.
– Подорожная, – взяв у него бумаги И деньги, сказал Ваньша. – Подорожная, – повторил он и довольно бегло прочел: – «Коллежский секретарь Зарицын Юрий Тимофеевич».
– Ну, вот что, Юрий Тимофеевич! – захлопотал рыжий. – Скидывай одежку. Да, ето, проворней шевелись.
Вскоре я очутился в грубой холстине. Рыжий щеголял, в моем костюме и шляпе. Все было ему велико, но это его не печалило. Козырем прохаживался по поляне. С усладой разглагольствовал:
– В брюхе солома, да шляпа с заломом! А голь, да в шляпе, тоже шляхта.
Дурной пример заразителен. Другие ватажники разворошили мой баул. Примеряли мою одежду, даже белье. А один поднес Ваньше ящичек с лекарским инструментарием:
– Чего это?
– После погляжу, – занятый своими мыслями, рассеянно промолвил атаман.
Между тем, всеобщим вниманием завладел рыжий.
– Таперича, как барина зароем, – объявил он, – дойду до самого наипервейшего енерала, я, дескать, ваше благородие…
– Превосходительство, – оторвавшись от своих дум, подсказал Ваньша.
– Я, дескать, ваше превосходительство, надеюшка наша, енерал, прозываюсь Юрий Тимофеев и прибыл к вам, ну как его…
Рыжий плутовато оглянулся, как бы прося предводителя подсказать ему нужное слово.
Разбойники уже сгрудились вокруг него. В каждой компании есть свой шутник и балагур. В ватажке эта роль принадлежала рыжему Гордею.
– Давай, Гордей, обсказывай, – подбадривали его со всех сторон.
– Ну, как его? – повторил он, и так не найдя, что прилично произнести вновь прибывшему чиновнику, махнув рукой, заявил:
– Пристраивай, надеюшка енерал, к должности, туда, где супец пожирней, чтоб ложка стояла. А я уж буду тебе верой-правдой служить, супостатов твоих крушить. Стану куш ухватывать поболе, потому, хочу жить на воле, ведь судят вора алтынного, зато чествуют полтинного.
Гордей помолчал, прошелся в мужичьем кругу, ловя восхищенные и ожидающие взгляды. Победно заявил:
– А что, ить возьмет? Не зазря у нас в Сибири байка такая ходит – как какой начальник едет, его вольные люди хватают. Один кто-то от так же кафтан его надевает, садится чиновником. Говорят, у иных чиновников на лбу и на щеках метки есть. Три буковки выжжено – «вор». Они это каторжное клеймо только пудрой сокрывают, а как пудра слетит…
– Буде! Не кривляйся. И так хорош.
В окрике атамана слышно было неудовольствие. Очевидно, ему надоело пустое балагурство. Он сел на ствол обгорелой, поваленной молнией сосны.
– Подь-ка сюда поближе, барин!
Кто-то из мужиков увесисто толкнул меня в спину.
Я стоял супротив удобно расположившегося, плечистого Ваньши, смешной и жалкий в тесноватой холщовой одежде.
– Что, барин, не чаял такого оборота? Здесь, брат, Сибирь! Столицы этого не видали, а у нас вольного люда хоть отбавляй.
– Почему столицы не видели? – ответил я. – При Петре Великом округ Москвы разбойников числом до тридцати тысяч доходило.
– То при Петре, – возразил Ваньша. – А теперь они все сюда перекочевали. За Каменный пояс. Так-то оно, барин!.. Слыхал ли ты? – неожиданно вопросил он. – Слыхал ли ты про Семеновские флеши? Ну, чего молчишь? Али не по чину-званию вашей милости ответствовать на мужицкие вопросы?
– Как же не слыхать про те Семеновские флеши, если мой отец сложил голову на Бородинском поле.
– Вон что! – отозвался атаман. В его голосе не было и тени сочувствия. – Каков же чин был на твоем родителе?
– Лейб-гренадерского полку капитан-поручик.
– Ишь ты! Ишшо и гренадерского. А ты-то чегой-то не шибко гренадерского росту!..
Мужики рассмеялись. Однако и смеялись они не так, как над Гордеевыми шутками. Смеялись недобро. И в смехе до меня доносилось: «Погоди ужо! Мы над тобой учиним потеху».
А Ваньша продолжал, и зложелательство клокотало в его голосе, в его коротких, отрывистых фразах.
– Капитан-поручик. Прытко у их. Скоро чины идут. Грудничком в полк записывают. В колыбельке лежит, а уже «господин унтер». Ползать зачал – «ваше благородие».
А наш-то брат – все в солдатиках. Хошь ты десять раз на врага ходил, кровью умылся, а все – в солдатиках.
Голос Ваньши прерывался от негодования. Шрам налился кровью.
Я подумал, что, видно, не часто попадались ему в руки господа, те, кого считал он своими лютыми врагами. И теперь выпал случай выговориться, излить свои обиды.
– Батя мой при царе Павле мытарствовал. Царь-то, благодетель, давал офицеру напутье: «Вот тебе три мужика, сделай из них одного солдата». Офицеры и старались. Пялили на горемык иноземные, с неметчины мундирчики. А батяня могутный был. Мундирчик на него не лез. Так его в станок зажимали. Выравнивали. До него-то один помер в том станке. Батю поставили. Мужиков – с запасом. Чего их жалеть!
Я слушал атамана, и одно желание владело мной: не показать страха, умереть достойно. Я понимал – это не тот человек, от какого можно ждать пощады.
Приходило в голову малодушное: этому Ваньше о своих злоключениях растолковать, почему очутился я в сибирских местах. Он незауряд-человек, он поймет. Но тотчас откинул эту мысль. Вряд ли Ваньша поверит рассказу моему, скорее, проникнется ко мне еще большим презрением.
А Ваньша, меж тем, не замолкал:
– Инако стало, когда француз на нас насел. Тут и нижний чин человеком сделался. В Австрии арьергард наш из пяти тысяч тридцать тысяч солдат противника сдержал. Медали пожаловали. Каждому в руки дали, на них выбито: «Пять против тридцати».
Атаман замолк. Молчали и все вокруг. В тишине леса громко закуковала кукушка.
– Зазря, барин, загадываешь, сколь тебе жить. Век твой короткий. А помирать, слышь, не шибко охота? Вы ить, баре, любите на этом свете пожировать. Ох любите!..
– Семеновские флеши, – вдруг неожиданно перебил он себя. – Что можешь, ты про них знать! – Взор его был таков, что, казалось, он пронзит меня. Но на сей раз атаман глядел мимо.
– У нас в полку заведено было, когда награды присылали, командир просил солдат за храбрейшего офицера голос отдавать. И барин мой дважды больше всех голосов получал. Однако, хоша и залихват был прапорщик, а в ногу да в башку угодил ему осколок. Он мне весь мундир кровью залил. И кровушка та с моей замешалась, потому и меня в те поры пуля в плечо поцеловала. И барин наш, отец наш Родион Викторыч, обнял меня и рек: «Мы с тобой, Ваньша, с этого часу братья». Вот так! И что дале-то долго сказывать. Из-за одной дивчины, ладной да синеглазой, барин-сослуживец да брат мой нареченный приказал меня высечь батогами.
– Высечь, – повторил предводитель. – А невесту мою к себе в хоромы постряпухой забрал.
Ваньша сызнова замолк. Шрам его налит был кровью.
– А когда секли, когда стязали меня, приговаривал: «Сюды угоди. Здесь у его от раны шрам. Да солью посыпь. Да с потягом!»
Хоша и ночью я от своего барина ушел, а не по темну. Зарево мне на тропке посветило. Одначе все ж таки обиду не до самого донышка отквитал. За то иных-то из вашего брата, какие в лапы мне попадают, велю драть таким же артикулом. Так что и ты, барин, заутро готовься. Готовься, Юрий Тимофеевич…
Долго ли, коротко ли доведется мне топтать грешную землю, но никогда не забуду той ночи.
Еще не стемнело, как разбойники сели за ужин. Примолкший Пахом сидел среди них. Рыжий балагур потащил кусок жареного мяса больному. Но тот от еды отказался. Тогда Гордей вдруг вспомнил обо мне. Поставил передо мной мясо, кружку пахучего чаю.
– Поснедай, барин, напоследок. А то завтра поутру заявишься к престолу божьему и сразу на нас с челобитьем. Мужики, мол, скаредничали, гладом меня мордовали. Господь-то и засерчает. «Чего ж, – молвит, – барина занижали?» Господь, он завсегда за баринов стоит.
Рыжий отдалился. Я залпом выпил чай, но не смог притронуться к еде. Ватажники, окончив трапезу, разлеглись вокруг гаснущего костра. Один остался часовым. Пахом хотел было подойти ко мне, но мужик его не подпустил.
Странным было мое состояние. Помимо воли, где-то в глубине сознания откладывались все звуки ночного бора. В голове возникали обрывки мыслей, воспоминаний, часто незначительных и случайных. Под легким ветром шумели вечнозеленые сосны. С темнотой заухали совы. Зяблик, видно, спросонья начал было свою красивую, похожую на свист песенку, но тут же осекся. «У пупа, у пупа», – выкрикивал козодой.
Итак, завтра я должен умереть мучительной смертью. Погибнуть. Исчезнуть. Разве не странно? Останется все: бородатые люди, пахнущие хвоей и смолой деревья, высокое разнотравье, певчие птицы.
А меня не станет. А, быть может, не станет лишь только моей телесной оболочки? А дух мой будет витать над землей? А может – если не ложно исповедуют индусы – всякий из смертных после кончины обращается в кого-то или во что-то?
В кого бы мне посмертно обратиться?
Перебрал всех птиц до царственного орла, пытался возомнить себя кем-либо из самых благородных и могучих зверей – ничего не прельщало.
Что, вообще, прельщало меня в этой жизни? Почему я так жалею о ней, так боюсь с ней расстаться? Ведь в ней было мало хорошего. Впрочем, человек вообще противоречив. А моя жизнь вся соткана из противоречий.
Принадлежа к роду знатному, был я самым скудным бедняком. Выйдя из семьи военных, чьи предки добро сражались еще с татарскими ордами, всем обличьем я – сущий штафирка. Окончив медицинский факультет и полюбив врачебную часть, волею судеб сделался не лекарем, а чиновником. Всем в жизни обязан я своему уму и способностям, каковы многие признают изрядными. Но те же качества – начало всех горестей моих. Сам Михал Михалыч утверждает, что я изранился на острие своих мыслей.
А вот и последнее роковое противоречие. Разве не о благе простолюдина помышлял я с ревностью? Разве не скорбь о нем обернулась во мне омерзением к тирану?
Отселе и гороскоп – опасная шутка, которой я пытался высказать свое презрение к самодержцу.
Но кто же несет мне гибель, как не те самые простолюдины, к которым я проникался ярой жалостью!
О последнем я немало еще размышлял. Ваньша с болью и негодованием говорил о временах царя Павла. А как ненавидели этого страшного человека в нашей семье! Дед мой, подполковник Алексей Алексеевич Зарицын, был жертвой его. Курносый объявил, что всякий россиянин может обращаться к нему с челобитной. Дед поверил. И подал челобитную на лихоимцев – интендантских чиновников. Воспоследовала резолюция: «Публично высечь!» Не выдержав позора, дед застрелился. Курносого в нашей семье ненавидели не менее люто, чем ненавидел его Ваньша. Матушка моя иначе не называла его, как людоедом.
Все мое существо залила боль. Явственно привиделась матушка, как стояла она на крылечке нашего двухэтажного деревенского домика, благословляя меня в путь-дорогу.
Пора была предзимняя, и седые ее волосы мнились тронутыми изморозью. Маловесный ветерок лениво перебирал их.
– Пусть не оставит тебя твой ангел-хранитель. Не оставит тебя, – повторила она, крестя дрожащей рукой.
Ах, матушка, матушка! Отчего не вняли небеса моленьям вашим?
Сменялись часовые. Где-то неподалеку давненько уже трещали дрозды, и начала свою грустноватую песенку горихвостка. Значит, уже далеко за полночь. Близится мое последнее утро.
Проснулась кукушка – предрассветная птица. Теперь и рассвет – вот он… И правильно: не стоит спрашивать у кукушки, сколько мне жить. И без того ясно.
– Пить! Пить! Испить поднесите!
Стоны больного заглушили все лесные звуки. Мужик, стоящий на часах, бросился к нему с ковшом воды.
Проснулся Ваньша. Он подошел к больному, склонился над ним.
– Крепись, Василий, крепись, Васек, ить сам виноватый. Жалиться не на кого. Да ништо! До свадьбы заживет.
Я с трудом узнавал голос предводителя. В нем плескались участие и нежность.
Васек вдруг что-то заговорил, потом запел на гортанном языке. И, странно, так захотелось мне понять его. С давних лет увлекаясь языками европейскими, я искренне пожалел, что не узнал тюркских.
Ваньша отошел от больного и медленно прохаживался по поляне.
– Что с ним? – указав на Василия, спросил я.
– А тебе не все едино? – вопросом отвечал атаман.
– Стало быть, не все.
Ваньша презрительно сплюнул.
– Жалость норовишь выказать и тем к себе разжалобить?
– Не суди всех людей по себе, – возразил я.
– Нешто ты человек, – взъярился Ваньша, и шрам его начал темнеть. – Нешто вы, господа, – люди. Зверье вы двуногое. Туда же – «что с им?». Вот поглядим, что с тобой станется! На жалости подъехать надумал.
Ваньша нервно забегал по поляне, сворачивая то в одну, то в другую сторону. Запнулся обо что-то, отозвавшееся металлическим звоном. Матерно ругаясь, пошарил в траве и поднял мой ящик с инструментом. Равнодушно раскрыл его. Удивленно спросил:
– Ты что, барин, лекарь?
Я было изумился его опытности, но Ваньша тут же пояснил:
– У нашего полкового лекаря и скальпель был, и нитки шелковые… Стало быть, ты лекарь? Так чего ж молчал? Слушай, барин, в силах ты нашего Васька поднять?
Атаман вопрошал с надеждой, голос его даже дрогнул от волнения.
– Подымешь – отпущу. Кошель твой возверну. От себя прибавлю. Можешь?
– Я – лекарь. Врачую, а не колдую. Погляжу, тогда, возможно, и ответ дам.
Узкоглазый, плосколицый юноша, почти мальчик, изнемогал от внутреннего жара. Глянув в его изжелта смуглое лицо, я почуял – дело плохо. Бессильно приоткрытые губы, потухшие глаза. Во всем – полное безразличие. Видно, он уже перемучился. Стал покорен участи своей.
Как объяснил мне Ваньша, все приключилось три дня назад. Мальчик возился с ружьем и по нечаянности выстрелил себе в руку. Пуля засела в предплечье, где всяческих сосудов изобилие. Видимо, начались явления сепсические.
Нужна была операция. А это я менее всего умел, ибо оператором никогда не был. Только собирался практически начать обучаться этому в Сибири.
Ваньша поглядывал на меня с тревогою.
– Буду резать, – решился я. – Надо извлечь пулю.
С этой минуты роли наши переменились.
Я начал приказывать, а Ваньша, поднявшиеся от сна Гордей, Пахом и другие мужики – исполнять.
Велел разжечь костер. Вскипятил воду. Прокалил пинцет. Изготовил повязку.
Приказал:
– Держите больного.
Мужики держали мальчика за ноги, за здоровую руку.
– Не трусь, Васек, – уговаривал Ваньша. – Лекарь из тебя пулю вытащит, на поправку пойдешь.
Я наложил повязку возле плеча, чтобы предотвратить кровотечение, рассек кожу. Показалась кровь.
Васек закусил губу. Несмотря на жар, мертвецки побледнел, но молчал. Скальпель проник и в подкожную клетчатку.
– Ох ты, маленький, – по-бабьи запричитал Гордей. – Не могу глядеть.
«Ну, разбойники, – дивился я. – Крови боятся!»
– Держи, – приказал Ваньше, передавая ему скальпель. Быстро наложил зажим. Шелковой нитью перевязал кровоточащий сосуд.
– Скальпель, – потребовал я.
Ваньша подал проворно, как заправская милосердная сестра.








