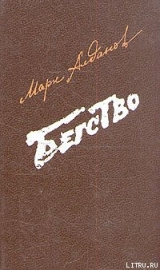
Текст книги "Бегство"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
– Прощайте, гражданин. Пока, – холодно-учтиво сказал, выходя, помощник комиссара. Смотритель вздохнул с облегчением.
– Сюда пожалуйте, – очень вежливо, даже почтительно, пригласил он Николая Петровича. – Вы можете идти, – предложил смотритель провожатому с фонарем, открывая другую дверь. За ней было светлее.
– Книгу велено сдать, – сердито сказал Сидоренко.
– Я сейчас принесу. Вот только их отведу и распишусь, – поспешно ответил смотритель.
X
«Социалистическое отечество и революционная столица в опасности. Враг у ворот. Рабочее население Петрограда, бросив мирные занятия, взялось за оружие и готово грудью защищать столицу от неприятельского вторжения…»
«Первый социалистический партизанский отряд 3-го пехотного полка в составе 175 человек продвигается по направлению к Пскову…»
«В отряд вошли матросы, пехотные части, артиллерия и кавалерия. Отряд будет действовать партизански. Вся Балтика, северная Россия и Сибирь спешно формируют отряды, которые входят в этот отряд. Всех отпускных и демобилизованных солдат отряд будет привлекать в свои ряды. Всем трусам смерть! Да здравствует революционная война!..»
В фойе послышался звонок. Стоявший у стены перед афишами высокий седобородый человек бросил папиросу и неторопливо направился в зрительный зал.
В прощальный спектакль давали старую пьесу, лучшие артисты уже уехали, тяжела была жизнь людей, составлявших обычную публику Михайловского театра, тем не менее зал был переполнен. Это было и прощаньем с покидавшей столицу французской труппой, и последней демонстрацией в честь союзников, – немцы только что захватили Псков после разрыва Брестских переговоров.
Актерам аплодировали с необыкновенным подъемом и восторгом. По окончании первого действия капельдинеры торжественно внесли на сцену крошечный венок, еще какие-то тощие букетики. Вид этих цветов был так жалок, и так жалка была вся зала, что видавшая виды французская артистка, прижимая к груди букет, вдруг на сцене заплакала, искренно, навзрыд, – едва ли не первый раз в жизни.
– Вы знаете, господа, – сказал в ложе князь Горенский, – у них в буфете есть рокфор! Как, почему, какими судьбами, не понимаю, но у них в буфете есть рокфор! И недорого: три рубля бутерброд. Право, это непостижимо и превышает меру понимания человеческого ума. В этом рокфоре есть что-то мистическое!
– А я думал, сэр, – лениво отозвался Нещеретов, – я думал, для вас дело не в рокфоре, а в том, чтоб довести страну до Учредительного Собрания… Вот, вот, тоже сорвался в буфет, – добавил он, показывая глазами на выходившего из ложи Брауна. – Эх вы, рокфорофилы!
– Как вам угодно, друзья мои, – говорила, смеясь, Муся в противоположной ложе бенуара, внимательно осматривая себя в зеркало пудреницы. «Нет, не блестит нос…» – Как вам угодно, а этот человек меня волнует.
– Кто? Нещеретов?
– Что ты, Муся! – начала Тамара Матвеевна, которую, ввиду торжественного спектакля, тоже взяли в театр. – Что ты, он такой неотесанный и неинтеллигентный!
Лицо Тамары Матвеевны выразило отвращение от неотесанности и неинтеллигентности Нещеретова. Муся с досадой повела бровями и спрятала пудреницу в сумку.
– Разумеется, Браун, а не Нещеретов… Положительно, этой мой грех.
– Почему? Почему? – спрашивала Сонечка.
– Я и сама не знаю, почему… Хорошо играет Полетт Пакс, правда?
– Какое старье! Нет, какое старье, какой хлам! – проникновенно говорил Березин (не знавший ни слова по-французски). – Да, если хотите, это забавно, но мертво, Боже, как мертво!
– Мертво, конечно, – согласилась Муся. – Да ведь к этому искусству и требованья другие: мило, просто, вот и все.
– Мило, просто, – укоризненно повторил Березин. – Но искусство, поймите же, по самой своей природе не мило и не просто, по крайней мере для тех, для кого оно отнюдь
не приятный отдых, не послеобеденная забава, а великий труд, подвижничество, весь смысл жизни. А это, это зовите, как хотите, только умоляю вас, не называйте это искусством!
– Ах, все-таки французские пьесы бывают такие остроумные, – робко оглядываясь на Мусю, сказала Тамара Матвеевна. – Я помню, мы с Семеном Исидоровичем в Париже прямо хохотали до упада…
– Не знаю, меня Мейерхольд в последнее время утомляет, – перебила ее Муся, рассматривая зал в бинокль. – Скорее неореализм, искания Таирова, я думаю, будущее принадлежит этому. – Муся, как всегда, говорила первое, что ей приходило в голову.
– Мейерхольд сам по себе, Таиров сам по себе, и я, если разрешите, тоже сам по себе, – склонив голову набок, сказал Березин. – Заметьте, я нисколько не ревнив и охотно отдаю кесарево кесарю… В прошлом я отдаю должное даже заслугам старика, – с легкой снисходительной улыбкой произнес он (под стариком разумелся Станиславский, Муся тотчас это поняла и улыбнулась так же ласково-снисходительно). Да, конечно, Мейерхольд сделал очень много. Я не все принимаю в арлекинаде, в возвращении к принципам Commedia dell’ Arte[19]19
Комедия масок (ит.)
[Закрыть], в теории масок, здесь я о многом готов спорить и спорить до последнего издыхания. Но когда – помните? – китайские мальчики бросали в зал апельсины, я чувствовал, как у меня по спине пробегает та знакомая магическая дрожь волненья, которую я всегда чувствую при высоких достижениях истинного, большого искусства; да, признаю, признаю, оргическая фантастика никем не была выявлена с большею жутью… Я ценю и заслуги неореалистов, синтетического театра с его магией освобожденного актерского тела. Очень, очень верю в трехмерное пространство, многого жду от кривых плоскостей, особенно от конических наклонов, все это так, но ведь это только эпизод в грандиозной революции театра!.. Пусть крупный, пусть значительный, но эпизод!
– Я знаю вашу собственную теорию сцены, как кристалла-тетраэдра, – поспешно сказала Муся.
– Сергей Сергеевич надеется в будущем применить ее в кинематографе, – вставила, покраснев, Сонечка.
– Ах, это замечательная теория! – сказала с жаром Тамара Матвеевна. – Хоть я, конечно, не знаток, но… Вот идет Александр Михайлович, верно, к нам…
Браун пересекал зал по центральному проходу. Тамара Матвеевна издали улыбалась ему самой приветливой своей улыбкой. Он холодно поклонился и, отвернувшись, прошел мимо их ложи в коридор.
– Нет, какой нахал! – восторженно сказала Муся.
«К оружию, товарищи! Смертельная опасность нависла над всеми завоеваниями революции со стороны обнаглевшего германского империализма. Варвары немцы готовы затоптать драгоценные свежие ростки русской молодой свободы. Своим продвижением вперед, после согласия со стороны советской власти на мир, они готовятся похоронить русскую революцию и надолго лишить всех вольных сынов революционной России надежды на светлое счастливое будущее. Чувствуя сердцем гражданина весь этот страшно-опасный момент для страны, горячо ценя блага свободы и сознавая, что сейчас дорог каждый человек в рядах бойцов и защитников социализма…»
– Ничего, не волнуйтесь, они приглашают в тир, – негромко сказал кто-то. Браун вздрогнул и оглянулся. Седобородый человек стоял у афиши. Браун смотрел на него с изумлением.
– Да, это я… По голосу узнали? – улыбаясь, спросил Федосьев. – Надеюсь, по лицу узнать невозможно?
– Нелегко… Какими судьбами?
– Самыми обыкновенными революционными судьбами.
– Так вы в Петербурге?
– И не выезжал никуда. Хотите пройти в буфет? За мной слежки нет, а антракт длинный.
– Очень рад.
– Чаю выпьем… Хорошая вещь стенная газета… Да, это они в тир зовут, – повторил Федосьев, показывая с усмешкой на другую афишу. В ней говорилось:
«Каждый рабочий, каждая работница, каждый крестьянин и каждая крестьянка должны уметь стрелять.
Из винтовки, из револьвера, из пулемета.
Все на курсы обучения военному делу!
Все к тирам стрельбы из винтовок и пулеметов!
Все к оружию!»
– Вот, должно быть, паника в главной квартире Гинденбурга, – сказал Федосьев.
– …Да, но еще вопрос, искусство ли это, Сергей Сергеевич?
– Я ставлю вопрос не в таком разрезе. Все зависит от того, в чьих руках будет кинематограф. Дайте его истинным художникам и, ручаюсь вам, он ударит по струнам с неведомою силой. Надо же наконец понять, что актер есть актер! И что режиссер есть режиссер! Они по меньшей мере такие же творцы, как автор. Дайте им коснуться магии художественного создания, и они воспрянут, как Антей, соприкоснувшийся с матерью-землею. Дайте творческую свободу режиссеру, – я разумею режиссера настоящего, режиссера милостью Божьей, – и он этой свободой, как Архимедовым рычагом, зажжет великий пламень в мире! Надо бросить в печь весь этот хлам и дребедень, которыми теперь кинематографы развращают малых сих… Если хотите, дело даже не в том, что именно ставить, – поспешно сказал он, взглянув искоса на Сонечку. – Разумеется, я предпочел бы Шекспира, Данте или столь милого сердцу моему Ибсена, но, если нужно, я готов ставить и другое, лишь бы моей творческой воле был предоставлен должный простор… Я готов даже на первое время идти на компромиссы: можно возвести в перл создания мелодраму, рассчитанную на пусть наивный, пусть неискушенный, но и здоровый, крепкий, мужественный вкус народных масс, живительная роль которых будет теперь все расти в новом творческом театре… Однако… Сейчас меня мучит один художественный замысел: «Еду ли ночью по улице темной…»
– Ах, это будет чудесно! – воскликнула Сонечка.
– Да, это будет чудесно, уж вы простите нескромность. Но я поставлю это по-своему. Новое вино не надо лить в старые мехи. Нет, я не возьму сценария ни у Сологуба, ни у Блока, – говорил Березин таким тоном, точно Сологуб и Блок убедительно просили его взять у них сценарий. – Я пойду к новым, к молодым, вот к нему, – сказал он, показывая на Беневоленского, с которым разговаривала Тамара Матвеевна.
Их было пятеро в ложе: Муся решила пригласить Березина, Сонечку и Беневоленского, потому что им всего меньше было оказано любезностей в течение последнего сезона. Никонов терпеть не мог Михайловского театра. Фомин, наверное, пошел бы, но тогда в ложе было бы шесть человек; Муся этого не любила.
– Да, у вас это может выйти забавно, – сказала Муся Березину. Слово «забавно» как будто не очень подходило, но Муся знала, что в ее разговоре с Березиным это слово имеет другой, технический смысл; передовому живописцу она сказала бы даже: «Это у вас выйдет смешно». Сонечка, еще не знавшая артистического языка, испуганно взглянула на Березина, как бы он не обиделся? – Непременно это сделайте, непременно, – рассеянно добавила Муся, прислушиваясь к тому, что говорила Беневоленскому Тамара Матвеевна.
– …Семен Исидорович привык к егеровскому белью… Вы знаете егеровское белье? Прелестное белье, но его теперь – увы! – ни в одном магазине нельзя найти.
Тамара Матвеевна произносила: «магазин» с ударением на втором слоге, от чего у Муси всякий раз поднималась злоба. «И это „увы“!.. Ах, Боже мой, она добрая и милая, но если б поскорей от них уехать!»
– …Вот и ее хочу попробовать, – сказал Березин, фамильярно прикоснувшись к плечу Сонечки, которая так и зарделась.
– Я слышала… Она теперь этим бредит… Это серьезно?
– Попытка не пытка. Попробуем. Вдруг из девочки выйдет толк?
– …Вот каковы дела, о которых вы спрашивали, Александр Михайлович. Подумал я: что ж, если левые не очень-то теперь работают, так не взяться ли мне, матерому волку? Что вы скажете?
– Скажу: дай вам Бог успеха. Все лучше, чем они…
– Спасибо и на этом, – заметил, улыбаясь, Федосьев. – По-моему, есть шансы на успех. А по-вашему?
– По-моему, почти нет. Все худшее в России, естественно, повалило к большевикам, но где же все лучшее? Впрочем, я в последнее время вообще настроен безнадежно. Так Шопен после взятия Варшавы называл Господа Бога москалем…
– Однако, ведь вы взваливаете вину не на Господа Бога?
– Нет, больше на «ближних». Делю их на две основные группы: одних без разговоров и тотчас повесить, а другим, пожалуй, достаточно вырвать ноздри.
– Я надеюсь, меня вы относите ко второй категории?
– Да, можно и ко второй.
– Вы слишком гуманны… Я думаю, бесполезно продолжать наш давний спор о старом и новом строе, об ответственности деятелей того и другого? Тут мы едва ли сойдемся.
– Едва ли… Разве установить комиссию для выяснения умственных способностей этих деятелей… De lunatico inquirendo?[20]20
О поисках лунатика (лат.)
[Закрыть] это, кажется, называлось у римлян?
– Ничего не имею против такой комиссии. Но с неограниченными полномочиями, правда? С правом исследования мозгов даже у героев освободительного движения?
– И даже у особ первых трех классов.
– Очень хорошо. О многих особах первых трех классов я, пожалуй, еще и от себя представлю в вашу комиссию материалы. Но, вы знаете, без дураков и умные дела в истории не делаются.
– Боюсь только, что вы в своих исторических делах предоставили дуракам несколько большую роль, чем требуют самые строгие исторические традиции.
– Был грех, – сказал Федосьев, – был грех. Правда, твердая, исторически сложившаяся власть может позволить себе и вольности… В лучших языках есть неправильные глаголы. Нехорошо однако, что люди революционного образа мыслей стилизовали нас всех под идиотов. Так у плохих писателей все извозчики непременно говорят: «Так што, вашество», а все евреи: «Что значит?» Но литературная стилизация несколько безобиднее политической. Будьте нам благодарны хоть за все зло, которого мы не сделали. Ей-Богу, могли сделать гораздо больше!
– Вы, право, меня растрогали! Допускаю, допускаю, могли сделать еще больше зла.
– Что ж, о некоторых из наших преемников и этого не скажешь. Чуть только был случай сделать глупость, сломя голову набрасывались! Ни одного не пропустили… Спросите себя, Александр Михайлович, по совести, чью власть народ больше уважал: нашу или наших преемников?
– Это меня не интересует… Лакеи никогда не уважают тех, кто с ними слишком вежлив.
– Ваш демократизм всегда меня повергал в смущение, – смеясь, сказал Федосьев. – Но мы очень отклоняемся в сторону… Почему это, кстати, мы впали в такой веселый тон? Казалось бы, нечему радоваться.
– Так, привычная форма наших разговоров. Из формы не выйдешь. Я недавно читал, в 1812 году московский обер-полицеймейстер писал царю: «Имею счастье доложить Вашему Императорскому Величеству, что сего числа французская армия вступила в Москву». Вот и мы так, нам выпало еще большее счастье. Возвращаясь к делу, скажу, что, по всей вероятности, вы человек конченый…
– В политике нет конченых людей.
– …Смотрите, что за стаканы! – пренебрежительно говорил у буфета осанистый пожилой господин с морщинистым лицом и седыми бакенбардами. – Разве так моют стаканы? Верно, бумажным полотенцем вытирают, Бог знает что такое!
– А каким надо?
– Разумеется, холщовым. Я всегда все перетираю холщовым полотенцем: от бумажного остается муть… И потом разве это чай? Зайдите завтра в нашу кофейню. Nadine вам даст настоящего чаю. Она подает, а я мою посуду… И недорого: два рубля стакан с двумя кусками сахара. Да-с, parfaitement[21]21
вот именно (фр.)
[Закрыть], с двумя кусками! Imaginez-vous, la grande duchesse est venue hière à I’improviste comme c’est son abitude. Elle a été ravie… Mais ravie, vous dis-je!..[22]22
Представляете, вчера совершенно неожиданно пришла великая герцогиня, у нее такая привычка. Она была в восхищении… Да, в восхищении, уверяю вас!.. (фр.)
[Закрыть]
– Я непременно зайду… «Au delice du gourmand»[23]23
«Услада гурманов» (фр.)
[Закрыть] за Думой? Я и то все хотел зайти… Mettez-moi aux pied de la comptesse…[24]24
Посадите меня у ног графини… (фр.)
[Закрыть] Хорошо играют, правда?
– Paulette est admirable. Elle me rapelle notre chère Rèjane du temps jadis.[25]25
Полетт восхитительна. Она мне напоминает нашу дорогую Режан былых времен.
[Закрыть]
– N’ exagerons rien![26]26
Не будем преувеличивать! (фр.)
[Закрыть] Была только одна Режан!.. А как вы думаете, скоро вся эта ерунда кончится?
– Я уверен, они до лета не дотянут! Надо потерпеть… Бедная Nadine стала кашлять.
– Надеюсь, ничего серьезного? Я тоже расклеился. Да, перетерпеть… Союзников очень жалко!.. А слышали, говорят, нас всех скоро погонят на какие-то работы!
– Работы так работы. Не запугаете, как говорил Петр Аркадьевич.
– …Спор о прошлом, Сергей Васильевич, меня, признаюсь, теперь интересует мало. Однако из любопытства я вам задаю этот нескромный вопрос: вы что ж, за собой никакой ответственности не чувствуете?
– Я был не один.
– Была система, и в ней вы в свое время не последний человек.
– Это, извините меня, в марте говорила каждая кухарка, – с досадой возразил Федосьев.
– Кухарка была совершенно права. Деспотическая власть может посмеиваться над людьми, если она проницательна, если она тверда, в особенности, если она удачлива. Но деспотическая власть, ничего не предвидевшая, никаких мер не принявшая, сдавшаяся врагам без боя!.. Собственно, вы кроме пулеметов ничего и не предлагали. Это для идейного политика немного, но, не отрицаю, пулемет мудрая вещь: тысячи аргументов в минуту… Оказалось, однако, что у вас нет и пулеметов! Что же у вас было? И, как ни глупо «потомство», на что тут можно рассчитывать, Сергей Васильевич?
– На силу контраста с прелестью революционного творчества.
– Вот, разве на это… Только и здесь есть одно обстоятельство… Вы черносотенцем никогда не были, – немного покрывали черносотенцев, да стоит ли говорить о всяком неправильном глаголе? – поэтому вам не могут быть обидны мои слова. Ведь что такое большевики? Самые настоящие черносотенцы en chair et en os[27]27
доподлинные (фр.)
[Закрыть], и по умственному уровню, и по культурному уровню, и по моральному уровню, и по всем решительно уровням. Я иногда себе говорю: «Нет, сделай поправку на свою к ним ненависть, на тот вред, который они нанесли лично тебе». Делал поправку, выходит все-таки: черносотенцы. По методам, и те, и другие – погромщики. Есть, конечно, некоторая разница в целях. Идеал большевиков: сытый, послушный, самодовольный хам без различия национальности. Идеал черносотенцев: сытый, послушный, самодовольный хам русской национальности. Но ведь это не так существенно: благо ста миллионов людей идеал тоже очень почтенный. Да еще, у черносотенцев не было, кажется, вождя, равного Ленину по практическому уму и силе воли. Вождей помельче, столь же ученых «теоретиков», столь же искренних «фанатиков», столь же откровенных жуликов, у черносотенцев было никак не меньше. А хороших, «вдохновенных» ораторов, пожалуй, было побольше… Вы спросили, к чему я это говорю? Вот к чему. Черносотенцев культурный мир неизменно и откровенно презирал. Перед большевиками культурный мир расшаркивается, – иногда злобно, иногда холодно, но почти всегда «отдавая должное». Новый Гамзей Гамзеевич расселся в Пантеоне истории и, боюсь, расселся там прочно. На месте старого – я умер бы от зависти и злости.
– Если вы это говорите для того, чтобы нагляднее показать, какова цена культурному миру, то нам спорить не о чем, – сказал, пожимая плечами, Федосьев.
– Однако некоторая практическая ценность мнения культурного мира несомненна. Вы и этого приобрести не сумели! Повторяю, не вы лично, а те, которых вы порою покрывали.
– Покрывал я их чрезвычайно редко… Да, признаюсь, иногда по необходимости покрывал, – со скрежетом зубовным, со стыдом и с презрением… Что же до разницы в отношении культурного мира, то быть может, дело объясняется просто. У нас черносотенцы все-таки не добрались ни до вершин власти, ни до погребов Государственного Банка. В их распоряжении миллиардного золотого фонда не было. А то могли бы покорить культурный мир. Ей-Богу, могли бы!.. При нашем старом строе все было неизмеримо лучше поставлено, чем publicité[28]28
реклама (фр.)
[Закрыть]. Это не то по глупости, не то от нашего барства: в рекламе не нуждаемся, ври о нас, что хочешь…
Браун засмеялся.
– Вы очень преувеличиваете, – сказал он. – Я знаю цену культурному миру, но за деньги его так гуртом не купишь.
– О, это не делается в форме простой взятки. Деньги, власть создают престиж, открывают огромные возможности шарлатанства. Наша старая власть не оценила великую идею саморекламы.
– Нет, нужен был еще большой дар эвфемизма, свойство в политике чрезвычайно важное: надо было заставить мир назвать всероссийский погром не погромом, а освобождением трудящихся классов. А главное нужно было попасть в точку. Мир готовится – по счастью, медленно – к очень страшной революции. Революция против монархий не страшна, – страшна революция против носового платка… Я, быть может, и не знаю, куда следовало бы идти веку. Но уж во всяком случае он идет туда, куда не следует.
– Да кто же его знает, куда он идет? Черт с ним, с веком! Давайте, Александр Михайлович, отпустим, хотя бы на время, друг другу разные грехи и проделаем часть дороги вместе? Ну, хоть очень небольшую часть, а? Что, если б вы согласились нам помочь? Ведь я все к этому вел.
– То есть образуем союз конченых людей?
– Посмотрим, что из этого выйдет? Я вам сказал в начале нашей сегодняшней беседы, что мы делаем и каковы наши планы… Эх, досадно, скоро конец антракта…
– Просидим здесь до следующего.
Рукоплесканьям не было конца. Вся труппа Михайловского театра, включая артистов, не выступавших в пьесе, низко кланялась публике. И в зале, и на сцене теперь многие вытирали слезы.
Дотащившийся до рампы седой старик в потертом старом пальто, с плохо завернутым в бумагу котелком под мышкой (в таких котелках теперь продавались разносчиками на улицах домашние котлеты) истерически кричал: «Au revoir!.. Revenez!..»[29]29
До свидания, возвращайтесь! (фр.)
[Закрыть] Скептический крик передовой газеты, часто ругавший французскую труппу за рутину в игре и репертуар, вдруг тоже вынул из кармана носовой платок и поднес его к глазам. «Расчувствовался, старый дурак!.. – тотчас подумал он, стараясь себя утешить этой сердитой мыслью. – Ну, и пусть камергеры теперь поторгуют котлетами, мне что!..» Почему-то ему пришло в голову, что Петербург умирает и что он сам скоро умрет.
– Все-таки, как ни говорите, сто лет просуществовала у нас французская труппа, – сказал критику его сосед. – А теперь какое уж «Revenez!», сударь мой. – Это «сударь мой» было тоже бессознательной данью старине.
– Ну и достаточно! Хорошего понемножку, – пряча платок в карман, проворчал критик, оберегая свою репутацию желчного, беспощадного человека.
– …Со многим из того, что вы говорите, я согласен. Но, разумеется, далеко не со всем. Многого мы вовсе не коснулись… Надо еще поговорить, и не здесь, конечно. Может, до чего-нибудь и договоримся.
– Но в принципе вы согласны работать с таким человеком, как я?
– И на это, прямо говорю, я сразу не могу ответить… Скажу только, что слякоть мне надоела, без различия направления слякоти… А вы, разумеется, человек энергичный и вдобавок, для таких дел, превосходный техник… Но ведь я могу быть полезен только своими химическими познаниями.
– Это очень важно… Незачем вам говорить, чем все это грозит в случае провала?
– Я не ребенок.
– …Вот то-то оно и есть, сэр… Языком чесать чесали так, что лучше не надо. А как до дела дошло, так и в кусты… Да-с.
– Нет, не да-с, – раздраженно сказал князь.
– За одно их люблю, сволочь эту, – продолжал Нещеретов. – За то люблю, что разогнали Учредительное Собрание… Молодцы!
– Не стоит, право, и возражать.
– Так и расцеловал бы этого матроса Железняка… Кстати, знаете ли вы, сэр, последнее немецкое зверство: они не хотят занять Петроград!
– Я уже слышал эту милую шутку.
– Ну-с, ладно. Надо и то в буфет сходить, побаловать чайком утробу. Вы не пройдете со мной, сэр?
– Нет, спасибо, я уже баловал утробу.
– Так до скорого, до приятного… «Пока», – говорит хамье…
– …Смысл урока? Он, понемногу, намечается. Ставка на зависть, тупость, страх, ненависть – и только на них – оказалась далеко не безнадежной. Оказалось, достаточно сказать низам: «вы будете жить еще много хуже, чем жили прежде, но зато те, которые прежде жили хорошо, будут гораздо несчастнее вас», – чтобы привлечь низы на свою сторону. Оказалось, достаточно создать на верхах атмосферу зверинца, чтобы не стало отбоя от зверей. Оказалось, что честь и совесть вытравляются без особого труда, – лишь бы у вытравляющих была готовность идти решительно на все. Государство наше рухнуло, а наша жизнь, в которой было много истинно прекрасного, такого, чего я нигде в мире не видел, наша жизнь даже не разрушилась, а просто расползлась. Так, на моих глазах, теперь расползаются вполне порядочные люди, еще вчера не подозревавшие, что и они кандидаты в зверинец… И, разумеется, то, что случилось с нами, могло случиться с Францией, Англией, Германией, – теоретические выводы мои имеют очень общий характер. Народы становятся чистыми объектами истории (простите косноязычные слова), именно тогда, когда они объявляют, что наконец-то стали ее субъектами. Или, точнее, когда им это объявляют. Самые совершенные формы рабства создаются, конечно, революциями. Я, Сергей Васильевич, никогда не собирался, как Франциск Ассизский, воспевать хвалу Провиденью за прелесть бытия и за красоту человеческой природы. А теперь и подавно. Для меня настало время, когда ничто больше не радует, а все расстраивает и, в особенности, все раздражает… Могу уйти просто, могу уйти с шумом. И разницы большой нет… Романтично? По-моему, даже и не романтично. Но это так: полная потеря любви и интереса к жизни, только и всего. И «билет почтительно возвращать» не надо: спектакль все равно подходит к концу.
– Давно это с вами?
– Давно.
– Года полтора?.. Одним словом, не так давно?
– Нет, больше… Я говорю: давно, – подумав, повторил хмуро Браун. – И с каждым днем хуже. Ничего… Какой-то писатель сказал: «все кончится очень хорошо, – смертью»…
– А я, напротив, чем дольше живу, тем больше жить хочется… Может, потому что я мало жил для себя. Вот как если чай пить, не размешав ложечкой в стакане: чем ближе ко дну, тем слаще…
Из зала послышались бурные рукоплесканья.
– Сейчас опять нахлынет публика, – сказал Федосьев. – А я хотел вас просить еще и о другом. С вами в ложе сидел Нещеретов?
– Да, это его ложа.
– Познакомьте меня с ним, пожалуйста.
– Денег хотите? Не даст.
– И я подозреваю, что не даст. Но отчего же не попробовать?
– Попробовать можно. С удовольствием вас познакомлю, хоть он умрет от страха. Или вернее: так как он умрет от страха.
– Спасибо… И вот что еще. Вы, кажется, хороши с майором Клервиллем, членом британской военной миссии?
– Да, мы приятели.
– Вот и с ним тоже, пожалуйста, меня сведите. С англичанами у меня нет связи. К немцам есть ход, а вот к союзникам…
– Ах, так к немцам у вас уже есть ход? Об этом вы мне ничего не сказали.
– Пока ничего определенного.
– Ничего определенного? Повторяю, на это я не пойду… Но как же так? И с немцами переговоры, и с союзниками?
– Отчего же нет? Какие могут быть дурные последствия?
– Последствия естественные, – сказал Браун. – Вы мне напомнили того англичанина, который спросил знаменитого юриста: какое наказание полагается за двоеженство? Юрист ответил: две тещи… А я вас спрошу: сколько человек было повешено в последние три года за склонность к военно-политическому двоеженству?
– Об этом я, Александр Михайлович, в шутливой форме говорить не склонен. Дело идет о спасении России, следовательно все другие соображения отпадают. Аналогия с прошлым теперь совершенно неуместна и даже невозможна. Мы собственными силами спастись не можем. Вопрос в том, кто нам поможет?
– На кого же больше надежды?
– На немцев, разумеется.
– Почему «разумеется»?
– По многим причинам. Во-первых, они умнее и решительнее. Во-вторых, они гораздо ближе: авангарды Гофмана у Орши. В-третьих, вероятно, война кончится победой немцев. В-четвертых… В-четвертых, и союзники, и немцы одинаково начинены ложью и до некоторой степени – только до некоторой степени – у нее в плену. Но условная ложь немцев, хоть и они тоже освободители человечества, легче вяжется с поддержкой черных реакционеров и служителей старого строя, вроде вашего покорного слуги… Со всем тем пробовать надо всюду. Союзные посольства уехали из Петербурга, но военные остались. Если можете, познакомьте меня с этим Клервиллем.
– Вот, значит, для чего я вам понадобился, я и то себя спрашивал… Но Клервилль не занимает важной должности у англичан.
– «Корифейка второго разряда», как были у нас в старом балете? Все-таки познакомьте меня, если вам не трудно.
– Нисколько не трудно… Вы, может быть, слышали, он женится на дочери адвоката Кременецкого и бывает у них каждый день, когда находится в Петербурге.
– Я не знал… Тогда я, пожалуй, снесусь с ним по телефону, чтобы вас не затруднять. Можно на вас сослаться?
– На знакомство со мной? Пожалуйста.
– Только на знакомство… А, может, лучше будет, если вы его предварительно спросите, стоит ли мне являться к нему для беседы… Смотрите, на ловца и зверь бежит.
Он показал Брауну глазами на Нещеретова, который появился в дверях буфета.
– Вот я его вам подкину на съедение, – сказал Браун. – Аркадий Николаевич…
Нещеретов подошел, щурясь, кивнул, как знакомому, Федосьеву и сел за стол, не ожидая приглашения. Он не помнил, знаком ли с седобородым господином, но был совершенно уверен в том, что знакомство с ним, Нещеретовым, всем доставляет удовольствие.
– Пьесу не смотрите, а чаи с сахарами распиваете.
– Вы не знакомы? – предвкушая эффект, спросил Браун. Нещеретов небрежно протянул руку Федосьеву, с одинаковым равнодушием принимая и то, что они еще незнакомы. – Аркадий Николаевич Нещеретов… Сергей Васильевич Федосьев…
– Очень рад, – сказал Федосьев. Нещеретов изменился в лице.
– Вы не беспокойтесь, – произнес Федосьев, не понижая голоса. – За мной нет наблюдения и агентов здесь никаких нет. Положитесь на мой опыт и знание полицейского дела. Слежка у них вообще пока поставлена плохо, хоть они бесспорно подают надежды.
– Да я нисколько не беспокоюсь, – поспешно ответил, откашлявшись, Нещеретов. – Что, чай сносный? Верно, очень гадкий, не стоит и пить.
– Отличный чай, – весело сказал Браун. – Дайте, пожалуйста, еще чаю, – обратился он к проходившему лакею.
– Я рад случаю встретиться с вами, Аркадий Николаевич, – так же ровно продолжал Федосьев. – Не скрываю, это и не совсем случай: мне нужно поговорить с вами о деле.
– Очень рад, но, помилуйте, какой же здесь разговор о деле? – беспокойно оглядываясь, сказал Нещеретов; он забыл и свой купеческий стиль, и «словоерик». – Для дела можно найти и время, и место.
– Время можно, но место труднее. Разумеется, я с удовольствием зашел бы к вам, но это было бы все-таки связано для вас с некоторым риском. Здесь же совершенно безопасно. Это, кстати сказать, старый прием: известнейшие революционеры назначали друг другу свиданье в театрах, в ресторанах. Я следую великим образцам.
– Я слушаю… В чем дело?
– Дело вот в чем. Организация, во главе которой я стою, ведет борьбу с большевиками. Для борьбы нужны деньги, большие деньги. Мы надеемся, что вы не откажетесь нам помочь.
Браун смотрел то на одного, то на другого, видимо, наслаждаясь зрелищем. Нещеретов отпил глоток чаю из поданного лакеем стакана, оглянулся снова и положил ногу на ногу. Просьба о деньгах была для него привычным делом. Хоть он и раньше догадывался, что дело именно в этом, сказанные о деньгах слова тотчас вернули ему самообладание.








