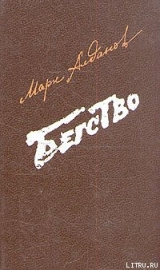
Текст книги "Бегство"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
– Однако, согласитесь, Александр Михайлович, что четыреххвостку нельзя приравнивать к религии. Во всяком случае на людей с такой религией скоро во всем мире будут пальцами показывать: нельзя же в самом деле разгуливать по бирже в костюме эдемского ангела!
– Да ведь в этом-то, повторяю, и драма: старые ценности умерли, новых нет. Мир три тысячи лет держался своего рода предустановленной гармонией, о, не в философском, не в лейбницевском, а в самом обыкновенном житейском смысле слова: по счастливому стечению обстоятельств, человек всегда рождался в той самой вере, которую всю свою жизнь единой спасительной и считал. Потом дьявол искусил: нет, ты подумай, да сравни, да поищи… Чего уж тут ждать хорошего? То, что могло дать жизни не пошлый и не временный смысл, давно стало анахронизмом… Жить надо было либо вечно, либо очень недолго.
– Уточните понятие анахронизма. Европа от римского папы теперь пришла к передовому фармацевту: папу разоблачила, но фармацевта признала. Значит ли это, что история мысли на фармацевте и остановится?
Браун безнадежно развел руками.
– Все шуточки, скептические шуточки, – сказал он. – И Победоносцев ваш скептически шутил, и Валуев скептически шутил, и Тютчев скептически шутил… Одни Россию проболтали, другие Россию прошутили… Урожай на Монтеней был у нас почти такой же обильный, как на Дантонов. А нужен был Энвер и его не нашлось. Мы с вами неудачные кандидаты. Не в этом дело… Я где-то читал: когда в Японии умирает император, его тело под гробовую музыку отвозят в усыпальницу в колеснице, запряженной черными волами. Потом этих волов умерщвляют голодом… Мы черные волы, Сергей Васильевич!
– Судя по предыдущему, я этого не вижу. Вам и на кладбище-то провожать было нечего.
– На землю надвигается тьма, – не слушая Федосьева, говорил Браун, – густая тьма, мрак, подобного которому история никогда не знала. Мрак не реакционный, а передовой и прогрессивный в точном смысле слова. Теперь, кажется, и сомнений быть не может: большая дорога истории шла именно сюда, мировой прогресс подготовлял именно это! История прогрессивно готовила штамп прогрессивной обезьяны, и мы стали свидетелями великого опыта полной обезьянизации мира.
– Нет, уж на историю, пожалуйста, не взваливайте. История, как нотариус, она любой акт зарегистрирует, ей что! Это вы, господа, готовили злую штампованную обезьяну, для которой мы, грешные, держали про запас клетку. А вышло так, что мы-то, все же были изверги и обскуранты, а вот мы умницы и идеалисты. Может быть, немного заблуждавшиеся по своему идеализму, но такие хорошие, такие милые, – со злобой сказал Федосьев. – Памятник не памятник, а так небольшую статуэтку и вам всем поставить не худо… Заметьте, ведь мы-то никому ничего особенного и не обещали. По моим понятиям, государственный деятель в нормальное время должен делать то, что делает хороший городовой на перекрестке оживленных улиц: он регулирует движение, пропускает то одну людскую волну, то другую, стараясь никого не раздражать, когда нужно поднимает палочку. Разумеется, если у него на глазах не горит дом и не работает шайка разбойников… Наше дело маленькое. Это опять-таки ваши друзья, по своей любезности, так щедро раздавали обещания за чужой счет. Ах, да что об этом рассуждать, я об этом и говорить не могу спокойно.
– Да и я, признаюсь, не хочу об этом говорить, особенно с вами, столь случайный мой собеседник и попутчик. Что до памятников и статуэток… Послушайте, та женщина, которая стреляла в Ленина… Вы думаете, через сто лет на месте покушения будет ей стоять памятник? Нет, памятник будет Ленину! Обезьяна поставит ему!
– Не понимаю в таком случае, зачем вы готовили бомбы, – сказал Федосьев, пожимая плечами.
– Отчего же не взорвать князя тьмы?
– Ох, какие слова! Это бы вы тоже приберегли для «Ключа», – смеясь, заметил Федосьев. – Впрочем, вы и так, верно, пробуете на мне отрывки из своего шедевра. Уж очень красноречиво.
– Слова самые обыкновенные, – ответил хмуро Браун. – Я об этой тьме говорю, о тьме, надвигающейся на мир по строгим законам исторического прогресса.
– Но как бороться против того, что по-вашему должно восторжествовать?
– Отчего же нельзя? Большинство людей живет положительными идеями, – пусть худосочными, пусть дешевыми, но положительными. У интеллигенции для видимости вера в прогресс, по существу вера в личное счастье: и обман положительный, а самообман тоже положительный. А я, Сергей Васильевич, могу связать свою жизнь только с отрицательной идеей. В истории началась великая борьба, настоящая борьба на истощение, – что кому опротивеет раньше: культурному миру его фасадный порядок или миру большевистскому его хаос в хамстве? Мой выбор сделан прочно, сделан навсегда и без оглядки. Быть может, за тем фасадом пустыня, с разбросанными по ней балаганами. Но в ней есть хоть пещеры, последние пещеры, куда могут укрыться от обезьяны последние свободные люди. Здесь же нет ничего, кроме хамства, рабства и тупости. Любить мне больше некого, нечего и не за что. А ненавидеть, оказалось, еще могу, – и слава Богу! Этому стоит посвятить остаток дней.
Лицо его было очень бледно, глаза блестели. Федосьев смотрел на него, насторожившись. «Или это две бутылки вина? – спросил себя он. – А то попробовать? Самое время, на краю гибели…»
– Чем же вы жили до сих пор?
– Жил из любопытства. Или просто по инерции. При минимуме любви к жизни развил максимум жизненной энергии: формула нелогичная, но мыслимая.
– И динамит готовили из любопытства?
– Нет, повторяю, это по ненависти. Да еще из уважения к самому себе.
– Выдуманное чувство, Александр Михайлович, выдуманное: его английские сквайры изобрели.
VI
– …Да, об этом говорить трудно, потому что говорить можно только тяжелыми страшными словами, а они, вдобавок, все давно сказаны, и это дает еще лишний повод для того, чтобы от них отмахнуться с настоящей или деланной скукой. Вопрос передо мной стоял тот же, что перед тысячами других людей до меня: как найти такое – не говорю, миропонимание, но такое ощущение жизни, при котором она имела бы сколько-нибудь разумный смысл? В сущности именно этого я искал двадцати лет от роду – и снова к этому вернулся на пятом десятке. Эти вопросы впервые возникают тогда, когда еще «новы все впечатления бытия», затем вторично после того, как впечатления бытия успеют достаточно опротиветь. Я тридцать лет жил напряженно: очень был любопытен и очень мне тогда хотелось жить. Однако жил я, как и все, по программе, составленной другими… Знаете, как в больших музеях перед наиболее знаменитыми картинами ставят особые скамейки для заранее предусмотренного восхищенья. Вот такие скамейки неизвестно кем, неизвестно зачем, были расставлены наперед и по моей жизни. И я послушно посидел на каждой… Добавлю, что я достиг в жизни почти всего, чего мог достигнуть: приобрел имя, состояние у меня было и я следовательно был избавлен от того, что заполняет жизнь громадного большинства людей, от борьбы за деньги. О власти у нас говорить не приходилось. В своей науке тоже я сделал большую часть того, что мог сделать. И я с ужасом увидел, что у меня ничего нет. Это называется, кажется, моральным банкротством? Скорее это моральная нищета: я не банкрот, потому что и обязательств за собой не знаю, – кем они установлены, где проверены, где закреплены, наши человеческие обязательства? И я, наконец, послал к черту все эти скамейки. Заодно и некоторые картины… Не все, но многие! К черту!
– Верно, в это время вы и познакомились с Фишером?
Браун вздрогнул и мрачно уставился на Федосьева. Язычок пламени лизал копотью стекло. Федосьев прикрутил фитиль. Стало темнее.
– Вы, однако, человек сумасшедший, – сказал Браун.
– Александр Михайлович, какие уж теперь секреты? Может, через час и вас, и меня убьют, независимо от наших достоинств и недостатков, заслуг и преступлений. Скажите, ради Бога, правду: мне не хотелось бы умереть, так ее и не выяснив.
– Какую правду?
– Скажите, ради Бога: вы убили Фишера?
Браун смотрел на него, медленно, с сокрушением, кивая головой.
– Лечитесь, – сказал он. – Это навязчивая идея!
– Нет, в самом деле: вы убили Фишера, Александр Михайлович?
– Да бросьте вы, полноте! – вскрикнул Браун. – Как вам не стыдно!
– Значит, не убивали? – протянул Федосьев, глядя на Брауна. Он наклонился и провел пальцем по столу, на который медленно оседала копоть.
– Успела накоптить лампа… Как это мы не заметили?
– Не заметили.
Они помолчали.
– В свое время вы мне довольно подробно разъяснили вашу гипотезу о Пизарро. Выходило довольно складно. Пизарро так Пизарро. Но тогда вы предполагали, что я работаю на большевиков. Кажется, с тех пор вы имели возможность убедиться в том, что эта ваша гипотеза была не совсем удачной. Как же вам не стыдно? Что, собственно, вы предполагаете?
Федосьев слегка развел руками.
– Я и сам теряюсь в догадках. Конечно, я очень преувеличивал и вашу связь с революцией, и вашу связь с Каровой. Но все-таки… Может, что-нибудь литературное? Какой-нибудь Диоген Лаэртский, с равноценными ощущеньями? Или вообще поиски новых ощущений? Или, быть может, желание проявить торжество своей воли над другими? Вы мне как-то говорили об этой поразившей вас мысли Гегеля. Хоть вы, собственно, и не из тех людей, которые живут по книжкам.
– Господи, какая ерунда! – сказал Браун. – Право, и отвечать стыдно.
– А вы преодолейте стыд.
Федосьев встал, подошел к окну и отодвинул штору. За окном было черно. Раздражающе-медленно падали капли дождя.
– Дождь не прекращается, – сказал он, вернувшись на место.
– Уж если так, – спросил Браун, – то объясните мне вы, откуда, собственно, возникла у вас эта навязчивая идея?
– Возникла в результате строго логического хода мысли.
– Если не секрет, какого? Ну, хоть отправная точка? Да, собственно, почему вы вообще интересовались Фишером?
– Как почему? Должен вам сказать, что половина России была у меня под наблюдением. Я к своему делу относился любовно, как заботливый хозяин. Ночами не спал…
– Все думали в бессонные ночи, за кем бы еще установить слежку?
– Именно. А для наблюдения за Фишером я имел причины. Самые разные причины, начиная с его взглядов.
– Какие же у него были взгляды! Просто был циник, как большинство разбогатевших людей.
– Цинизм, Александр Михайлович, понятие довольно неопределенное: очень много оттенков. Фишер был циник с революционным уклоном. Быть может, он считал а priori мошенником всякого человека, однако к революционерам, я думаю, он относился особо: тоже мошенники, конечно, но по-иному, по-новому. Поверьте мне, все наши революционные меценаты были именно таковы. Человек он был, вдобавок, широкий, щедрый, шальной. Он легко мог отвалить на революцию несколько сот тысяч, а то и больше. Добавьте к этому немецкую фамилию, роль, которую он играл. Добавьте и главное: дочь у него большевичка… Одним словом, я приставил к нему секретного сотрудника.
– Кого?
– Это все равно, кого, – улыбаясь, ответил Федосьев.
– Да ведь дело прошлое.
– Ничего не значит: мы секретных сотрудников не называем.
– А вот Спарафучиле назвали.
– Он не секретный.
– Уж не Загряцкого ли вы приставили к Фишеру?
– Загряцкого? – с удивлением протянул Федосьев. – Того, что обвинялся в убийстве?.. С чего вы это взяли?
– Были о нем какие-то темные слухи незадолго до революции. Потом он, кажется, исчез.
– Чего только люди не говорят! – сказал Федосьев со вздохом. – Нет, разумеется, Загряцкий тут ни при чем… Поселил я в «Паласе» филера, который следил за каждым шагом Фишера. И вот, из донесений я узнал о вашем знакомстве с ним… Вами, как вы знаете, я интересовался давно. Выходило довольно занимательно: с дочерью дружен, с отцом тоже дружен. Странная, казалось бы, дружба? Уж вы не сердитесь, Александр Михайлович, сами говорите, дело прошлое…
– Одним словом, вы установили наблюдение и за мной?
– Так точно.
– Что же оно выяснило?
– Выяснило, что вы бывали на той квартире.
Снова наступило молчание.
– Дальше?
– Становилось все занятнее. Знаменитый ученый и этакая квартира! Выяснилось также, что у вас есть от нее свой ключ. Вдруг разрывается бомба: Фишер отравлен на этой самой квартире! Согласитесь, Александр Михайлович, что и менее подозрительный человек, чем я, мог тогда вами заинтересоваться чрезвычайно. В разносторонних способностях революционеров я никогда не сомневался… Извините меня еще раз, вашу комнату осмотрели, – будьте спокойны, совершенно незаметно, техника у нас, слава Богу, была недурная. Ничего предосудительного найдено не было. Разве только одно странное обстоятельство: того ключа не нашли, – сказал Федосьев, с любопытством глядя на Брауна. – Прежде лежал в среднем ящике стола, а, помнится, дня через два после дела его уже не нашли. Так и не знаю, куда делся ключ? – добавил он полувопросительно. – Должен сказать, больше с той поры я ничего добиться не мог. Ничего решительно, хоть за вами следил до самой своей отставки. Сделал было еще одно изыскание, но оно дало отрицательные результаты.
– Какое изыскание?
– Дактилоскопическое, не стоит рассказывать.
– Милые нравы! – сказал, пожимая плечами, Браун.
– Чьи нравы? Ах, полицейские нравы? – с улыбкой спросил Федосьев.
– Все это вы делали с ведома следователя?
Федосьев засмеялся.
– С ведома Яценко? О нет, я ему ничего не говорил. Почтенный Николай Петрович и по сей день обо всем этом не имеет ни малейшего представления. Но надо сознаться, и я выяснил не больше, чем он. Так с тех пор и стою дурак дураком перед этой загадкой: вы или не вы? Вскоре после того меня уволили, дело давно потеряло практическое значение, но интерес к загадке у меня остался: вы или не вы?
Браун смотрел на него, качая головой.
– Вот какие у нас были реалисты и практики! – сказал он. – В этой фантастической стране главой полиции мог быть маньяк!.. Значит, я отравил Фишера для того, чтобы его миллионы достались товарищу Каровой? Которая, через час, быть может, нас с вами расстреляет?
Федосьев вынул часы.
– Пять минут четвертого. Очень может быть, что через час нас убьют. Не расстреляют: я живым не дамся, и вы, верно, тоже… Да, да, я именно это предполагал. Теперь это кажется нелепостью, – по крайней мере отчасти, – но, согласитесь, тогда дело представлялось в другом виде: теперь все вверх дном. Может быть, тогда вы и рады были бы дать полезное революционное назначение наследству Фишера? Так ли уж это было немыслимо? Теперь все вверх дном, – повторил Федосьев. – Заметьте, что и это фантастическое наследство оказалось как бы мифом, каким-то черным символом: ведь миллионы Фишера растаяли под секвестром. И деньги его, и акции, и что там еще, все теперь совершенно обесценилось, конфисковано, национализировано, все пропало, все досталось им… Очень странная история, – сказал он, помолчав. – Все мы на них работали: боролись, мучились, уничтожали друг друга – с тем, чтобы все досталось им… Ну, да это философия… Так не вы? Значит, не вы?.. Кто же убил Фишера? – спросил Федосьев и вдруг вспомнил, что об этом когда-то его растерянно спрашивал Яценко.
– Мое мнение вам известно.
– Известно? Мне? Ах, тот ваш рассказ: умер от злоупотребления возбуждающими средствами. Да, вы мне это тогда говорили в «Паласе».
– Мы тогда обменялись гипотезами. И в сущности, мы оба были почти правы, – сказал медленно Браун.
– Как же так: оба правы? Вы с этой басней… с этой гипотезой, а я с Пизарро?
– А вы с тем объяснением, которое вы под конец дали мотивам действий… Пизарро.
– Этого я что-то не пойму. Значит Фишер отравился… Вы тогда называли вещество, но я не помню, какое?
– Кантаридин.
– Почему вы так уверенно говорите?
– Потому, что он меня расспрашивал об этом веществе.
– Когда? – спросил, встрепенувшись, Федосьев. – Там? На той квартире?
– Да, и там, на той квартире, – повторил медленно Браун.
– …И вот, тогда я себе сказал, что кругом обманул своего биографа! Для этой грязи, для этих женщин, для этих вечеров он никакой главы отвести не мог бы. А я, старый дурак, я гордился своей биографией! Это было всего глупее. Да, я весь проникнут был тем, что вы только что назвали выдумкой английских сквайров, – ведь вы двойник того худшего, что есть во мне. Но себя обманывать я не мог и не хотел: я увидел, что и я тот же Фишер.
– Нескромный вопрос: ведь это были очень молодые женщины?
Браун смотрел на него с ненавистью.
– Да, молодые. Однако, не радуйтесь: не настолько молодые, чтобы вызвать интерес к делу прокуратуры. Но я тогда ясно понял, что и я не лучше Фишера… У меня все иллюзии исчезли приблизительно в одно время.
– Но чем же кончилась та ночь? Вино, молоденькие женщины… Вы, кажется, сказали, и музыка? Откуда же взялась музыка? Ах, то механическое пианино?
– Да, играло пианино… Вторую сонату Шопена. Знаете?
– Нет, не знаю… Значит, тогда он заговорил о кантаридине?
– И соната была отвратительная, и женщины, – говорил Браун, не слушая Федосьева, глядя мимо него на окно. – Все было отвратительно! Самое отвратительное был, конечно, он сам. И в нем, как в зеркале, я тогда впервые увидел себя… Очень страшно!.. Очень страшно, – проговорил он вполголоса.
«Верно и выпито было немало… Как и сейчас, – подумал Федосьев. – Или это у него тихая экзальтация? Не стоило затевать такой разговор, когда через час все будет зависеть от крепости его нервов. Ну, да теперь все равно…»
– И вы, уходя, назвали ему дозу этого кантаридина?
– Какую дозу? Что вы несете? Я не врач.
– Может быть, не ту дозу назвали?
– Оставьте, Сергей Васильевич! Право, это становится скучно.
– Не ту дозу назвали? По ошибке? Или из отвращения?
– Бросьте ерунду!
– Если это ерунда, то во всем деле нет ровно ничего страшного. Я думал, в конце концов моральное начало, как водится, за себя отомстило. Но моральному началу, значит, не за что было мстить?
– Разумеется, не за что! Это вы из меня почему-то хотели сделать кающегося преступника.
– Однако вы сами, кажется, сказали…
– Я даже и похожего ничего не говорил.
Федосьев смотрел на него озадаченно.
– …Потом вы ушли, а он остался с женщинами?
– Да… Впрочем, кажется, и женщины уже собирались уходить.
– Но следствие пришло к выводу, что на этот раз он не успел пригласить своих женщин.
– Следствие пришло также к выводу, что Фишера отравил белладонной Загряцкий.
– И больше вы ничего не знаете? Кроме того, что случайно влопались в историю, о которой лучше молчать.
– И больше я ничего не знаю.
– Но вы предполагаете, что Фишер умер от этой дозы кантаридина… быть может, чрезмерной?
– Умер от разрыва сердца.
– Но разрыв сердца вызвала эта доза?
– Или просто его развлечения.
– Так, так… Значит, не вы, – протянул с усмешкой Федосьев.
– …Все-таки странная у вас жизнь. То кабинет ученого, то гарем Фишера, то динамитная мастерская… А впереди?
– Впереди у всех одно и то же. Так у Рафаэля, на «Spasimo di Sicilia» ведут Христа и разбойников. Конец пути уже виден вдали: на вершине Голгофы возвышаются одинаковых три креста.
VII
Они прислушались. Задребезжали колеса. Федосьев вынул часы.
– Ровно четыре. Пора.
– Спарафучиле аккуратен. Вашей школы, – глухо откликнулся Браун.
В первой комнате открылась дверь, послышались неверные шаркающие шаги. Хозяин, чиркая спичкой, бормотал ругательства. Коптящий огонек задрожал у двери.
– Что, готово? – спросил Федосьев.
– Так точно, – ответил с порога хозяин. – Эх, весь керосин сожгли, – проворчал он, вдвигая в лампу стекло. Так точно, готова лошадь… – Он невнятно добавил что-то похожее на «ваше превосходительство».
– Мы тоже готовы, – сказал Федосьев. – Ну, теперь пожалуйте сюда, надо за все расплатиться.
– Да, надо за все расплатиться, – повторил, вставая, Браун. Федосьев искоса на него взглянул. «Только бы не нашла на него какая-нибудь депрессия или меланхолия, – с беспокойством подумал он, – совсем будет теперь некстати… При тусклом свете лампы лицо Брауна было мертвенно-бледно и страшно. Впоследствии Федосьеву казалось, что оба они, несмотря на внешнее спокойствие и привычный шутливый тон, были не вполне нормальны в эту долгую странную ночь.
– За сегодняшнее сколько? – спросил он хозяина и принялся отсчитывать ассигнации. Хозяин внимательно за ним следил, поверяя на лету счет. Выражение его лица становилось все более почтительным.
– Вот, получайте, – сказал Федосьев, называя цифру. – Так?
– Так точно…
– Это за гостеприимство и за хлеб-соль… Теперь, как было сказано, для вас приготовлено еще семь тысяч. Их вы получите, когда приедем… Вот они, – добавил Федосьев, показывая пачку ассигнаций. – Пять тысяч царскими, и две облигациями Займа Свободы… Облигации верные. Как раз и доход по ним подошел, видите: 16 сентября срок платежа?
– Царскими бы лучше, – ответил, почтительно улыбаясь, хозяин.
– Вот тебе раз!.. Не верит Займу Свободы! – веселым тоном обратился Федосьев к Брауну, который угрюмо молчал. – Да вы прочтите только, что на них написано, – сказал он. – Вот: «…Чтобы спасти страну и завершить строение свободной России на началах равенства и правды…» Видите? Как же вам не стыдно!..
– Царскими вернее, – в тон ему, с легким смешком, повторил хозяин.
– Вы дураку и купоны сбудете, их я вам дарю.
Браун нетерпеливо застучал слегка по столу. Федосьев посмотрел на него с веселым недоумением. «Мило шутят охранники», – так перевел он выражение лица Брауна.
– Ладно, все получите царскими, – переменив тон, сказал Федосьев. – Чемоданы вынесли?
– Так точно. Все снес из вашей комнаты, как вы приказали.
– Едем.
Они вышли. Еще не рассвело. Капал редкий скучный дождь. Было холодно, сыро и тоскливо. У фонаря стоял старый извозчичий фаэтон, на вид непосильный для клячи, которая мотала головой, косясь на вышедших из дому людей.
– Не опоздаем? – вполголоса спросил Браун.
– Никак нет, к самому отходу попадете, – оживленным полушепотом говорил хозяин, укладывая чемоданы. Он, видимо, был очень доволен отъездом гостей. – Здесь вас не обеспокоит? Этот я на козлы возьму… Пожалуйте, садитесь…
– Как бы только нас всех не задержали по дороге, – сказал Федосьев, глядя в упор на хозяина. – Или на пристани… И нам будет неприятно, да и вам тоже: не дай Господи, еще добрались бы до старых грешков, а?
– Не должны задержать… Бог милостив, – ответил, изменившись в лице, хозяин.
– Я тоже думаю, не должны… Едем.
Они сели. Хозяин застегнул мокрый фартук фаэтона и, ступив на переднее колесо, вскочил на козлы.
– «На началах равенства и правды», – пробормотал Федосьев, застегивая пальто. – «Завершить строение…» Да, эти завершили!..
Он не вытерпел и вставил крепкое слово.
Огромная плавучая пристань, прикрепленная к берегу цепями, была разделена во всю длину высоким дощатым, недавно поставленным забором. Вдоль него расхаживали солдаты с ружьями. В конце пристани малиновыми квадратами горели окна большой будки. У наклонно спускавшихся к берегу мостков за столом сидел сонный чиновник и пересчитывал квитанции. На столе слабо светилась лампочка без абажура.
Со стороны мостков раздался громкий, уверенный, смеющийся голос. Чиновник с неудовольствием повернул голову. В полосу света вступили три человека. Носильщик, тяжело ступая, взошел на пристань, сбросил на дощатый пол мокрые чемоданы и с испуганным видом оглянулся на будку.
– Так нельзя, граждане, приходить в последнюю минуту… Пароход отходит, – сердито сказал чиновник.
– Was ist los?[83]83
Что случилось? (нем.)
[Закрыть] – спросил Браун, поднимая брови. Он протянул чиновнику паспорт и билеты. Услышав немецкую речь, чиновник поднялся и поспешно взял бумаги.
– Билеты покажете на пароходе… Потрудитесь подождать, – сказал он и направился к будке.
– Подождать… Подождать надо, – медленно-вразумительно сказал пассажирам носильщик, показывая глазами на будку. – Чрезвычайная Комиссия, – шепотом добавил он.
Браун с недоумением оглянулся на Федосьева, как бы спрашивая, не понимает ли он. Федосьев пожал плечами.
– Schlechtes Wetter[84]84
Скверная погода (нем.)
[Закрыть], – громко сказал Браун.
– Jawohl[85]85
Согласен (нем.)
[Закрыть], – ответил Федосьев.
За дверью забора, у которой стоял часовой, слышался неясный шум. Издали доносились голоса. Наверху над забором ветер рвал черный дым, то унося за пристань, то придавливая клубы дыма к воде. «Верно, сейчас отходит», – подумал Федосьев. – «Как противно покачивается пристань!..» Он зевнул, отошел к скамейке и сел.
Намотанная на бревно, рядом со скамейкой, длинная цепь то вытягивалась над водою, то, изогнувшись, погружалась в воду срединой, к которой пристал пучок соломы. «Вот теперь это дуга», – думал Федосьев, представляя себе огромный вертикальный круг, дугой которого была бы шедшая к берегу цепь. «Вон-вон где сомкнулось бы…» Слабо блестели звезды. Дождь прекратился. Едва начинало рассветать. С моря дул резкий ветер. «Формула круга, кажется, два пи эр… Или пи эр квадрат? Эта туча похожа на Белое море… Еще каплет… Нет, это с брезента… Сейчас все сомкнется. Был Сергей Федосьев, нет Сергея Федосьева… Хорошо, что пристань плохо освещена… Долго просматривают… Бумаги чистые, но мог поступить и донос…»
Из будки вышли два человека: тот же чиновник, за ним немолодой разведчик в плаще поверх черной куртки. Они направились к столу.
– Извольте подождать, – сказал Брауну чиновник. Разведчик повернул выключатель, пристань залило ярким светом.
– Was? Versiehe kein Wort[86]86
Что? Ни слова не понимаю (нем.)
[Закрыть], – щурясь, пренебрежительно сказал Браун.
– Просят подождать, – повторил чиновник. Браун развел руками с видом полного непонимания.
– Так и в самом деле можно опоздать, – по-немецки сказал он капризным тоном избалованного туриста. «Jawohl», – хотел было ответить Федосьев, но решил, что неудобно повторять во второй раз те же слова, и проворчал: «Ach», неопределенно пожимая плечами. «Да, он на высоте положения… Хладнокровный человек… Разведчик едва ли из моих… А впрочем, кто его знает? Очень неприятный…» Не повернувшись в сторону разведчика, он снова зевнул, улыбнулся и забарабанил пальцами по сырому шершавому борту скамейки. Разведчик прошел мимо них и задержался взглядом на Федосьеве. «Вот-вот… Кажется, пропал», – решил Федосьев, барабаня пальцами чуть быстрее прежнего. Вдруг за дощатым забором отчаянно и страшно завыл свисток.
Дверь будки раскрылась настежь. Из нее вышло еще несколько человек. Один из них, во френче и в высоких желтых сапогах, держал в руке паспорта. Федосьев потянулся и встал. «Сорвалось! – сказал себе он, оглядываясь в сторону мостков. – Может, пора взяться за револьвер?.. Еще с минуту можно подождать…» Разведчик что-то тихо докладывал человеку в желтых сапогах. Тот на ходу кивнул головой и подошел вплотную к Брауну. «Если к нему подошел, а не ко мне, то, быть может, и не сорвалось…» Порыв ветра сдвинул пристань, цепь натянулась. Опять закапал редкий слабый дождь.
– Ваша фамилия? – резко спросил Брауна человек во френче. – Переведи, – приказал он стоявшему с ним штатскому. Штатский на дурном немецком языке задал вопрос Брауну. Услышав ответ, человек во френче пренебрежительно кивнул головой.
– Имя-отчество?
Штатский поспешно сказал ему вполголоса несколько слов.
– Ну, нет отчества, так пусть скажет место рождения… На этом-то и попадаются, – добавил он. Узнав место рождения Брауна, человек во френче проверил по паспорту и повернулся к Федосьеву. – Ваше имя и фамилия?
«Сказать разве: Сергей Васильевич Федосьев?.. Его тогда разобьет удар, все-таки это будет приятно…» – Дождавшись перевода, Федосьев назвал имя и фамилию. «Неужели сходит?.. Тот, однако, очень интересуется чемоданами… Неприятный человек… Ох, как бы не из моих!..»
Немолодой человек подошел к группе и шепотом заговорил с товарищами.
– Что ж, что чемодан русский, – проворчал другой разведчик. – И немцы здесь покупают. Им дешево, у кого валюта.
– Не понимаю, зачем осматривать вещи, – недовольным тоном сказал Браун, вынимая из кармана ключи. – Ведь мы уезжаем, а не приезжаем… Все открыть?
«Переигрывает немного, но хорошо… Мастер… Кажется, сошло!..» – Федосьев поспешно вынул и свои ключи. – «Костюмы тоже петербургские…»
– Скажи ему, чтобы этот открыл и не разговаривал, – приказал переводчику начальник, ткнув пальцем в сторону того чемодана, который лежал подальше. Федосьев повернул ключ в замке, носильщик поднял крышку. В чемодане Федосьева поверх простыни и ремней лежала немецкая книжка в желтой бумажной обложке. Из книжки торчала аккуратно сложенная газета, виднелись буквы заглавия: «…geblatt».[87]87
Видимо, окончание заглавия «Tageblatt» (нем.)
[Закрыть] «Это очень хорошо вышло: geblatt… Подействовало… Кажется, на geblatt’e и выедем»… Носильщик, опустившись на колени, поспешно расстегивал ремни. Один из разведчиков приподнял костюмы, ткнул рукой в разные углы чемодана. Человек во френче кивнул головой, видимо, удовлетворенный тем, что заставил немца показать багаж.
– Schon gut?[88]88
Все в порядке? (нем.)
[Закрыть] – с усмешкой спросил Браун.
– Гут, гут, – повторил, махнув рукой, начальник и отдал паспорта. – Пропустить, – приказал он подчиненным. Носильщик радостно принялся затягивать ремни. За забором послышался новый свисток. Он теперь прозвучал совершенно иначе.
– Скорей… Едва с ними не опоздали, – сказал Браун, вынимая с тем же сердитым видом часы. – «Переигрывает… Как бы тот не обозлился… А все-таки молодец!…» – оценил игру Федосьев. Человек во френче слегка кивнул им головой и пошел назад к будке в сопровождении своей свиты. Чиновник с завистью вздохнул, повернул выключатель, оставив одну лампу, и снова сел за свой голый некрашеный стол.
– Идем, барин, идем, – сказал носильщик, взваливая па плечи чемоданы. Часовой посторонился. Носильщик открыл дверь в дощатом заборе.
Впереди прямо перед ними, сцепившись мостиком с широкой пристанью, сверкал огнями шведский пароход. На палубе суетились люди. По столбику медленно разматывали канат. Сбоку рванул холодный ветер.
– Скорей, скорей, барин! – закричал носильщик, ускоряя тяжелые шаги. – Деньги приготовьте!
Матросы отвязывали веревки мостика. Носильщик сбросил на палубу чемоданы. Браун сунул ему деньги. Носильщик побежал назад. Мостик скользнул на пристань.
Элегантный стюард в белом кителе приветливо приподнял фуражку.
– Die Herrschaften kommen etwas spät[89]89
Несколько поздновато, господа (нем.)
[Закрыть], – с твердым шведским акцентом сказал он, показывая улыбкой, что понимает причину опоздания и не одобряет русских порядков. – Каюты шестая и восьмая, – добавил стюард, заглянув в книжечку. – Вниз по этой лесенке и сейчас налево.
Лампа вспыхнула и ярко осветила красное дерево, овальное зеркало, начищенные до блеска ручки умывальника, белоснежную подушку, графин и стакан в стойке, полотенца на подвижном стержне.
– Чемоданы сейчас будут принесены в каюту, – сказал стюард, раскрывая складной стул. – Над койкой есть второй выключатель… Звонок здесь.
– Благодарю вас.
– Ресторан сейчас закрыт, но если господам угодно выпить кофе или закусить, я могу принести сюда. К сожалению, есть только холодный буфет.








