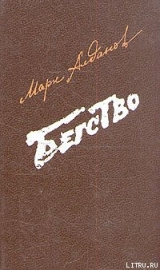
Текст книги "Бегство"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
XXI
Кременецкие перед отъездом оставили Мусе адрес киевских приятелей, по которому следовало направлять письма. Они сами не знали, где именно остановятся! носились слухи, что Киев совершенно переполнен, что главные гостиницы заняты немцами и что свободных комнат нет нигде. Поэтому Фомин прямо с пристани поехал на извозчике к приятелям Кременецких. Оказалось, что Семен Исидорович там больше не живет.
– Они действительно остановились у нас, – объяснила Фомину толстая дама, жившая в этой квартире. – Но им удалось найти хорошую комнату на Фундуклеевской улице. Это теперь очень трудно… На днях они переехали.
– Надеюсь, у них все благополучно? – осведомился Фомин.
– Кажется, все благополучно, – довольно сухо ответила толстая дама. Фомину и то показалось, что дама не слишком довольна Кременецкими. – Ведь Сема теперь важный политик, – добавила она иронически и тотчас поправилась: – Семен Исидорович.
Фомин охотно расспросил бы даму подробнее, но это было неудобно. Узнав новый адрес Кременецких, он на том же извозчике с чемоданом поехал их разыскивать. Остановиться у Семена Исидоровича было, очевидно, невозможно; Фомин, однако, надеялся на полезные указания Тамары Матвеевны.
На звонок ему отворила дверь сама Тамара Матвеевна. Впечатление, произведенное его приездом, было еще сильнее, чем предполагал Фомин. В течение нескольких минут Тамара Матвеевна только ахала и восклицала, так что нелегко было даже разобрать вопросы, которыми она засыпала Фомина.
– …Уверяю вас, дорогая, Муся совершенно здорова, – говорил Фомин, положив на пол чемодан и оглядываясь в длинной передней. – У них все в полном порядке.
– Но как же?.. Боже мой!.. Это так неожиданно!.. Дорогой Платон Михайлович, я так рада!.. Но вы не обманываете меня?.. Она не голодает?.. У них все есть?.. Но как же… Извините меня, ради Бога!
Она вытирала слезы. Фомину и жалко было, и смешно. «Семы, верно, нет дома, – подумал он. – Отчего же она не зовет меня в комнату? Эх, ванну бы…»
– Как видите, я позволил себе так ввалиться к вам с чемоданом.
– Так вы видели ее в среду? В эту среду? Это прямо… За все время ни одного письма! Мы ничего не получили, ни бельмеса!.. Ни одного звука, – поправилась Тамара Матвеевна. – Я думала, что я с ума сойду!
– Тамара Матвеевна, дорогая, Муся вам писала три раза. Три раза! И она сама от вас за все время тоже ни одной строчки не получила.
– Господи! Я каждый день писала, каждый Божий день!
– Вот видите! Что ж тут удивляться? Вы сами понимаете, какая у нас теперь почта, какие сообщения. Ведь между Россией и Украиной проходит фронт.
– Но как у вас там?.. Как все? Вивиан с ней? Как она выглядит?
– У нее очень хороший вид.
– Ах, вы это так говорите, чтобы меня успокоить!.. Разве я не понимаю?..
– Тамара Матвеевна, дорогая, даю вам честное слово!
Такой разговор продолжался довольно долго. Фомин все недоумевал, – когда же его поведут из передней в комнаты.
– Ну, а вы как? Семен Исидорович? Его нет дома? Тамара Матвеевна вздохнула и робко оглянулась.
– Он дома, но у него сейчас одно заседанье… Я, право, не знаю… Вы сами понимаете, как он вам будет рад!.. Дорогой Платон Михайлович, вы просто меня спасли! Я думала, я с ума сойду!.. Так вы говорите, и мясо есть, и хлеб? У нас тут писали… А какао она по утрам пьет?
– Насчет какао не могу вам сказать… Мне тоже очень хотелось бы увидеть Семена Исидоровича.
Тамара Матвеевна опять вздохнула.
– Я, право, не знаю, как быть? Зайти туда как-то… Я сама все время сижу здесь в передней, – созналась она. – Но они должны скоро кончить… Так где же это письмо, Платон Михайлович?
– Сейчас достану из чемодана… Тамара Матвеевна, нельзя ли мне у вас умыться?
– Ах, Боже мой!.. – Тамара Матвеевна опомнилась. – Конечно, можно! Извините меня, дорогой мой! Я и не подумала, ведь вы к нам прямо с вокзала! Разумеется, можно! И чаю я вам сейчас дам…
– Спасибо, я пил. Говорят, здесь теперь очень трудно найти комнату?
– Безумно трудно! Но я для вас найду, будьте совершенно спокойны, я уже все это знаю. Мне совестно, что мы не можем вас устроить у нас, но ведь у нас самих всего одна комната. Просто ужасно!
– Помилуйте, я понимаю… А вот, если б можно было у вас умыться?
– Разумеется! Идите за мной… Мы снимаем одну комнату, но с правом пользоваться ванной. Вы можете даже принять ванну. Я уверена, хозяева ничего не скажут, они очень порядочные люди…
– Ах, это было бы чудесно. А вы тем временем прочтете письмо Муси.
Фомин уже был почти готов, когда в дверь ванной комнаты постучали. На пороге появился, с сияющим видом, Семен Исидорович. Они обнялись и поцеловались три раза.
– Только не через порог… Я так рад, дорогой Платон Михайлович…
– Я тоже… Вид у вас превосходный! Вы просто реклама для Киева, Семен Исидорович.
– Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить… Я очень рад!.. Жена мне в общих чертах все сказала. Значит, у них там все сравнительно благополучно?
– Совершенно. У вас видно вообще здесь немного сгущают краски относительно Петербурга.
– Краски и без того достаточно густые, Платон Михайлович. Обреченный город! – со вздохом сказал Семен Исидорович, делая мрачно-энергичный жест рукой. – Увы, дело Петра кончено! Я давно это говорю. Надо все начинать сначала, все строить заново, камень за камнем… Бы, я вижу, готовы?
– Вот только побреюсь и готов. Но у вас, кажется, заседание?
– Нет, конечно. Да и не заседание было, а просто пришло несколько человек обменяться мнениями по текущим вопросам. Теперь все разошлись, остался еще только один… – Семен Исидорович назвал малороссийскую фамилию, которая не была известна Фомину; однако по тону Кременецкого он понял, что речь идет о человеке значительном. – Он, верно, тоже скоро уйдет… Так что, когда вы побреетесь, сейчас же приходите. Я вас с ним познакомлю.
– Но я вам не помешаю? Может быть, секретные дела?
– Нисколько не помешаете. Секретные дела уже кончились, – с улыбкой пояснил Семен Исидорович. – У нас всего одна комната, зато очень большая… Он, правда, что-то еще хотел мне сказать, так вы не обессудьте. Пока мы с ним будем заканчивать беседу, вас Тамара Матвеевна угостит чаем. Она, бедняжка, вам так рада, так измучилась, горемычная, без вестей о Мусеньке… Ну, так я вас жду.
Минут через пять Фомин вошел в комнату Кременецких. За круглым столом, на котором находились карандаши, бумага, полная окурков пепельница, несколько пустых чайных стаканов, Семен Исидорович разговаривал с пожилым скорбного вида человеком, очень похожим на переодетого мужика. На другом конце большой комнаты, у окна, Тамара Матвеевна читала письмо. На маленьком столе Фомин не без удовольствия увидел самовар, печенье, сливки. В комнате стояли кровати, – Фомину было странно, что Кременецкие принимают в спальной. Семен Исидорович познакомил Фомина с пожилым господином.
– Мой помощник и наш друг, Платон Михайлович Фомин, – сказал Семен Исидорович. – Только что прибыл из Петрограда… Из самого пекла.
Господин наклонил голову и ничего не сказал. Фомин отошел к Тамаре Матвеевне. Она с видимым сожалением оторвалась от письма Муси, которое перечитывала в шестой раз, и принялась наливать Фомину чай.
– Да, с двумя кусками, пожалуйста, – сказал Фомин, – хотя после Петербурга не грех взять и три… – Он вдруг оглянулся, услышав нерусскую речь.
– …Не треба цего лякатися, – говорил с ласково-убедительными интонациями Семен Исидорович. – На це склалось багацько причин. Чого ми хочемо? Ми з одного бока хочемо…
Фомин, полуоткрыв рот, с изумлением смотрел то на сидевшего к нему в профиль Семена Исидоровича, то на Тамару Матвеевну. У нее на лице было сконфуженное выражение.
– Это… как? – произнес, наконец, шепотом Фомин (он хотел спросить: «это что? серьезно?»). – Разве Семен Исидорович умеет говорить по-украински?
– Он всегда умел, ведь он родом с юга, – таким же шепотом смущенно ответила Тамара Матвеевна. – Я тоже решительно все понимаю… Но здесь он очень быстро подучился.
– Подучился? – растерянно переспросил Фомин.
– Да, он брал уроки. Вы ведь знаете, какой он способный! Это удивительно! Мне настоящие украинцы говорили, что он теперь объясняется совершенно свободно! Конечно, с ошибками, но ведь здесь все пока говорят с ошибками… Язык еще находится в процессе создания, – убежденно повторила слова мужа Тамара Матвеевна.
– …З нiмцями я вже бачився… Нехай вин им скаже: схамениться, люде, не чiпайте Раду, не развалюйте державу в саму гарячу хвилю, – все убедительнее говорил Семен Исидорович.
– Нам це до дрибничок вiдомо, – раздраженно ответил скорбный человек. – Ми цю людину знаемо: несмiслива и слабодуха. Треба расшукати пiдходящих мiнiстров и не можу без великого жалю згадати…
– Семен Исидорович занимает какой-либо пост? – осведомился Фомин со все возраставшей робостью в тоне.
– Пока нет, – несколько уклончиво ответила Тамара Матвеевна. – Ему предлагали самые важные посты, но он хочет присмотреться поближе.
– Присмотреться поближе, – глупо-растерянно повторил Фомин.
– Да… Вы не можете себе представить, как его здесь встретили, как его сразу все оценили! Он стоит теперь над всеми партиями и просто для них всех незаменимый человек, мне это говорил сам… (Тамара Матвеевна назвала новую фамилию, которую Фомин слышал тоже в первый раз в жизни). – Но теперь здесь создалось довольно тревожное положение из-за этих хлiборобов, – нерешительно выговорила она.
– Из-за кого? – переспросил испуганным шепотом Фомин.
– Из-за хлеборобов, – повторила Тамара Матвеевна, заменив для ясности букву i буквой е.
– Что это такое?
– Это здесь такая группа… Семен Исидорович находит ее слишком реакционной… Между прочим в ней теперь играет большое значение Нещеретов.
– Он хлебороб? У меня есть для него письмо.
– Вы его скоро увидите… Семен Исидорович находит…
– …Чи ж це правда? Hi, нi, це наклеп прихильников старого режиму, – говорил Семен Исидорович.
Пожилой человек упрямо покачал головой и поднялся. Тамара Матвеевна тоже встала. Гость простился с ней и слегка поклонился Фомину. Кременецкий вышел за ним в переднюю.
– Теперь пойдем завтракать, скоро час дня, – оказала Тамара Матвеевна. Вид у нее был по-прежнему сконфуженный. Фомин сокрушенно молчал.
– Ну-с. вот я и освободился, – сказал с улыбкой Семен Исидорович, возвращаясь из передней. Улыбка у него была веселая, но тоже какая-то не совсем уверенная. – Так как же, любезнейший мой Платон Михайлович, а? – произнес он, взяв Фомина руками за плечи.
– Да так. Ничего, – неопределенно ответил Фомин.
– Ничего?.. Ну-с, ладно, соловья баснями не кормят. Идем, батюшка мой, в ресторан.
– Давно пора. Ты с утра ничего не ел и ты знаешь, как это тебе вредно, – начала Тамара Матвеевна. – Ты прямо губишь себя всеми этими заседаньями…
– О своем здоровьи я буду думать в менее ответственное время. Идем!
– Кстати, в ресторане мы, наверное, увидим и Нещеретова, – сказала Тамара Матвеевна. – Он всегда там обедает, так что если вам нужно передать ему письмо…
– Ну, где там он будет сейчас разыскивать письма: у него их, верно, сто. как было у нас. Идем… Нещеретов теперь чистогерманской ориентации, – пояснил Фомину Семен Исидорович. – Я, как вы знаете, всегда не очень его жаловал: толстосум и невоспитанный человек. Однако не могу отрицать: огромного размаха мужчина и в своей области прямо гений. Он здесь без года неделя, а уже вертит колоссальными делами.
– Я готова, господа.
– Я предлагаю идти пешком: недалеко и погода чудесная. Вот по дороге и покалякаем.
– Я, собственно, украинским языком не владею.
– Будем говорить на русском, на православном, – сказал, неуверенно засмеявшись, Семен Исидорович.
XXII
В зале за столом сидел Нещеретов. Семен Исидорович еще издали помахал ему рукою. Они подошли к его столу. Нещеретов едва привстал, здороваясь с Тамарой Матвеевной.
– А, и вы здесь… Какими судьбами? – небрежно спросил он Фомина.
– Да самыми обыкновенными.
– Прямо из Питера, – пояснил Кременецкий, отдавая слуге шляпу и палку. – Увы, картина там именно такова, какую я себе представлял. Это подтверждает мою мысль о том…
– Подсаживайтесь ко мне, – довольно невежливо перебил его Нещеретов. – И вы тоже, мм… – он, видимо, забыл имя-отчество Фомина. – Человек, еще три прибора, – приказал он, не дожидаясь согласия приглашенных. – Я сам только что сел… Ну-с, как же там живется?
Фомин, по дороге уже рассказывавший Кременецким, как живется в Петербурге, принялся рассказывать снова. Но Нещеретов с первых же слов его прервал:
– Водку пить будем?
– Ясное дело, – ответил Семен Исидорович. – «Жомини, да Жомини, а о водке ни полслова…»
– Лучше не надо, тебе вредно для почек, – начала было Тамара Матвеевна. Однако ее не послушали. Подали водку, в бутылке от зельтерской воды, и поднос с закуской. Тамара Матвеевна, просмотрев карту, поспешно сказала, что сегодня меню очень хорошее, незачем заказывать à la carte[52]52
Здесь: порционное (фр.)
[Закрыть]. Она в последнее время старалась сокращать расходы: почета Семену Исидоровичу было в Киеве очень много, но заработков пока не было никаких; на проценты от стокгольмских капиталов, хотя и весьма порядочных, они существовать не могли и таким образом впервые в жизни начали проживать накопленное состояние.
– Обед так обед, мне все равно. А вам, Платон Михайлович?
– А мне и подавно, после Петербурга.
– Ну-с, так как же у вас там, Платон… – еще раз спросил Нещеретов. Он больше не говорил мужицким языком; напротив, в его тоне слышались новые, генеральские интонации. В дальнейшем, слушая рассказ Фомина, он вставлял изредка иронические замечания, относившиеся, впрочем, не столько к большевикам, сколько к Семену Исидоровичу. Фомин увидел, что отношения у них недружелюбные. Нещеретов и слушал Кременецкого, и обращался к нему с насмешливой улыбкой, точно ничего серьезного тот никак не мог сказать.
– Вот к чему приводит неуважение к правам народа, – говорил, закусывая, Семен Исидорович. – Надо же понять, что демократию, законность, чувство уважения к праву надо бережно воспитывать годами, как нежное тепличное растение. Это показывает и та участь, которая – увы! – постигла Временное правительство…
– Тимчасово правительство, – с подчеркнуто-украинским акцентом вставил Нещеретов.
– Я сейчас говорю по-русски, – с достоинством ответил Семен Исидорович. – Удивительно, что многие из нас дальше старых шуточек над «мовой» и над «гречаниками» так и не пошли. О них я могу сказать только одно: они ничему не научились и ничего не забыли! (Тамара Матвеевна обвела обедавших гордым взглядом.) Вместо того, чтобы постараться понять великое народное движение, – да, быть может, не свободное от крайностей, но в основе своей великое и здоровое, – вместо того, чтобы подметить живую струю, бьющуюся в толще народной, и так сказать канализировать ее, направить ее в русло, они отделываются каламбурами, и притом…
– Марья Семеновна как? Здорова? – спросил Фомина Нещеретов.
– Слава Богу, – ответил Фомин, смущенно оглянувшись на Семена Исидоровича, который пожал плечами.
– Князек что? Горенский?
– Тоже все в порядке… Я, кстати, имею для вас письмо, от Елены Федоровны Фишер, – сообщил Фомин. – Но, к сожалению, я его не захватил с собой, оно у меня в чемодане. Я сегодня же его вам доставлю.
– Ничего, это не к спеху… Так воспитывать демократию, говорите? – обратился он к Семену Исидоровичу. – Может, и Раду поддерживать?
– Разумеется. Всецело и всемерно.
– Держи карман!
Семей Исидорович пожал плечами еще демонстративнее.
– Возьми еще семги, уж если заказали закуску, – сказала Тамара Матвеевна. – Чудная семга!
– Семушка не вредная… Те, которые пускают пробные шары со слухами о предстоящем будто бы перевороте, только льют воду на мельницу советских насильников, – сказал Семен Исидорович. – Поистине: кого Бог захочет погубить, у того Он отнимает разум!
– Позвольте, господа, – вмешался осторожно Фомин, – извините мое невежество. Семей Исидорович, правда, немного ввел меня в курс здешней политики, но все же я еще многого не понимаю. О каком перевороте идет речь? О монархическом? Тогда что, собственно, имеется в виду! династия Мазепы, что ли?
– Было бы болото, а черти найдутся, – сказал Кременецкий. – К счастью, никакого болота нет, а есть молодая демократия, еще неопытная, но с каждым днем крепнущая, с каждым днем растущая, с каждым днем наливающаяся живительными соками. И этой силе настоящего и будущего нисколько не страшны ночные совы прошлого, вечно хрипящие: «Назад! Назад!» – Куда назад? – спрошу я. – Какой переворот? Где социальная база переворота? На какие силы он может опереться? На хлеборобов, прикрывающих своей фирмой обреченный русский помещичий класс с его неприкрытыми реституционными замыслами[53]53
Здесь: восстановление прежних порядков (от фр. restituion).
[Закрыть], о которых пахарь слышать не хочет! Да ведь это несерьезно, ведь это курам на смех, господа! – с силой сказал Семен Исидорович.
– Однако, мне бы казалось, – заметил Фомин, – что главная сила на Украине в настоящее время это немцы?
– Какой догадливый! – сказал весело Нещеретов. – Цикавый якой, Платон М-м…
– Ах, не будем ничего преувеличивать, – ответил с некоторой досадой Кременецкий, чуть понизив голос. – Конечно, грубая сила на стороне немцев. У них пушки и пулеметы, у нас… У нас тоже есть и то, и другое, правда, в гораздо меньшем количестве. Однако только безнадежный слепец может так смотреть на этот вопрос и сводить его к пушкам и пулеметам. Вы забываете, господа, что если нельзя сидеть на штыках, то ведь нельзя сидеть и на пулеметах! Вы недооцениваете реальную силу идей и общественного мнения, как такового. Немцы, вдобавок, и не могут пустить в ход бронированный кулак. Они слишком ангажировались перед всем культурным миром, который…
– А вы как сюда пожаловали, Платон М-м-м?.. – опять перебив Кременецкого, спросил Нещеретов Фомина. Тамара Матвеевна обменялась с мужем возмущенным взглядом. – Славную взяточку в Орше дали, а?
– Нет, у меня сюда командировка на один месяц, – ответил Фомин.
– Что? Только на один месяц? – в один голос спросили Семен Исидорович и Тамара Матвеевна. Им стало совестно, что они с самого начала не расспросили как следует своего друга, зачем он приехал. «Значит, можно будет послать с ним посылку для Мусеньки», – тотчас подумала радостно Тамара Матвеевна. И хотя она очень любила Фомина, ей захотелось, чтоб он уехал назад в Петербург возможно скорее.
Фомин объяснил, по какому делу его командировали на месяц в Киев (он, однако, смутно чувствовал, что постарается продлить командировку: уж очень здесь было хорошо после Петербурга). Узнав задачу командировки, Нещеретов расхохотался.
– Ох, уморил, не могу, – сказал он, наливая себе пива. – Я тоже об этом слышал. Они требуют, чтобы сюда доставили, во-первых, картины всех художников, которые родились на Украине, а, во-вторых, все картины на украинские сюжеты. Так-с!
Фомин поднял брови.
– Это серьезно? Что ж, тогда и репинских «Запорожцев» прикажете сюда перевезти?
– А как же? Всецело и всемерно, – весело повторил Нещеретов.
– Интересно, кто это «они»? – иронически спросил Кременецкий. – Если вы имеете в виду украинцев вообще, то, ведь, насколько мне известно, вы и сами хлiбороб, Аркадий Николаевич?
– Временный, как ваше бывшее правительство. Я тимчасовый хлiбороб. Мне на одной Украине тесновато.
– Откровенные речи приятно и слышать. Так и будем иметь в виду.
– Так, почтеннейший, и имейте в виду, – подтвердил Нещеретов. Однако Фомину показалось, что он не слишком доволен произнесенными сгоряча словами.
– Затем по существу, – продолжал Семен Исидорович. – Повторяю, я отнюдь не разделяю крайностей молодого национального самосознания, вполне здорового и разумного по содержанию, но чрезмерно обостренного по форме… Добавлю, обостренного кем? Разумеется, нашим старым строем, который во имя своего Молоха давил в корне все живое и угнетал украинскую национальность на наковальне гнилой государственности… Я не сторонник крайностей. Там, где патриотизм переходит в узкий национализм, мне с ним не по пути! – энергично сказал он. Тамара Матвеевна опять с гордостью взглянула на Нещеретова и Фомина. – Однако, посмотрим на вещи шире, Платон Михайлович, – сказал Кременецкий, также демонстративно обращаясь только к Фомину. – Посмотрим на вещи шире. Разумеется, Репин гений и, как таковой, принадлежит всему культурному человечеству. Он соль земли, а солью питаются все народы. (Семен Исидорович сделал паузу). Однако, если шедеврам французских художников, естественно, висеть в Лувре, а шедеврам итальянских в Ватикане, то почему отрицать за молодой Украиной право на то, чтобы дорогая ей картина великого мастера, родившегося на украинской земле, картина, написанная на сюжет из украинской истории, висела в Киеве, а не в Петрограде и не в Москве, – закончил длинную фразу Семен Исидорович, не помнивший точно, где именно висят «Запорожцы».
– Мы как раз перед войной хотели просить Репина написать портрет Семена Исидоровича, – сказала Тамара Матвеевна. – Мне все художники говорили в один голос: у него замечательно характерная голова.
– Так я и пропал для потомства, – с улыбкой произнес Кременецкий.
– Позвольте, Семен Исидорович, – начал было Фомин. Но он не успел возразить Кременецкому. К их столику подходил еще петербургский знакомый: журналист дон Педро.
– Какая приятная встреча, – сказал он, здороваясь с обедавшими. – Так и вы здесь, Платон Михайлович? (дон Педро, в отличие от Нещеретова, твердо помнил имена и отчества всех бесчисленных людей, которых когда-либо встречал). – Положительно вся Россия переселилась в Киев!.. Давно ли вы из Петрограда?
– Сегодня приехал.
– Вот как! Ну, расскажите, ради Бога, как же там живется?
– Подсаживайтесь к нам, – милостиво сказала Тамара Матвеевна, помнившая, что дон Педро в свое время писал отчет об юбилее Семена Исидоровича.
– Спасибо, меня ждут, – ответил Альфред Исаевич, однако тотчас сел. – Разве на одну минуту… Так как же там в Петрограде живется?
– Ничего… Как кому, – ответил Фомин. Он решительно не желал в третий раз рассказывать, как в Петрограде живется. – Во всяком случае много хуже, чем в Киеве. А вы здесь обосновались?
– Хочет газету издавать, – пояснил Кременецкий.
– Хорошее дело.
– Дело-то хорошее, но реализировать при создающейся конъюнктуре трудно… Вот получите тысяч полтораста с Аркадия Николаевича, какую газету я вам смастерю, – шутливо добавил дон Педро.
– Демократическую? – грубоватым тоном спросил Нещеретов.
– А как же…
– Ищите другого дурака.
– Вы, может быть, считаете, что я социалист? – спросил обиженно Альфред Исаевич.
– Чтоб да, так нет?
– Имейте в виду, Платон Михайлович, – сказал Кременецкий, – здесь теперь социалист ругательное слово. Tempora mutantur![54]54
Времена меняются! (лат.)
[Закрыть] Между тем единственная возможная ориентация сейчас, конечно, на трудящиеся слои населения…
– На працюючi люд, – вставил Нещеретов.
– Да, именно на працюючiй люд, как вы изволите шутить неизвестно над чем, господин хлебороб… На трудящиеся слои и на благоразумные элементы социализма.
– Во главе с бароном Муммом и фельдмаршалом Эйхгорном.
– Удар не по коню, а по оглобле! Мы-то немецкими руками делаем украинскую политику. А вот ваши хлеборобы, они действительно опираются на немецкие штыки и только на немецкие штыки!
– Господа, довольно о политике, – сказала рассеянно Тамара Матвеевна. «Колбасы я ему дам фунтов десять, – соображала она. – Какао минимум три фунта… Потом альбертиков, она их очень любит… Муки… Если выйдет даже пуд, он для нас должен это сделать…»
Альфред Исаевич поднялся.
– Ну, до свиданья, господа.
– Куда вы? Ни одной новости не рассказали! Какой же вы журналист? – сказал Кременецкий. – Что, поведайте нам, есть ли уже у хлеборобов какой-нибудь завалящий гетман?
– Это надо узнать у Аркадия Николаевича, – с тонкой улыбкой ответил дон Педро. – Но по моей личной информации кандидат есть… Сюда приехал некто Альвенслебен, из очень важной прусской семьи, не то граф, не то князь… Я знаю из верного источника, что его делегировали сюда германские коннозаводчики, у них есть свой кандидат в гетманы, – чуть понизив голос, сказал Альфред Исаевич тем же таинственно-уверенным тоном, каким он прежде говорил о самых секретных планах европейских государственных людей или о том, что Гинденбург готовит прорыв двенадцатью дивизиями.
– Позвольте, при чем тут германские коннозаводчики?
– Вы не знаете, это очень мощная группа! У них есть прочные связи с Россией, уж вы мне поверьте… Я это знаю от самого майора Гассе.
– Так кто же этот кандидат?
– Один генерал… Богатейший! – восторженно сказал дон Педро. – И у него есть, так сказать наследственные права. Ну-с, прощайте, господа, – добавил Альфред Исаевич, любивший исчезать после эффектного сообщения.
– Постойте, расскажите подробнее… Да куда вы спешите? Посидите!
– Не могу, у меня сейчас одно заседание.
– Что еще? Или вы тоже гетмана подыскиваете?
– Нет, это по нашим, сионистским делам, – скромно ответил дон Педро.
– Разве вы сионист? – одобрительным тоном спросил Нещеретов.
– Я всегда интересовался, как же. Но теперь это стало в реальную плоскость, после декларации Бальфура.
– После какой декларации?.. Впрочем все равно… Так вы уезжаете в Палестину? – спросил Нещеретов еще более благосклонно. В его тоне явно слышалось: «скатертью дорога».
– Может быть, может быть, – опять несколько обиженно ответил Альфред Исаевич. – Мне предлагают поездку в Америку. Если не удастся сорганизовать здесь газету, я верно уеду. Но это будет зависеть от событий… До свиданья, господа. Очень интересно то, что вы рассказывали, Платон Михайлович, – добавил он, хотя Фомин ничего не рассказывал. – Вечером в «Пэлл-Мэлл» не идете? Теперь у нас все ходят в «Пэлл-Мэлл», – пояснил он. – Отличное кабаре.
– Ах, мы с Семеном Исидоровичем на днях были и нам совсем не понравилось. Провинция! – сказала Тамара Матвеевна.
– Разве я говорю, что не провинция! Конечно, это не «Летучая Мышь», но все-таки весело… До свиданья, господа.
– Хорош гусь! – сказал Нещеретов, когда дон Педро отошел.
– Все это очень характерно, – ответил озабоченно Семен Исидорович. – Подавляющиеся веками национальные элементы поднимают голову, центробежные силы растут за счет сил центростремительных…
«Значит, один украинский самостийник, другой прислужник немцев, а третий сионист, – раздраженно думал Фомин, впервые в жизни чувствуя в себе задетым великоросса. – Как-нибудь при случае мы это вспомним…»
– Господа, чудная курица, – сказала Тамара Матвеевна. «Можно будет даже добиться, чтобы он взял полтора пуда, я хорошо сложу», – подумала она.
Уезжая в Киев, Нещеретов предложил Горенскому и Брауну жить и дальше у него в доме. Однако они этим предложением не воспользовались: прислугу хозяин отпустил, и дом, по словам Нещеретова, был на замечании у властей. Свободных квартир в Петербурге становилось с каждым днем все больше. По газетному объявлению, князь Горенский снял очень дешево комнату в лучшей части города, с видом на Мариинскую и Исаакиевскую площади. Большая, хорошо обставленная комната имела отдельный вход, так что с хозяевами Алексей Андреевич, к своему облегчению, почти не встречался; ему непривычно было жить с чужими людьми, да и принадлежала квартира бывшему чиновнику, который при старом строе занимал немалую должность. Горенский имел основания думать, что новые хозяева относятся к нему так же злобно-насмешливо, как почти все люди консервативного лагеря.
1-го мая рано утром к князю постучали. Не дожидаясь отклика, вошел курьер из Коллегии. Горенский, завязывавший галстук, с недоумением на него уставился. Курьер неодобрительно осмотрелся в неубранной комнате и сунул Алексею Андреевичу бумажку без конверта.
– Как вы, товарищ, вчера не были, то велено с утра занести, – сердито сказал он.
Князь накануне провел послеобеденные часы не в Коллегии: он расставлял в музее новые коллекции фарфора.
– Приказано всем быть к десяти часам, – пояснил курьер. Горенский прочел записку и вспыхнул. Это было краткое предписание – явиться на сборный пункт для участия в манифестации. «Ну вот, и слава Богу! По крайней мере конец», – тотчас сказал себе князь.
Когда курьер ушел, Горенский сел за стол и сосчитал оставшиеся у него деньги. Накануне, получив жалованье за вторую половину апреля, он внес хозяину квартирную плату за месяц вперед, расплатился в кооперативе и в мелочной лавке. Оставалось сто семнадцать рублей. Прожить до первой получки майского жалованья было бы очень трудно. Теперь положение становилось совершенно безвыходным с отъездом Кременецкого и Нещеретова, и взаймы взять было не у кого. Однако именно вследствие безвыходности своего материального положения Горенский не позволил себе задуматься ни на минуту: он вырвал листок из дешевенькой тетрадки и написал заявление о том, что уходит из Коллегии. Алексей Андреевич составил это письмо кратко, сухо и вежливо, с легким намеком на причину, ухода. Так в былые времена он написал бы заявление о своем выходе из какой-либо организации, где к нему или к его взглядам отнеслись бы без достаточного уважения (этого, впрочем, никогда не было). И в былые времена такое заявление князя Горенского вызвало бы в организации бурю, в обществе оживленные толки, обсуждалось бы в газетах и повлекло бы за собой разные письма сочувствия и протеста. Теперь, Алексей Андреевич это знал, его уход решительно никого не мог взволновать ни в обществе, – собственно общества больше и не существовало, – ни в самой Коллегии, – разве только многие тотчас пожелали бы посадить родственника на освободившееся место. «Вот как меня по дружбе посадил Фомин», – со злобой подумал Горенский. Он прекрасно понимал, что его приятель хотел оказать ему услугу; тем не менее раздражение против Фомина с той поры все росло у Алексея Андреевича.
«Ну, вот и кончено, и слава Богу», – повторил Горенский. – «Plaie. d’argent n’est pas mortelle»…[55]55
Деньги – дело наживное (фр.)
[Закрыть] Он вторично пересчитал деньги: сто семнадцать рублей. Найти службу вне советских учреждений было теперь невозможно. «Уехать на Юг? Это можно было с командировкой, как уехал Фомин, или с украинскими бумагами, как Кременецкий, и с его деньгами… Попытаться перейти границу нелегально? На сто семнадцать рублей не уедешь… Да и там сейчас гадко, у самостийников. Ничего, как-нибудь выпутаюсь. „Plaie d’argent n’est pas mortelle“, – сказал он снова вслух – и вдруг в полном противоречии с французской фразой, у него скользнула мысль о самоубийстве.
Горенский очень устал в последние месяцы, устал физически и душевно, устал от всего, от катастрофы, так неожиданно обрушившейся на Россию, от унизительной бедности, которой он никогда до того не знал. «Да, покончить с собой, это очень просто», – подумал он, опять смутно чувствуя то же самое: прежде его самоубийство было бы сенсацией на всю Россию; теперь оно не произвело бы впечатления почти ни на кого. «Покончил с собой князь Горенский, жаль, вечная память… Другие скажут: давно бы так»… Алексей Андреевич был не слишком честолюбив и еще менее того тщеславен. Но эта пустота, безнадежная глухая пустота, в которую погрузилась вся прежняя Россия, тяжко его угнетала. «Нет, с поля битвы не бегут!.. – сказал он себе. – Хотя какая же теперь битва? Они стригут и режут нас, как баранов. Это не битва!»








