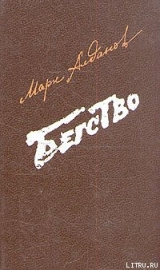
Текст книги "Бегство"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
III
Револьвер, приобретенный Витей в самом начале революции, мирно пролежал полтора года в спальной Натальи Михайловны. После первых мартовских дней родители отняли его у Вити, ссылаясь на то, что народ уже одержал полную победу. Витя возражал: быть может, еще придется отстаивать завоевания революции с оружием в руках. Но возражал он сбивчиво, без достаточного напора; револьвер был отобран и помещен в большой шкаф Натальи Михайловны, как в наиболее укрепленное место квартиры. Железного шкафа у Николая Петровича не было. Не было никогда в доме и оружия. Николай Петрович, правда, говорил, что в молодости охотился и что хорошо было бы как-нибудь привезти в Петербург прекрасную двустволку бельгийской работы, в свое время им оставленную на хуторе у приятеля. Однако Наталья Михайловна, не любившая огнестрельного оружия, относилась к рассказам мужа и к двустволке неодобрительно-скептически: «Знаем мы вас, охотников! Ладно, поохотился и будет, обойдемся без твоей двустволки»…
Со времени ареста Николая Петровича Витя ни разу не заглядывал на квартиру родителей. В пору своей работы в лаборатории он подумывал о револьвере. Но Браун решительно запретил ему носить оружие.
– Если так вас арестуют, можно будет выпутаться из беды. А найдут оружие – тогда конец.
Довод был сильный, Витя все же согласился с ним неохотно. Он знал вдобавок, что сам Александр Михайлович никогда не расстается с браунингом. Теперь, уезжая, Витя твердо решил захватить с собой револьвер, который при переходе границы очень мог пригодиться. Поэзию оружия Витя по своей юности чувствовал с особенной силой.
В квартире Николая Петровича давно распоряжалась Маруся, все ключи находились у нее. Говорить ей о револьвере было неудобно; Витя решил прибегнуть к хитрости. Дня через два после отъезда Клервилля и Муси он позвонил по телефону Марусе; сказал, что постельного белья у него осталось немного, надо бы взять еще из шкапа. Маруся очень это одобрила.
– Хотите, я вам в субботу принесу? И простыни, и наволочки… Все цело, как при маме покойнице. Нитки ни одной не пропало.
– Нет, спасибо, я сам зайду… Да вот сегодня в пять часов.
К удивлению Муси, Витя легко согласился уехать за границу и почти без спора принял ее доводы, когда узнал, что на его отъезде настаивает Александр Михайлович и что сам он тоже уезжает.
– Со мной и от отца готов уехать, – потом, как бы раздраженно, говорила Муся Сонечке. – И, разумеется, он на седьмом небе оттого, что мы все узнали об его славной революционной деятельности!
Муся произнесла эти слова с насмешкой, но в душе она гордилась смелостью Вити. Сонечка тоже была поражена.
– Нашел, чем хвастать, мальчишка: экого дурака в сущности свалял!.. Все они его за нос водили.
– А тебе, неприятно, что он тоже едет за границу? – робко спросила Сонечка, вытирая слезы (она плакала теперь постоянно). – Тебе неприятно из-за Вивиана?
– Какие глупости! Я, напротив, страшно рада, что хоть он вырвется отсюда. Лишь бы благополучно проскочил. Но за вас двоих мне теперь так больно!.. Так больно, Сонечка!..
– Что с нами может случиться, Мусенька?.. Притом ведь доктор сказал, что Глаша скоро встанет.
– Да, сказал, иначе я не уехала бы. Но все-таки… Ты помнишь мои инструкции?.. Повтори.
Сонечка плакала все сильнее, смеялась, опять плакала и повторяла инструкции, которые оставляла Муся в предвиденьи разных случайностей.
Маруся торжественно вела Витю по комнатам. Она, видимо, очень гордилась тем, что ничего из вещей не продала. Квартира была та, да не та. В кабинете на ящиках стола виднелись сургучные печати. Везде, уже с передней, пахло бельем и утюгами. Этот запах бедности неприятно поразил Витю, хоть ему было и не до того.
– Скучно вам теперь? – сочувственно улыбаясь, спрашивала Маруся.
– Скучно…
– Ну, ничего.
– Ну, ничего, Бог даст, опять свидетесь… Вот когда кончится война.
«Не когда кончится война, а через неделю», – подумал Витя. День его отъезда и даже час встречи в Гельсингфорсе были заранее назначены и окончательно закреплены шепотом при отходе поезда, на Финляндском вокзале (Мусю и Клервилля провожали все, даже Маруся).
– Бог даст, когда-нибудь, – беззаботно ответил Витя.
Маруся подала ему связку ключей и несколько исписанных листков бумаги.
– По записке все и проверьте: это белье, это посуда… Вот чашку одну я разбила, из тех белых…
– Да бросьте, Маруся, как вам не стыдно!.. Стану я проверять, точно я вас не знаю.
– Уж знаете или не знаете, а вы проверьте, – говорила грубовато-фамильярным тоном Маруся, очень польщенная его словами. – А потом чаю выпьете, я самовар поставила.
– Спасибо, чаю выпью с удовольствием.
– Сахар есть, сейчас принесу. Мне у нотариуса восемь кусков должны, еще вчера хотели отдать… От маминого шкафа этот ключ.
– Да, я знаю…
Витя родился и прожил всю жизнь в этой квартире. Николай Петрович снял ее тотчас после свадьбы и не хотел съезжать, хотя увеличились и семья, и жалованье. Наталья Михайловна не раз заговаривала о том, что квартира тесновата, всего пять комнат, что улица плохая, и парадный ход бедный; но и она не очень настаивала на перемене, так как была суеверна: здесь они жили очень счастливо, а еще Бог ведает, как было бы в другом доме? Рассказы о квартире, о первых днях на ней, о покупке мебели, об его рождении Витя помнил с ранних детских лет. У родителей лица принимали особенное нежное выражение, когда они об этом вспоминали. «Может, папа и мама здесь бы и весь век прожили, если б не революция…» Мысль о том, что можно прожить весь век на одной квартире, прежде привела бы в ужас Витю. Теперь она его умиляла.
Он вошел в спальную и открыл шкап, с которым у него связывались воспоминания раннего детства. Из шкапа повеяло знакомым запахом старого дерева и душистого мыла. Витя вздохнул. Длинный ящик с мягкой ситцевой крышкой стоял на своем месте так же, как и коробочка с дорогими запонками Николая Петровича, надевавшимися только в исключительных случаях. «Тут бедная мама хранила свои сбережения, тут же и бонбоньерка была, что тогда к именинам принес Владимир Иванович… Вот она внизу, бонбоньерка… Я бегал к маме за конфетами пока не вышли все…» Револьвер лежал на самом верху шкапа, прикрытый для верности мохнатыми полотенцами. Николай Петрович в свое время по требованию жены его разрядил; патроны, которых Наталья Михайловна боялась меньше, были положены в пустую баночку от кольдкрема. Витя осторожно попробовал, уже не забыл ли, как заряжают. Относительно предохранителя он не был уверен: не то надо поднять стерженек, не то опустить. Зарядив револьвер, он повертел приятно потрескивавший барабан, полюбовался появлявшимися на стальном фоне желтыми ободками патронов, затем сунул револьвер в карман и подумал, что если сейчас на улице обыщут, то крышка.
Отводя подозрение Маруси, он взял из шкапа несколько полотенец, платков, наволочек и неумело завязал их в простыню… «Разве и запонки тоже взять? Еще обыск будет… Нет, не надо. Лучше только их положить сюда». Он приподнял мягкую крышку коробки и, вместо перчаток, увидел большую, перевязанную ленточками, пачку писем, писанных столь знакомой ему рукою. Первым движением Витя смущенно закрыл коробку. «Однако уж это никак здесь нельзя оставлять. Запечатаю и передам папе, если увидимся… Когда увидимся», – вздрогнув, поправил себя он и бережно спрятал в боковой карман письма, затем запер шкап и вышел в свою комнату.
Здесь было всего больше перемен. По-видимому, в этой комнате устроилась теперь Маруся. На письменном столе стояли утюги. Постель была покрыта не прежним синим стеганым одеялом, а другим. В углу висели платья. Только полки с книгами были такие же, как прежде. Витя подошел к ним. По этим полкам легко было проследить его биографию. На самый низ были давно положены истрепанные книги, скрываемые от глаз товарищей: уютные томики «Bibliotheque rose»[74]74
«Розовая библиотека» (фр.) – серия детских книг, выходившая во Франции.
[Закрыть], английские школьные повести, Буссенар, «Грозная Туча», «Князь Иллико», «Сын Гетмана». Большую часть полок занимали «полные собрания сочинений», – Наталья Михайловна всегда ворчала, что не нужно тратить столько денег на переплеты и что отлично можно переплетать в одну книгу не два, а три тома. На показной полке стояли «История философии» Виндельбанда, предел премудрости русских гимназистов, Иванов-Разумник и Анатоль Франс, Дрэпер и Сологуб, разные альманахи и «Вестник Знания». Над полками, к стене булавками была приколота фотография молодцеватого матроса, друга Маруси, – это было Вите неприятно. «Да, надо взять книжку на дорогу», – подумал он. Книги верхней полки его не соблазнили; русских классиков он знал наизусть. Витя нагнулся и взял наудачу книгу снизу. На красном потертом и выцветшем с верхнего края переплете, на фоне московских церквей, был изображен опиравшийся на бердыш мрачный бородатый стрелец. Витя с улыбкой перелистал книгу. Боярин Кирилло Полуэхтович пришел за царской невестой, которая волновалась и не хотела следовать за боярином: «Ой, невмоготу… Тягота на мне больно великая… Плечи давит… Ноги вяжет… К земле так и клонит, ровно веригами гнетет, матушка родимая…» Но матушка ничего не желала знать: «Али ты спятила, государыня-царица, моя доченька… И молчи, нишкни… Што за речи пустяшные… Значитца, так надоть… Ну, на меня обоприся, не молода, а выдержу… И не досадуй ты, не зли ты меня, слышь, Наталья… Царицушка, моя дочушка, шагай, шагай, порожек тута…» Люди усадили Наталью в каптанку царскую, которая здесь же была изображена на глянцевитом вкладном листе. На передней лошади, раздирая ей рот удилами чуть не до ушей, сидел воинственный стрелец, которому в свое время Витя удлинил красными чернилами бороду. Витя засмеялся и вздохнул. Теперь и ему надо было уезжать, правда не в каптанке и не верхом на резвом коне.
– Что же вы? Чай подан в кабинете, – сказала, появившись на пороге, Маруся. – Я теперь у вас устроилась, а то у меня очень темно. Постельное белье свое взяла… Идите же чай пить.
Она чувствовала себя хозяйкой квартиры, а его как бы гостем, которого надо угощать и занимать. Витя перешел в кабинет. Увидев завязанный им сверток с бельем, Маруся захохотала.
– Вот так завернул! – сказала она. – Все сейчас же вывалится… Дайте, я сделаю, где уж вам!.. А вы чай пейте, пока горячий.
– Спасибо.
– Что ж так мало белья взяли? Дайте ключ, я еще прибавлю.
– Нет, не надо, я скоро опять зайду… В другой раз.
«Проверять хочет почаще… В маменьку пошел», – подумала Маруся. Она, впрочем, нисколько не обиделась: Маруся относилась к Вите с материнским чувством.
– В другой раз само собой… Все будет цело, будьте спокойны, – многозначительно заметила она, показывая, что разгадала его тайное намеренье. – И ключ можете у себя оставить…
– Да нет же!.. Вы, Маруся, не стесняйтесь: если вам нужно, продавайте. Ведь я понимаю, что и вам теперь трудно жить… Папа, я уверен, ничего не скажет.
– Ну вот, продавайте! Какие глупости! – с возмущением ответила Маруся, недоверчиво и насмешливо глядя на Витю. По ее мнению, и сам он не имел права распоряжаться оставшимся на квартире имуществом.
– Я вам разрешаю, – повторил Витя. При всем своем демократизме он был задет ее словами: «Какие глупости!» Маруся тотчас это заметила, – сама чувствовала, что не позволила бы себе так выразиться прежде, даже тогда, когда Витя был еще значительно моложе.
– Как же это: продавать! – сказала она. – И Николаю Петровичу понадобится, да и вы не всегда будете жить у барышень… Папу, верно, скоро выпустят, – добавила она совершенно таким тоном, каким говорят старикам на их золотой свадьбе: «Ну, мы еще и на вашей бриллиантовой попляшем». Не получив ответа, Маруся тяжело вздохнула.
– Дайте мне белье, я все сложу. Веревочка у вас где-то должна быть… Сахару я не положила, сами возьмите.
Она вышла. Витя взял из стоявшей на подносе старинной серебряной сахарницы маленький кусок сахару (если б он не взял, Маруся обиделась бы) и сел на диван, все время чувствуя в правом кармане что-то новое, тяжелое и страшное. «А то положить сюда?.. Так выхватить будет легче. Только бы не прорвал подкладку…» Опять немного полюбовавшись револьвером, Витя положил его во внутренний карман пиджака, отхлебнул глоток чаю и поставил стакан на табурет. Все, подстаканник, поднос, сахарница, было так ему знакомо, и все теперь его умиляло. «Да, у них была настоящая жизнь, органическая», – подумал о родителях Витя. Слово было книжное, но он ясно чувствовал, что такое органическая жизнь. В это понятие входили и сахарница, и подстаканник, и письма, перевязанные шелковой ленточкой, и шкап с запахом старинной шкатулки, и его собственные книги с картинками, и блины на Масленицу, и общие поездки в Музыкальную Драму, в Александрийский театр, и вся эта небогатая, милая и уютная квартира, освещенная даже теперь прошедшей в ней жизнью хорошей, образованной русской семьи. Витя смутно, инстинктом, чувствовал, что у него, у его сверстников уже не будет этой органической жизни. «В столовой прачешная, – что сказала бы мама! Папа в крепости, а я сам не Витя Яценко! Вот кто я…» Он вынул из внутреннего кармана свой фальшивый паспорт, раскрыл и в сотый раз представил себе предстоящий переход границы в Белоострове. «Bitte»[75]75
Пожалуйста (нем.)
[Закрыть], – с чистейшим немецким акцентом хладнокровно сказал он советскому разведчику. Однако и тут в кабинете, очень далеко от Белоострова, при этом «Bitte» у Вити мурашки пробежали по спине. К первой странице новенького, пахнувшего клеем паспорта был неровно прикреплен зажимом пропуск из Смольного Института. «Интересно, как они достали пропуск? Смотреть гадко… Не странно ли, что я бегу с немецким паспортом!.. После всего», – подумал Витя, разумея свою четырехлетнюю патриотическую ненависть к Германии. «Да, паспорт знаю назубок… „Familienname“… „Vorname“… „Ständiger Wohnsitz mit Adresse“… „Beruf“…[76]76
Фамилия… имя… адрес постоянного места жительства… профессия… (нем.)
[Закрыть] Все-таки досадно, что написали гимназист, могли написать студент». «Danke sehr»[77]77
Большое спасибо (нем.)
[Закрыть], – вслух сказал Витя, получая паспорт от одураченного разведчика. «Немцы говорят так нараспев: „Danke sehr, danke schön“… Нет, это кажется, больше кельнеры… Надо просто флегматично бросить „danke“. А если у них возникнут подозрения? Если спросят? – „Wie meinen Sie? Ich verstehe nicht russisch“…[78]78
Что вы имеете в виду? Я не понимаю по-русски (нем.)
[Закрыть] И тогда уже готовиться, следить за каждым движением… Предположим самое худшее, сразу распознают, что он тогда может сказать? Благоволите следовать за нами…» Или, если нарвешься на грубиянов: «Знаем мы тебя, какой ты немец! Ты матерой русский контрреволюционер!» – «Ах, знаете? Ну, тем лучше, получайте… Раз-два!..» – Витя выхватил из кармана револьвер и направил его на шкаф с книгами. – «Предохранитель, разумеется, перед Белоостровом переведу… Двух-трех могу ухлопать… Последний выстрел себе в лоб… Или лучше в рот? Но так, чтоб сразу смерть: нельзя им отдаться живым… Официального сообщения, верно, не будет, но из газетной хроники они все узнают: „Кровавое дело в Белоострове… Отчаянное сопротивление переодетого видного контрреволюционера…“ „Впрочем, довольно ребячиться!“ – с сожалением подумал Витя.
Он спрятал снова револьвер, паспорт, взял стакан с мокрого блюдечка и поставил его на газетный лист, которым был накрыт табурет. На запыленном листе образовался не сомкнувшийся в круг ободок. Помешивая ложечкой в стакане, Витя рассеянно прочел справа от ободка:
«По требованию гласного Левина, предложение о том, чтобы вся дума пошла в Зимний Дворец, подвергнуто было поименному голосованию. Все без исключения гласные, фамилии которых назывались, отвечали: „Да, иду умирать“ и т. п.».
IV
Николай Петрович в недоумении остановился на пороге. В комнате, в которую его ввели латыши-разведчики, было темно. Только одна маленькая матовая лампочка горела у короткой стены, слабо освещая стул и небольшую часть пола. На другом, неосвещенном конце длинной комнаты с трудом можно было разглядеть стол. Яценко не столько увидел, сколько почувствовал, что за столом сидит человек. «Верно это он и есть, Железнов», – подумал Николай Петрович, беспокойно оглядываясь на выходивших из комнаты разведчиков. Дверь за ними закрылась. Стало еще темнее. «Ну, что ж, мне совершенно все равно, – подумал Яценко. – Один конец, и слава Богу…»
Николай Петрович действительно в последнее время думал, что жизнь его пришла к концу. Из Трубецкого бастиона каждую ночь, около трех часов, уводили людей на расстрел. До наступления террора Яценко никак не предполагал, что его могут расстрелять; он и самый арест свой приписывал непонятному недоразумению. Перспектива близкой смерти надвинулась на Николая Петровича внезапно и вначале именно своей внезапностью его потрясла. Особенно страшна была вторая ночь: в первую – он еще неясно понимал, что такое происходит в крепости. Потом стало легче. «Да, я внутренне был вполне подготовлен», – думал с удовлетворением и гордостью Яценко. Все же в пятом часу, с рассветом, когда становилось ясно, что, если и расстреляют, то уж никак не в эту ночь, Николай, Петрович испытывал необыкновенное облегчение, которого он стыдился: «Вот и подготовлен!.. Слабое животное человек…» На самом деле он все-таки не верил, что его казнят, – юрист в нем сидел твердо. Яценко знал из исторических книг, что в пору революций людей часто казнили без всякой вины; но отнести к себе такую возможность ему было трудно. Никаких приготовлений он не делал, чувствуя, что готовиться по-настоящему можно только в самую последнюю минуту, когда ни сомнений, ни надежды больше не останется. Николай Петрович заставлял себя заполнять день так же, как прежде, однако, шахматные партии у него не выходили. Читал он теперь только философские и религиозные книги, а в них самые важные, трагические главы. Это чтение его успокаивало; но иногда, в худшие минуты, ему казалось, что успокоение от книг было не настоящим, искусственным, порою чисто словесным. Так, ненадолго доставила ему утешение мысль греческого мудреца: «Пока ты существуешь, нет смерти; когда приходит смерть, ты больше не существуешь; значит бояться тебе нечего». Потом Николай Петрович подумал, что мысль – эффектная и фальшивая. «Все равно, как я твердо знаю, что Ахиллес догонит черепаху, чтобы они там ни говорили. Вот здесь, в камере, и я существую, и смерть существует рядом со мной… Нет, не так успокаивают куранты…»
Часто думал Яценко и о том, что он обязан соблюсти до конца достоинство, – обязан и перед собой, и перед памятью Наташи, и перед Витей, хоть Витя, верно, никогда о том не узнает. Он чувствовал ответственность и перед всей своей прошлой деятельностью, перед русским государством, перед тем ведомством, в котором прошла вся его жизнь: несмотря на свои новые мысли, Николай Петрович свою службу вспоминал с гордостью.
На допрос его позвали в первом часу ночи. Для расстрела час был слишком ранний, и Яценко поверил, что зовут именно на допрос. «Наконец-то хватились!» – с радостным и тревожным чувством думал он, следуя за латышами в канцелярию крепости.
– Садитесь, пожалуйста, – негромко сказал сидевший за столом человек. Яценко вздрогнул. Он сел на стул под матовой лампой.
«Ни к чему все это, старые фокусы, знаю», – подумал Николай Петрович. Он знавал, особенно в провинции, следователей, которые при допросе устраивались так, что на допрашиваемых падал свет, а допрашивающий оставался в тени, – и очень верили в этот школьно-романтический прием. «Все-таки у Скобцова в Саратове не было в камере так темно. Этот, вероятно, еще мальчишка… Да мне совершенно все равно. Неужели, однако, так и разговаривать с разных концов комнаты?.. – Глаза Николая Петровича немного привыкли к темноте, но разглядеть комиссара он не мог. – Нет, не мальчишка, кажется, длинная борода… Хорошо, дальше что?» – спросил он себя с неловким чувством, – так непривычно было сидеть у стены на стуле, без стола. Не зная, что делать с руками, он положил их на колени и немного наклонился вперед.
– Ваша фамилия? – спросил комиссар.
– Яценко, – ответил Николай Петрович, не сразу соразмерив звук голоса с непривычно большим расстоянием от собеседника.
– Имя-отчество?
– Николай Петрович.
– Николай Петрович Яценко, – повторил голос в темноте. Николай Петрович вдруг почувствовал легкое сердцебиение. – Вы были действительным статским советником в пору царизма? – поспешно спросил комиссар и, не дожидаясь ответа, добавил: – Что вы можете сказать по делу, по которому вы обвиняетесь?.. Предупреждаю, что на уличающие вас вопросы вы можете не отвечать.
Сердце у Николая Петровича как будто без причины забилось еще сильнее. – «Не случился бы нервный припадок!.. Надо ответить… Что ж это, он пародирует наш суд?.. Пускай, мне все равно. Только бы сердце успокоилось… Что такое он спросил?» – Яценко воспроизвел в памяти звук заданного ему вопроса: «…по делу, по которому вы обвиняетесь…»
– Мне неизвестно, по какому делу я обвиняюсь, – ответил он.
– Вот как?.. Ничего неизвестно?
– Ничего.
– Ничего… Так-с…
Комиссар помолчал.
– Вы привлекаетесь к ответственности по делу о контрреволюционной Федосьевской организации, – сказал он наконец.
– Виноват, какой организации?
– Федосьевской… Федосьевской контрреволюционной организации, – повторил комиссар.
– Я о такой организации сейчас в первый раз в жизни слышу.
– В первый раз в жизни слышите?
– Да, в первый раз от вас слышу.
– Ах, от меня в первый раз слышите? Может быть, от других слыхали прежде?
«Ну да, шулер! – подумал Яценко. – Или он издевается? И тон как будто издевательский… Конечно, мне все равно… Как колотится, однако, сердце… Не упасть бы в обморок…»
– Нет, и от других никогда не слыхал, – равнодушным тоном ответил он, справившись с дыханием.
– И от других никогда не слыхали?.. Так-с…
– Не слыхал.
– А о господине Сергее Федосьеве вы слышали? – спросил, опять помолчав, комиссар.
– О том, который при старом строе ведал политической полицией?
– О нем самом.
– Да, о нем слышал.
– О нем слышали… Может, и лично знали?
– Да, знал и лично.
– Его знали и лично… Так-с… Когда вы его видели в последний раз?
– Давно… Года полтора-два тому назад.
– Ах, года полтора-два тому назад? Стало быть, еще при царизме?
– Да, при старом строе.
– С тех пор ни разу не видали?
– Нет, с тех пор ни разу не видал.
– Так-с… На какой почве состоялось ваше знакомство?
– У нас раз возникли деловые служебные отношения, – ответил, с трудом дыша, Яценко. Непонятная тревога росла у него с каждой минутой. «Надо отвечать коротко… Так легче…»
– Деловые служебные отношения? Письменные?
– Как?.. Нет, устные.
– Только устные?
– Да, только устные.
– Федосьев никогда вам не писал?
– Никогда…
– Ни разу?
– Ни разу… Дайте, однако, вспомнить… Нет, ни разу.
– В этом уверены?
– Совершенно уверен.
– Нам, напротив, известно, что он вам писал, гражданин Яценко.
– Вы ошибаетесь.
– Вспомните… Постарайтесь вспомнить…
– Я твердо помню: Федосьев никогда мне не писал.
– Так-с… Где находится ваш служебный архив?
– В ту пору, когда я был следователем по важнейшим делам, мой архив находился в здании суда на Литейном (Николай Петрович передохнул после длинного предложения). И лотом вместе с этим зданием сгорел… После февральской революции я получил другое назначение, и с тех пор мои бумаги…
– Тогда сгорел весь ваш архив? – перебил его комиссар.
– Да, тот архив весь.
– Разве вы никогда не уносили служебных бумаг из здания суда?
– Иногда уносил ненадолго на дом для работы… Но затем немедленно возвращал назад.
– Всегда и все?
– Разумеется, всегда и все, – повторил Яценко. «Что за странный допрос! Что ему нужно?..»
– В вашей частной квартире действительно при обыске никаких служебных бумаг найдено не было, – несколько более мягким тоном сказал комиссар. – Но, вероятно, вы хранили их еще и в другом месте?
– Где же еще? Хранил в своем кабинете в здании суда… Там все и сгорело.
– Так что и переписка ваша с Федосьевым сгорела во время пожара?
– Я вам сказал и повторяю, что у меня… никакой переписки с Федосьевым не было… Впрочем, погодите: один раз я ему действительно писал.
– Ах, один раз писали? – резко сказал комиссар. – Но вы только что утверждали, что не писали никогда, ни разу, что вы твердо это помните!
– Я утверждал, и продолжаю утверждать, что он мне никогда, ни разу не писал… Но я ему раз действительно писал по одному делу, которое…
– Где же находится это ваше письмо? – еще резче перебил его комиссар.
– Должно быть, в архиве Федосьева.
– А где находится архив Федосьева?
– Этого я не знаю.
– Как не знаете? По той должности, которую вы занимали до октября, вы не можете этого не знать!
– Совершенно не знаю… Мне не было никакого дела ни до Федосьева, ни до его архива. Вероятно, его архив находится там, где был его кабинет… Или, может быть, его куда-нибудь оттуда перевезли… Ведь всем этим занялись историки. А часть полицейских бумаг, помнится, была уничтожена… в первые дни революции… Тогда много документов должно было погибнуть. Так, по крайней мере, говорили. Во всяком случае я ничего об этом не знаю… И никакого отношения к этому я не имел.
– Вы однако же хотите меня уверить в том, что вы после революции не поддерживали никаких отношений с Федосьевым?
– Не знаю, удастся ли мне вас уверить… но это именно так: я никаких отношений с ним не поддерживал… Да ведь он и исчез из Петрограда в первые же дни революции.
– Нам доподлинно известно, что он находится в Петрограде.
– Возможно… Об этом я ничего знать не могу… Хотя бы потому, что давно сижу в крепости.
– Хотя бы потому? Значит, вы признаете, что до вашего ареста вы поддерживали отношения с Федосьевым?
– Послушайте, – сказал, бледнея, Яценко (сердце у него колотилось страшно). – Так совершенно бесполезно допрашивать… Я сам был всю жизнь следователем… И если вы думаете, что меня можно поймать… при помощи таких приемов… вы ошибаетесь… Я вам говорю, что…
– Мои приемы стоят ваших, гражданин Яценко! – сказал, поднимая голос, комиссар. Николай Петрович замер.
– Я вам говорю, что ни разу… не видал после революции Федосьева, – едва выговорил он. – Хотите верьте этому, хотите нет… Ни о какой организации я… понятия не имею!.. И если…
– Но вы сами признали, что работали при царизме совместно с Федосьевым! Этого достаточно!
– Достаточно… для чего?
– Достаточно для того, чтобы привлечь вас к ответу перед революцией, господин Яценко!
– Так и говорите!.. Тогда, по крайней мере, не выдумывайте… контрреволюционных организаций!..
– Но вы состояли и состоите в Федосьевской организации!
– Нет, не состоял и не состою!.. Если вообще такая организация существует…
– Вы говорите неправду, господин Яценко! – привстав из-за стола, вскрикнул изменившимся голосом комиссар. В комнате резко прозвучал звонок.
Николай Петрович открыл рот, тоже привстал и вдруг откинулся на спинку стула. «Ну да, это он!..»
– Вы Загряцкий! – сказал, задыхаясь, Николай Петрович.
– Отведите его! – прокричал вошедшим разведчикам комиссар.








