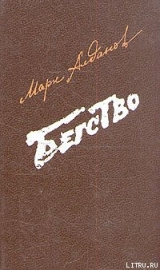
Текст книги "Бегство"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
– Вы хотите уехать из России? Почему же?
– Да уж так… Знаете, в Писании сказано: «вот чего не может носить земля: раба, когда он царствует, и глупца, когда он насытится хлебом»… Жизнь меня слишком часто баловала вторым: зрелищем самодовольных дураков. Но, оказалось, первое гораздо ужаснее: «Видел я рабов на конях, и князей, ходящих пешком»…
– Вам не совестно это говорить? – взволнованным голосом сказала Ксения Карловна. – Мы положили конец рабству, а вы нас этим попрекаете! Вы, вдобавок, и не князь и никакой не аристократ, что ж вам умиляться над обедневшими князьями?
Браун засмеялся.
– Очень хорошо, – сказал он, – очень хорошо… Вы, очевидно, к моим словам подошли с классовой точки зрения. Самое характерное для большевиков – плоскость (Ксения Карловна вспыхнула). Среди вас есть люди очень неглупые, но загляни им в ум – в трех вершках дно; загляни им в душу – в двух вершках дно. А если еще добавить глубокое ваше убеждение в том, что вы соль земли и мозг человечества!.. – Браун махнул рукой. – Спорить с вами совершенно бесполезно и так скучно!.. Большевистская мысль опошляет и тех, кто с ней спорит.
– Как же мне было вас понять? – сказала, видимо, сдерживаясь, Ксения Карловна. – Рабство категория экономическая… Не скрываю, я от вас ждала все-таки другого. Ваш хозяин, выстроивший эти хоромы, может так говорить, но не вы!
– Мой хозяин – «глупец, насытившийся хлебом», но он тут ни при чем. Он по крайней мере свою глупость никому насильно не навязывает. Вашей же партии я предсказываю бессмертие: такой школы всеобщего опошления никто в истории никогда не создавал и не создаст… Да, помимо всего прочего, большевистская партия – это гигантское общество по распространению пошлости на земле, – вроде американского кинематографа, только неизмеримо хуже. Людям свойственно творить гнусные дела во имя идеи, – здесь и вы, быть может, не побьете рекорда. Но иногда идея бывала грандиозной или хоть занимательной. А у вас и самой идее медный грош цена.
– Это идея раскрепощения человечества, не больше и не меньше! Как же не медный грош цена! «Занимательного», разумеется, немного, но мы…
– Полноте, все политические деятели работают на человечество, уж тут вы торговой монополии не получите… Ваши идеи, вот они, – Браун взял со стола газету. – Нет, и не трудитесь выбирать: загляните в любой столбец, ваша идея везде. Ее поймет без всякого труда и обезьяна. А уж пуделю она покажется, быть может, слишком элементарной… Почитайте, почитайте, – сказал он, нервно тыча рукой в газету. – Я когда-то в Париже, в минуты мрачного настроения, останавливался перед киосками на бульварах: газеты всех направлений, газеты на всех языках, тут и серьезное, тут и юмор, тут и политика, тут и литература. – «Какой ужас! – думал я: – девять десятых ложь, и все духовная отрава!»… Теперь, по сравнению с вашей печатью, мне передовик «Petit Parisien» кажется Шопенгауэром, а репортер «Daily Mail» – Декартом… Глупое есть такое слово, которому очень повезло в нашей литературе: «мещанство». Господи, какое мещанство вы породите в «самой революционной стране мира»! Ну, просто европейским лавочникам смотреть будет любо и завидно. А тогда вы все свалите на перспективу: посмотрим, мол, что люди скажут через пятьсот лет? Это очень удобно, и вы, вдобавок, будете правы, ибо и через пятьсот лет много будет дураков на свете.
– Я вижу, что вы очень раздражены, – сказала сухо Ксения Карловна, – и, если на то пошло, добавлю, что это характерно: бесстрашие философской мысли и отвращение к политическому действию. Безошибочный признак житейского дилетантизма, забвение всего того, чему вы служили…
– Чему я служил, – перебил ее Браун, – это вопрос другой и довольно сложный. Во всяком случае вашим сослуживцем я никогда не был и мне, слава Богу, в отставку подавать не надо. А вашей партии, – продолжал он (лицо его было бело от злобы), – вашей партии я в сущности могу быть только благодарен. Я не имел больше никаких почти интересов в жизни. Вы, как юношам у нас в провинции учителя гимназии, вы дали мне жизненную цель. Плохенькую, но дали!..
– Бороться с нами будете? Тогда, пожалуй, не очень конспиративно мне об этом заранее заявлять, – сказала со слабой улыбкой Ксения Карловна.
– Обязаны донести?
– Обязана, но не донесу, хотя бы потому, что не очень мы боимся дилетантов.
– Ну, вот, все сказано. Бросим в самом деле этот разговор.
– Хорошо, бросим… Как же вы живете?
– Ничего, слава Богу. Угла своего, благодаря вашему правительству, не имею. Как видите, живу в гостях.
– На недостаток комфорта, кажется, вы пожаловаться не можете? – сказала Ксения Карловна, обводя пренебрежительным взглядом богатую гостиную.
– Да, да… А вы как устроились?.. Ведь я вас только раза два видел мельком со времени вашего возвращения из-за границы. В газетах что-то читал о товарище Каровой и вспомнил, что это была ваша кличка…
– Мы так с вами разошлись в политическом отношении, что я не решалась вас тревожить.
– Помнится, мы никогда не были близки в политическом отношении. Вы всегда были большевичкой.
– С самого основания партии, – с гордостью подтвердила Ксения Карловна. – А вы всегда были «Озлобленный ум»… Кажется, так кто-то шутит у Тургенева?.. Я, однако, посещала в Париже ваши лекции не только с удовольствием, но и с пользой.
– Еще раз благодарю… А знаете, с кем я здесь познакомился? С вашей… С госпожой Фишер, женой вашего отца.
– Она меня весьма мало интересует, – холодно-презрительно сказала Ксения Карловна.
– А сам ваш отец вас интересовал? Что ж вы меня о нем не спросите? Ведь я с ним встречался в последние месяцы его жизни…
– Мы были чужие друг другу люди. Не стану притворяться неутешной дочерью… Я принимала отца как существующий факт.
– А деньги существующего факта вас интересовали?
– Однако это уж… Вы очень не любезны!
«Если вы только теперь это заметили», – хотел было ответить Браун, но удержался. Он смотрел на Ксению Фишер со злобой и с насмешкой. «И весь твой большевизм от безобразной наружности», – подумал он.
– Любезность никогда моей специальностью не была, а теперь, я думаю, она и вообще отменена, – сказал Браун. – Когда вы освободите человечество, постарайтесь его еще немного и облагородить. Очень повысятся другие ценности. Скажем, например, ум или хотя бы наружность? С этим ведь и ваша партия ничего не поделает. Сытые захотят стать красавцами, всего не нивелируешь, правда?
– Это замечание, извините меня, сделало бы честь Кузьме Пруткову, – сказала, вставая, Ксения Карловна.
– А то все, все фальшь, – продолжал Браун, тоже вставая. – О красоте говорят уроды, о любви к людям злодеи, об освобождении человечества деспоты, об охране искусства люди, ничего в искусстве не понимающие. Неудачники и посредственности построят новую жизнь на пошлости и на обмане… Так вы уже уходите, Ксения Карловна? Очень рад был вас повидать…
Ксения Карловна взглянула на него, наклонила голову и быстро направилась к выходу.
VI
Кружок Муси скучал. Развлечений в Петербурге оставалось все меньше. В театры никто не ходил. Говорить было не о чем: писатели не писали книг, художники не выставляли картин, никто не заказывал туалетов, новых сплетен было мало; как старыми туалетами, кое-как перебивались старыми сплетнями, да и то без оживления, – почти все подобрели. Старшие говорили только о большевиках; но так как относительно большевиков все в общем сходились, то и это было скучновато. Муся легче переносила скуку, чувствуя себя отрезанным ломтем. Другие же участники кружка упали духом. Князь Горенский больше не вносил с собой обычного оживления. Он, как говорил Никонов, быстро скис под живительными лучами светлого февраля. У не подобревшей Глафиры Генриховны забота о замужестве, теперь все менее вероятном, превратилась в навязчивую идею. Никонов обыкновенно бывал мрачен, когда оставался без копейки. Вздыхала даже Сонечка Михальская. Была она и немного влюблена, – не то в Витю, не то в Клервилля, не то в Березина, – скорее всего в Березина. Березин теперь бывал у Кременецких редко, отговариваясь тем, что живет он далеко.
Веселее других был Фомин. Он после революции вошел в состав коллегии по охране памятников искусства и на этом основании поселился в Зимнем Дворце. Дворцом Фомин очень охотно угощал добрых знакомых, причем показывал его так, точно прожил в нем всю жизнь или по крайней мере всегда был там своим человеком. Жил он сначала в третьем этаже, в одной из квартир, выходивших во Фрейлинский коридор (эти квартиры Фомин называл «сьютами»). Там он свел знакомство со старыми фрейлинами, которые еще не успели выехать из дворца, ибо деться им было некуда. С ними Фомин тоже разговаривал так, точно вся их жизнь прошла в одном тесном кругу. Фрейлины лишь приятно удивлялись неожиданной любезности, прекрасному воспитанию этого молодого человека, появление которого было в их памяти связано с потопом, обрушившимся на царскую семью, на них, на дворец, на Россию. Понемногу эта связь изгладилась у старых фрейлин из памяти; некоторые из них стали даже думать, что, быть может, Фомин вправду был своим человеком и как-то случайно лишь в пору революции появился в Зимнем Дворце: теперь ведь все было так странно и необычайно. Позднее фрейлины разъехались, а после октябрьского переворота помещения третьего этажа были заколочены и самому Фомину пришлось съехать. Однако, как чуждый политике человек и незаменимый специалист, он поладил с новым начальством коллегии. Интересы искусства это оправдывали. Фомину предоставили уже не «сьют»[6]6
номер «люкс» (англ.)
[Закрыть], а просто комнату в первом этаже дворца.
– Кто не видел того, что краса и гордость революции проделала с покоями второго этажа, тот ничего не видел, – говорил Фомин за чаем у Кременецких. Чай был подан в будуаре Тамары Матвеевны, которая теперь часто, к большому своему удовольствию, проводила время с молодежью. Прежде Муся этого не потерпела бы; но она напоследок была гораздо внимательнее и ласковей с матерью, зная, каким горем будет разлука с ней для Тамары Матвеевны. Впрочем, порывы нежности беспрестанно сменялись у Муси раздражением. «Бедная девочка, как она нервна!» – думала огорченно Тамара Матвеевна.
– Когда же вы нам все это покажете? – спросила Глафира Генриховна.
– Ах, да, Платон Михайлович, миленький, покажите нам дворец, – тотчас взмолилась Сонечка.
– С наслаждением…
– Когда? Когда?
– Когда вам будет угодно.
– Знаем мы это «когда вам будет угодно»… Вы сто лет нам обещаете и танцульку показать, когда нам будет угодно. Нам угодно завтра, вот что!
– С наслаждением.
– Что с наслаждением: дворец или танцульку?
– Странное сочетание, Сонечка. Но, si vous ytenez[7]7
если вам так хочется (фр.)
[Закрыть], и то и другое.
– Что вы, Сонечка! Побойтесь Бога! – вмешалась Тамара Матвеевна. – Про дворец я ничего не говорю, если Платон Михайлович берется вам показать, но как же вам идти на какую-то ихнюю танцульку? Там все эти матросы и хулиганы… Говорят, что там делаются ужасные вещи!
У Сонечки глаза так и загорелись.
– Да нет, Тамара Матвеевна, вы совершенно ошибаетесь, уверяю вас.
– Тамара Матвеевна, сжальтесь над Сонечкой, ей так хочется посмотреть танцульку.
– Но ведь это поздно вечером! Помилуйте, господа, разве теперь можно возвращаться ночью… Это безумие! Позавчера старика Майкевича ограбили в двух шагах от Невского.
– Ну, что вы, мама, – сказала Муся чуть раздраженным тоном (Тамара Матвеевна тотчас испуганно на нее взглянула). – То старик Майкевич, а то мы. Кто же нападет на компанию из десяти человек?
– Могу вас уверить, Тамара Матвеевна, никакой опасности нет, – вмешался авторитетно Березин. – Слухи об ограблениях очень раздуваются. Разве прежде не было уличных нападений? Разве не грабят людей каждый день в Париже или в Чикаго? В одном уж надо отдать полную справедливость нынешнему правительству: с уголовными преступниками оно не церемонится и расправляется с ними беспощадно.
В словах Березина не было ничего особенного, тем не менее они вызвали легкий холодок. Все замолчали. Сонечка изменилась в лице. Березин, по слухам, разговаривал с ними о каких-то гигантских театральных планах и в последнее время настойчиво твердил, что искусство по природе своей вполне аполитично.
– Разумеется, никакой опасности нет, – прервала молчанье Муся. – Итак, решено, вы нам устраиваете это на завтра, Платон Михайлович?
– Нет, право, это неудачная мысль, – продолжала слабо протестовать Тамара Матвеевна. – Гораздо лучше соберитесь завтра все у нас. Сидите за чаем хоть до поздней ночи, – предложила она, сразу забыв об опасности поздних возвращений домой: возвращаться надо было не Мусе. – А мы с Семеном Исидоровичем вам мешать не будем, мы теперь рано ложимся, – поспешно добавила Тамара Матвеевна.
– Что вы, Тамара Матвеевна, вы нас обижаете! Нам будет гораздо приятнее, если вы пробудете с ними весь вечер, – любезно возразил Фомин. Муся на него покосилась.
– Одно другому не мешает, – сказала она. – Мы придем сюда после танцульки… Мама, готовьте для нас ужин.
– Çа, c’est fort![8]8
Это уж слишком! (фр.)
[Закрыть] Разве можно, Марья Семеновна, в такое время взваливать на милую хозяйку такое бремя?
– Беневоленский, слышите? Он от волненья заговорил стихами: такое время, такое бремя.
– Как monsieur Jourdain faisait de la prose.[9]9
Господин Журден говорил прозой (фр.)
[Закрыть]
– Это можно было предвидеть, Платон Михайлович, что вы сейчас скажете о monsieur Jourdain, – вставила Глафира Генриховна.
– Господа, я очень рада. Нам будет очень приятно, а не бремя, – сказала Тамара Матвеевна. – Непременно все приходите возможно раньше, поужинаете, чем Бог послал.
– Ах, это будет мило!
– Но право, вам слишком много беспокойства.
– Зачем вы себя мучите?
Тамара Матвеевна уверяла, что ей никакого беспокойства не будет. Она только, к сожалению, не обещает роскошного ужина.
– Недавно один господин приехал из Киева, – со вздохом добавила Тамара Матвеевна, – и, представьте, он рассказывал Семену Исидоровичу, что там лавки ломятся от птицы, от сливок, от пирожных!
– Не может быть!
– Сон какой-то!
– Господа, тогда я предлагаю следующее, – сказал Фомин. – Встреча у меня, во дворце, завтра в восемь часов. Я вам покажу, что можно, затем мы отправимся на танцульку, а оттуда к этим милым расточителям и безумцам.
– А как же вас искать во дворце?
– На Детской половине, разве вы не знаете? Вход с Салтыковского подъезда.
– Это, кажется, со стороны сада?
– Ну да, ну да, – снисходительно пояснил Фомин. – Кого же еще надо предупредить? Мосье Клервилль в Москве, значит только Никонова и князя?
– Никонов обещал сегодня к нам зайти, я ему скажу. А вот Горенский… Господа, кто даст знать князю?
– Если хотите, я могу, – поспешно сказала Глафира Генриховна. – Я буду в тех местах завтра утром; могу сказать Алексею Андреевичу или забросить ему записочку.
– Вот и отлично, – ответила Муся, улыбнувшись чуть заметно, но все же улыбнувшись (это от Глаши не могло скрыться). Муся догадывалась, что Глафира Генриховна стала с некоторых пор подумывать о князе Горенском: в общей катастрофе начинали сглаживаться социальные различия. Муся желала, чтоб Глаша вышла замуж, и даже искренно (почти совсем искренно) сожалела о неудаче ее замыслов, связанных с адвокатом. Но Муся не могла желать, чтобы Глаша вышла за князя Горенского, – это было бы слишком блестящим делом. «Она заела бы Алексея Андреевича… Ну, да ничего из этого, разумеется не выйдет. Глаша – княгиня! – думала Муся. – Пусть она сделает среднюю приличную партию»…
– А вы как, милый Витя? – спросила она.
– Я не пойду, – ответил, скрыв вздох, Витя. Ему очень хотелось пойти со всеми, но траур этого не позволял.
– Разумеется, он не может, что ж и спрашивать? Было бы по меньшей мере странно, если б он пошел, – сказала Глафира Генриховна.
– Собственно почему? В сущности это так условно, – начала Тамара Матвеевна, которой очень хотелось развлечь мальчика. – Я Семену Исидоровичу и Мусеньке всегда говорила и говорю: когда я умру, умоляю никакого траура не соблюдать.
– Мама, перестаньте, пожалуйста. Что ж, если Вите тяжело идти с нами… Ну, хоть ужинать будем все вместе, – утешила Витю Муся.
– Ради Бога! – глубоким грудным голосом сказал взволнованно Вите Березин, складывая у груди ладони. – Ведь я еще не выразил вам сочувствия в этой ужасной утрате. Ради Бога, простите!.. Я был так тогда поражен кончиной Надежды Максимовны…
– Натальи Михайловны, – поправила Муся.
– Натальи Михайловны, виноват, я обмолвился… Надеюсь, ваш батюшка бодро перенес это тяжелое испытание?.. Всем, всем тяжело, – заметил с глубоким вздохом актер. – А все-таки жизнь обольстительно-прекрасна! В какое необыкновенное время мы живем! Александр Блок, я слышал, говорит о таинственной музыке революции. Как я его понимаю! – с силой сказал Березин, и опять за столом почувствовался холодок.
– Значит, решено, завтра в восемь все у вас, Платон Михайлович, – сказала Муся. – Господа, и, пожалуйста, хоть раз в жизни не опаздывать.
– А может быть, и Нещеретова пригласить? – в отместку Мусе за улыбку предложила Глафира Генриховна. – Алексей Андреевич ведь живет у него в доме.
– Ах, лучше без Нещеретова, – сказала пренебрежительно Тамара Матвеевна. – Зачем он вам? Это ведь малоинтеллигентный человек. Теперь надо оставаться в своем кругу.
– Но ведь он у вас, кажется, часто бывал, дорогая Тамара Матвеевна. Впрочем, я нисколько не настаиваю.
– Платон Михайлович, билеты на танцульку и все прочее вы, значит, берете на себя? – спросила Муся.
– Беру на себя, как ваш верный слуга.
– Что такое «все прочее»? – с глубокомысленной усмешкой вмешался молчавший все время Беневоленский.
– Я говорю: билеты.
– Вы сказали «билеты и все прочее». Что такое «все прочее»? Ну-с?
– Nuss heisst deutsch[10]10
Нус по-немецки (нем.)
[Закрыть] орех… Теперь уже разрешаются немецкие каламбуры.
– Но желательны все-таки несколько более новые, – сказала Глафира Генриховна.
VII
Фомин исполнил свое обещание добросовестно и чуть ли не два часа водил своих гостей по Зимнему Дворцу, называя безошибочно залы, указывая главные их особенности. Первое впечатление было сильное: потом все немного утомились и уже без прежнего оживления следовали за Фоминым: он шел впереди, зажигая и гася у дверей свет в пустынных залах.
– А я бы не хотела здесь жить. Неуютно, – сказала Сонечка.
– Как, милая Сонечка, вы не хотели бы быть царицей? – спросил Фомин. – Ну, что ж, тогда мы не настаиваем. Но, помните все же, таких огромных зал, как главные залы Зимнего Дворца, в мире найдется немного.
– Будто? – усомнился Никонов.
– Уж вы мне поверьте, Григорий Иванович. Конечно, Зеркальная галерея в Версале, Тронный Зал в Дольма-Бахче… И, разумеется, Большой Царскосельский, тот я ставлю в художественном отношении выше… Вы не устали, mesdames?
– Как не устали? Очень устали.
– Еще бы не устать!.. И у меня в голове все ваши залы спутались.
– Немудрено: во дворце больше тысячи комнат.
– Не может быть!
– Как пусто и мрачно! Заколдованный замок.
– А где мы сейчас?
– Уже забыли, Сонечка? Это Концертная.
– Мне больше всего нравится Малахитовый зал, – сказал Горенский.
– Где это Малахитовая зала? Я забыла.
– Рядом с Арапской.
– А Арапская это рядом с Малахитовой.
– Bon[11]11
Хорошо (фр.)
[Закрыть], я вижу, что надо кончать осмотр, – сказал Фомин. – Итак, пройдем еще через Николаевский зал, затем вниз ко мне – и hinaus, ins Freie[12]12
на волю (нем.)
[Закрыть].
Гости послушно пошли за Фоминым. Проходивший седой лакей в серой тужурке окинул их укоризненным взглядом и, отвернувшись, сердито поправил загнувшуюся грязную дорожку.
– Вот они, мученики новых порядков! – сказал, смеясь, Фомин. – Я в аристократической среде не встречал таких убежденных монархистов, как дворцовые лакеи.
Они вошли в Николаевский зал. Фомин повернул выключатель. Гости остановились, подавленные сверхъестественными размерами зала.
– Холодом веет, мертвечиной, – произнес Березин.
– Я бывал здесь на балах в ранней молодости, когда был пажем, – сказал с легким вздохом князь Горенский.
– Ах, я и не знала, что вы воспитывались в Пажеском корпусе, князь, – заметила томно Глафира Генриховна, закатывая глаза.
– Да, в Пажеском. Но затем поступил в Университет, на естественный факультет.
– Так вы и естественник?
– Так точно. Окончил университет в тысяча девятьсот втором году.
– А в тысяча девятьсот четвертом, но не Университет, а выдержал государственный экзамен при Демидовском лицее, – сообщил Никонов.
– Разумеется. Там, кажется, было правило: ничего не делать.
– Правила не было, но я ничего не делал и горжусь этим.
– Кто не трудятся, тот не ест.
– Может быть, поэтому я и жил студентом впроголодь, рублей на двадцать пять в месяц. Но знамя неучащейся молодежи всегда держал высоко… Меня из двух гимназий выгнали.
– Господи! За что?
– За лень и за дерзости.
– Узнаю вас, Григорий Иванович, – сказала ласково Муся.
– Мерси. Затем выгнали меня и из Петербургского университета, но это уже за политические беспорядки.
– Так вам и надо. Очень хорошо сделали, что вас выгнали, – пропела Сонечка. У нее с Никоновым была на словах кровная вражда.
– Господа, автобиографии рекомендую отложить на другое время, как они ни интересны, – сказал Фомин. – Лучше полюбуйтесь тем, что видите.
– В этом великолепии есть и некоторое безвкусие, – сказал Березин.
Муся смотрела на огромный зал, с любопытством представляя себе картину придворного бала. «И все это так и прошло мимо меня… Вивиан представлялся королю, но это не то… Где у королей нет настоящей власти, там двор тот же театр или маскарад. Этого больше нигде не будет»…
Муся чуть ли не с первых дней революции стала сожалеть о монархии, о дворе, и с вызывающим видом говорила это друзьям. Фомин с ней соглашался, не то шутливо, не то серьезно. Горенский сердился, – особенно вначале. Никонов был по правилу республиканцем среди монархистов и монархистом среди республиканцев. «Наш милейший парадоксалист Григорий Иванович», – снисходительно говорил о нем Кременецкий.
– Если бы вы пришли ко мне в гости в первые дни после переворота, – сказал Фомин, – я прежде всего показал бы вам царские покои, в которых похозяйничала в октябре краса и гордость революции. Теперь многое там приведено в порядок. Надо было это видеть тогда! Все было разбито, пол был усеян стеклом, хрусталем, фарфором, окна выбиты, шкафы взломаны, картины загажены, бумаги разорваны, – быть может, документы огромной ценности. Я поднял рукоятку шпаги, из нее они выковыряли бриллианты! В комнатах Николая I от сквозного ветра носился тучами пух: краса и гордость, видите ли, сочла нужным сорвать материю с подушек, им на онучи пригодится… Господи, что они там выделывали! Я сам видел икону с выколотыми глазами…
Все замолчали.
– Да, очень еще много злобы в людях, – с мягким вздохом произнес Березин. Князь холодно на него посмотрел.
– Мерзавцы! – сказал он. – Несчастная родина наша… Я не отрицаю и нашей доли вины, – продолжал Горенский, обращаясь преимущественно к Глаше, которая слушала его с восторженным вниманием. – Народная дикость – исторический грех России, в котором мы повинны меньше, чем другие, однако повинны и мы, я этого не отрицаю.
– Виноват, я никакой вины за собой не чувствую, – ответил Никонов. – Я дворца не громил и никого не призывал громить.
– Ах, ради Бога, перестаньте! – морщась от его иронического тона, сказал князь. – И я, как вы догадываетесь, не призывал, а вы думаете, мне легко?.. Особенно здесь, где видишь перед собой былое великолепие России. Как никак, в этом заколдованном замке прошло два столетия нашей истории.
– Это кинематографический эффект: дворец до вас, дворец после вас… Я говорю о нашей интеллигенции, вот символ ее кратковременного владычества.
– Тогда позвольте вас спросить, – начал, бледнея, Горенский. Но Муся тотчас прервала разговор, принявший неприятный характер.
– А вы знаете, друзья мои, – сказала она, – в сущности то, что мы делаем, очень неделикатно. Зашли в чужой дом и бесцеремонно глазеем, как жили хозяева… Сонечка, что вы делаете? Вы с ума сошли!
Сонечка вдруг повернула выключатель. Все потонуло в темноте. Глафира Генриховна испуганно вскрикнула и схватила за руку князя. Фомин зажег снова свет и погрозил Сонечке пальцем.
– Вот я сестрице скажу.
– Почему чужой дом? – возразил Мусе Никонов. Он возражал всем по привычке и немедленно забывал то, что говорил четверть часа тому назад. – Почему чужой дом? Все это принадлежало и принадлежит русскому народу.
Князь махнул рукой. Фомин засмеялся.
– Разумеется… «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», – саркастически сказал он.
Фомин повел их боковыми ходами и коридорами, все время гася и зажигая свет. Открывались таинственные лесенки, полускрытые в стенах двери. Муся все время представляла себе дам в пышных туалетах из «Пиковой дамы», мужчин в великолепных мундирах.
– Это все растреллиевских времен? – спросила она. Фомин улыбнулся.
– Нет, увы! от Растрелли осталось после пожара немного, – ответил он. – Это теперь их царство… Днем здесь хозяйничают они. Тут разные канцелярии.
Он остановился возле одной из дверей и, тихо засмеявшись, показал на висевший лист бумаги. На нем очень большими красивыми буквами, старательно выведенными писарскою рукою, было написано: Предизиум. Дальше следовало что-то еще, с новой строки, буквами поменьше.
– Этот предизиум я надеюсь как-нибудь заполучить в свою коллекцию. Для нашего будущего Carnavalet[13]13
карнавал (ит.)
[Закрыть].
– Так у них все… Какой-то сплошной предизиум! – сказал князь. – Но чего нам будет стоить этот опытов живом теле страны!
– Господа, ради Бога! Мы изнемогаем.
– Полцарства за стул.
– Сейчас, сейчас, теперь уже два шага.
В комнате Фомина все было в образцовом порядке. За ширмами стояла постель. На столе были аккуратно разложены книги, портфели, папки. Уютно горела под абажуром маленькая лампа на столе.
– Ах, как у вас хорошо!
– Первая жилая комната.
– Душой отдыхаешь после этих зал, от которых отлетела жизнь, – подтвердил Березин.
– Ужасно мило, не уйду от вас! – воскликнула Сонечка, падая в мягкое кресло. – Нет, просто прелесть. Кто это, Платон Михайлович? – спросила она, показывая на стоявший на столе портрет старой дамы.
– Это моя покойная мать.
– Красивая какая… Как ее звали?
– Анастасия Михайловна.
– А девичья фамилия?
– Она была рожденная Иванчук. Ее прадед был известным сановником, сподвижником Александра Первого… Господа, вы меня извините, я скроюсь за ширмы и приведу себя в надлежащий вид.
– То есть, что это значит? Смокинг, что ли, напялите или фрак?
– Напялю, как вы изволите выражаться, князь, самый старый довоенный пиджачишко.
– А ведь, правда, на танцульку надо одеться возможно демократичнее.
– Ну да, я демократически и оделась, – сказала Муся, – взяла у мамы старую каракулевую кофту.
– Я тоже, разумеется… Я в блузке и в шерстяных чулках! – стыдливо смеясь, пояснила князю Глафира Генриховна. «Какой ужас: она – и шерстяные чулки!» – с раздражением подумала Муся.
Горенский за письменным столом начертил на клочке бумаги план западного фронта. Он доказывал Никонову и Березину, что союзные армии находятся в западне.
– Очень боюсь, что к лету англичане будут сброшены в море, – горячо говорил князь, тыча карандашом в бумажку. – Здесь у них смычка, и удар Людендорфа, бесспорно, будет направлен в этот узел, скорее всего с диверсией у Реймса…
– Ничто. Нивелль подведет какую-нибудь контрмину. Я его знаю!
– Какой Нивелль? Нивелль давно уволен!
– Что вы говорите? Ну, так другой гениальный генерал, – согласился Никонов. – Не наша с вами печаль, а вот мне бы хозяйке за квартиру заплатить, а то пристает мелкобуржуазная пиявка.
– Ну, господа, теперь я сознаюсь вам в крайней бестактности, – сказал, выходя из-за ширм, Фомин. – Князь, заранее умоляю о прощении.
– Что такое?
– В чем дело?
– Господа, вы были в гостях у меня. Отсюда мы идем в гости к князю.
– Как так?
– В доме Алексея Андреевича теперь одна из самых фешенебельных танцулек столицы. Принимая весь Петербург, князь не может отказать в гостеприимстве своим ближайшим друзьям.
Все покатились со смеху.
– Как? Вы ведете нас в дом князя?
– Нет, это бесподобно!
– Господа, нехорошо… Князю, может быть, это неприятно, – говорила Глафира Генриховна.
– Ничего, ничего, – с трудом сдерживая смех, сказала Муся. – То Зимний дворец, а то ваш дом… Алексей Андреевич, ради Бога, извините наше непристойное веселье!..
Горенский натянуто улыбался.
– Господа, я очень рад, – не совсем естественно говорил он.
Голые деревья незнакомого петербуржцам сада были покрыты снегом. Муся беспокойно оглядывалась по сторонам. Огромная тень падала на белую реку. Они вышли на площадь, еле освещенную редкими фонарями. Вдали от черного величественного дворца, освещая пасть под аркой, оранжевым светом горел костер. Около него стояли милиционеры. Больше никого не было видно.
– Однако и в самом деле жутко, – сказала Муся.
– А вы думаете, Тамара Матвеевна не была права, что не хотела вас пускать?
– Бог даст, ничего не случится. Что вы дам пугаете?
– Нам не страшно.
– Не таковские.
– Как пойдем, господа?
– Князь, как к вам всего ближе?
– Положительно, господа, мы побиваем все рекорды бестактности.
– Ах, какой жалкий песик, – сказала Сонечка, поровнявшись с фонарем, у которого, вытянув голову, лежала собака. – Верно, с голоду подыхает. Как жаль, что у нас ничего нет… Цуц, цуц…
– Людей бы, Сонечка, жалели, а не цуцов. Стыдно!
– Отстаньте, Григорий Иванович, я не с вами говорю!
– А если я за такие за слова да уши надеру?
– Посмейте!
– И посмею. Хотите сейчас?
– Посмейте!
– Еще как посмею…
– Так можно долго разговаривать… Господи, как им не надоело! – смеясь, сказала Муся. Вдруг впереди сверкнули ацетиленовые огни. С нарастающим страшным треском пронеслась мотоциклетка. Два человека в пальто поверх кожаных курток успели окинуть взглядом пешеходов.
– Видеть не могу! – с чисто физическим отвращением произнес князь. На этот раз Никонов с ним не поспорил; он испытывал такое же чувство.
– Но и работают же эти люди!.. Какая все-таки бешеная энергия! – сказал Березин. Муся с упреком и сожалением на него взглянула.
«Все-таки он к ним не перейдет, – подумала она. – Он славный… Ему просто нужен свой театр, как мне нужны ощущения, любовь Вивиана, власть над Витей…» – В памяти Муси вдруг, неожиданно, появился Александр Браун. – «Нет, он мне не нужен… Березии милый… Он только ничего не понимает в политике. Как бы ему посоветовать, чтоб он не говорил глупостей и не делал. Он и без них сумеет создать свой театр. Он не продажный человек, он очень милый, и с ним тоже тяжело будет расстаться. Так обидно, что Вивиана нет с нами… Что-то он сейчас делает в Москве? Верно, где-нибудь сидит со своими англичанами, курит Gold Flak[14]14
Сорт сигар (англ.)
[Закрыть] и думает обо мне. Нет, я страстно, безумно люблю его, не так как прежде, а еще больше… Лишь бы только его не послали на фронт! Что, если его пошлют во Францию? – с ужасом думала Муся. – Там убивают людей тысячами. Я умру от страха… Нет, этого не может быть!..» Она заставила себя прислушаться к разговорам своих спутников.








