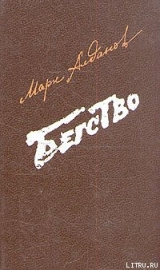
Текст книги "Бегство"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
– Да… Нет, не надо… Благодарю.
Стюард пожелал доброй ночи и вышел на цыпочках. Увидев Федосьева, он придержал дверь и пропустил его в каюту.
Браун сел на койку и засмеялся легким, чуть истерическим смехом.
– Хорошо? – спросил он Федосьева, – хорошо?..
Голос его сорвался.
– Тсс! – прошептал Федосьев, показывая рукой в сторону коридора. Он закрыл дверь. – Не говорите громко по-русски, на пароходе еще может быть проверка.
Федосьев сел на складной стул. Он внезапно почувствовал страшную усталость, такую, какой, быть может, никогда не испытывал в жизни. С минуту они молча смотрели друг на друга. Федосьев глубоко вздохнул и перекрестился.
– В сущности, контроль был детский, – не без труда выговорил он и протянул руку к графину. Зеркало отразило измученное лицо, глаза больного человека.
– Детский… Этот дурак в цирковых сапогах!
– Еще не успели наладить… Не все сразу… Я вам говорил…
Оба они овладели собой.
– Говорили… Знаете ли вы, что у меня в кармане?
– Динамит?
– Не динамит, но в этом роде: моя рукопись «Ключ».
– Это Бог знает что такое! – с искренним возмущением сказал Федосьев.
– Вы инсинуируете, что я мог бы вывезти из России более нужные вещи? Все-таки жаль было выкидывать…
– Я инсинуирую, что вы ради своего шедевра могли бы не рисковать хотя бы моей головой, уж если не собственной!
– Да ведь при нас все равно револьверы. Если б дело дошло до личного обыска…
– Немецкие путешественники могут иметь при себе револьверы, но никак не русскую рукопись! А стрелять мы условились только в последней крайности… Это Бог знает что такое!.. Хотите воды?
– Дайте…
Протяжно завыл свисток. Браун расплескал воду. Пароход задрожал и тронулся.
– Пошли?
– Пошли… Слава Тебе, Господи!..
– Могут еще остановить у канала.
– Нет, это маловероятно.
– Пошли!..
Браун взглянул в иллюминатор. В черно-серой пустоте плыли редкие, уже тускнеющие огни. Малиновые окна будки удалялись.
– Ну, как сошло?.. Что же вы молчите?..
– Вы играли божественно!.. Выпейте все-таки воды…
– Скажите тост!
– С удовольствием. Повод есть… Я все-таки не предполагал, Александр Михайлович, что вы так хорошо владеете собой!
– Не предполагали?
– Нет, нет…
– А вы сами?.. «Jawohl»… – Он снова захохотал. – Вы сами-то, a? «Jawohl»?
– Что ж говорить о старом воробье? Я не философ, я фараон.
– Ваше здоровье, фараон!
– Спасибо… Самообладание у вас поразительное… Нет, что бы вы там в трактире ни говорили, вы убили Фишера, – весело сказал Федосьев. – Не иначе как вы убили Фишера, Александр Михайлович.
VIII
Муся встретила Витю на перроне Гельсингфорского вокзала. Поезд еще не остановился, когда они увидели друг друга. Муся радостно вскрикнула и побежала к медленно подходившему вагону. Витя, с маленьким чемоданом в руке, спрыгнул с площадки. Они бросились друг другу в объятия, хотя расстались всего лишь дней десять тому назад.
– Слава Богу!.. Ну, слава Богу!.. Я так волновалась!.. Так беспокоилась!..
– Напрасно… Напрасно, – повторял счастливый, сияющий Витя, не зная, куда девать затруднявший его чемодан.
– Но как же все сошло?.. Благополучно? Гладко?
– Как видишь, совершенно благополучно… И рассказывать нечего, просто неловко!
– Что же было?.. Да говори, несносный!.. Это все твои вещи?.. Но сначала скажи, что Сонечка?.. Что Глаша? Как ее здоровье? Да говори же!
– Я так не могу, не все сразу… У меня в вагоне большой чемодан… Все благополучно… А у тебя?
– Ну, слава Богу!.. Я сейчас позову носильщика… – закричала она.
– Здесь что, совсем Германия?
– Почти Германия…
Носильщик подкатил тележку, вежливо поклонился, взял у Вити ручной чемодан и побежал в вагон.
– Да рассказывай же! Что было в Белоострове?
– Право, ничего особенного. Посмотрели на мой паспорт, порылись в каких-то бумагах… Потом в вагоне говорили, что это списки: кого велено задержать.
– Воображаю, как у тебя душа ушла в пятки!
– Удовольствие среднее, что и говорить.
– Я, однако, была убеждена, что ты проедешь!
– Отчего же ты волновалась?
– Какой ты глупый!.. Почти все проезжают через Белоостров благополучно.
– Далеко не все, осмотр был очень строгий, – обиженно возразил Витя, хотя только что утверждал обратное. – Одних лишь немцев пропускали сравнительно легко, а всех других обыскивали, допрашивали. Потом говорили, что искали какого-то важного контрреволюционера…
– Нет, правда?
– Однако мой германский паспорт произвел магическое действие…
– Или, скорее, твой возраст.
– Возраст здесь ни при чем! И денег у нас, у немцев, не отобрали… Вот только чемодан самому пришлось тащить через мост.
– Бедняжка! Ты очень устал?
– Нисколько… Какая ты, однако, элегантная!.. Мистер Клервилль здесь?
– Вивиан уехал по делу в Выборг, вернется сегодня ночью. Он очень просил тебе кланяться… Так что же Сонечка и Глаша?
– Сонечка три дня плакала, не переставая. Теперь немного успокоилась.
– Бедненькая!.. Я тоже так по ней скучаю, так скучаю!.. А здоровье Глаши?
У Муси лицо стало испуганным. Витя вздохнул.
– Неважно.
– Что?.. Что?.. Ей хуже?
– Нет, не хуже, но так же, как было.
– Какая температура?
– К вечеру поднимается. Вчера было 38,9…
– Господи!.. Доктор был?
– Но к утру падает… Доктор приходил два раза. Утром 36.
«Да ведь это и есть самое ужасное, если так скачет температура! Это туберкулез!» – хотела сказать Муся.
– Григорий Иванович к вам переехал?
– Еще на прошлой неделе… Однако здесь совершенная Европа!
– Совершенная! Я тоже в первый день не понимала, что все это значит… Но постой, как же… Я так рада!
Носильщик вынес из вагона старый ободранный чемодан и поставил его на тележку. По-видимому, уважения у носильщика убавилось. Он спросил на ломаном русском языке, куда нести вещи.
– У меня внизу экипаж.
– Как экипаж? – изумленно спросил Витя.
Муся засмеялась.
– Вот и я в первый день не понимала: как экипаж? Теперь привыкла… Идем за ним… Но как я счастлива, что ты приехал!
– А я-то!
Они спустились по лестнице, беспорядочно разговаривая, расспрашивая, перебивая друг друга. Проходившие люди смотрели на них не слишком доброжелательно. Чиновник у выхода отобрал билеты, тоже явно не одобряя русскую речь.
– Здесь нас теперь не очень любят.
– Чухонцы? Правда?..
– Тсс… Глупый!.. Все русские вывески замазаны… Ты голоден?
– Как собака!
– Сейчас я тебя накормлю, будешь доволен после Петербурга… Но что же сказал доктор?
– Сказал, что у нее начало легочного процесса.
– Боже!
– Да… Какая чистота! Это после наших-то улиц!
– Она знает?
– Мы не сказали, но, кажется, она догадывается.
– Бедная Глаша! Она очень убита?.. О князе, разумеется, ничего не слышно?
– Ничего. И о папе тоже ничего…
– Ну да, так и должно быть, это в порядке вещей. Не слышно, значит все хорошо… Вот этот экипаж, – сказала Муся носильщику и вынула из сумочки несколько монет.
– У меня есть мелочь. Я разменял в Териоках, только еще не разбираю их денег.
– Хорошо, хорошо, садись… Ну, а Григорий Иванович что?.. Вот вам, спасибо…
Носильщик снял фуражку и поклонился. Коляска на резиновых шинах тронулась.
– Что за великолепие! Это экипаж гостиницы?.. Григорий Иванович? Такой же, как был. Все так просили тебе кланяться… Точнее, не кланяться, а поцеловать…
– Так исполняй же поручение, глупый!
Они опять заключили в объятия друг друга.
– Ты знаешь… – сказала Муся слегка изменившимся голосом.
Витя вдруг от нее отшатнулся.
– Мистер Клервилль тоже живет в этой гостинице?
– Где же ему жить? Какой ты смешной, – сказала Муся и засмеялась. Ее смущенный смех сразу все сказал Вите. Как он ни приучал себя к этой мысли, она его поразила. «Повенчались!.. И это уже было», – подумал он, вглядываясь в Мусю с внезапной острой тоской и с жадным любопытством.
Через полчаса, выкупавшись в ванне, где простым поворотом крана можно было получить горячую воду, переодевшись в свой второй костюм, который был немного лучше дорожного, Витя спустился вниз по покрытой ковром лестнице в сверкающий чистотой вестибюль гостиницы. Он все не мог прийти в себя. Швейцар почтительно сказал ему: «Good evening, Sir»[90]90
Добрый вечер, сэр (англ.)
[Закрыть] – но и этот «Sir» не доставил Вите полного удовлетворения.
– Готов? Иди сюда, я здесь, в читальной, – негромко окликнула его из-за колонн Муся. На ней было другое платье, которого Витя не знал. Она сидела в мягком кресле, держа перед собой на коленях черную папку с иллюстрированным журналом. «Совсем другая… Английская дама», – тоскливо подумал он. Витя неловко подошел, ступая по мягкому ковру, и смущенно остановился перед Myсей.
Муся не читала, она «занималась самоанализом», – это выражение она прежде всегда произносила с подчеркнутой насмешкой. Теперь самоанализом занималась новая, опытная, рассудительная Муся. Думала она о своих делах, – о будущем больше, чем о прошлом: Муся вырабатывала конституцию своей супружеской жизни. «Да, я страстно, безумно люблю его», – искренно говорила себе она. Всего лишь десять дней тому назад, когда она, плача, расставалась с Петербургом, с друзьями, с тем, что в кружке называлось шутливо первой главой ее биографии, Мусе казалось, что она почти ненавидит Клервилля: как-никак, он разлучал ее со всем этим. Потом было другое, то, в чем еще не могла разобраться и новая, рассудительная Муся. Из этого теперь ясно выделилось одно:
«Да, страстно, безумно люблю его, люблю еще гораздо больше, чем полтора года тому назад, когда он был только сказочной мечтою… Ревнива ли я?» – спрашивала себя Муся. Этого она и сама не знала; обычно говорила друзьям, что нет ничего глупее ревности: «Вот уж мне было бы совершенно все равно!» Однако Муся и сама не очень этому верила. «Да, могут быть неожиданности… Во всяком случае, ему никогда и вида не надо подавать…» – Это было очень важным пунктом конституции. – «Вообще он должен думать, что он совершенно свободен. И в мелочах, Боже упаси, в чем-либо его стеснять: пусть уходит, когда хочет, приходит, когда хочет, как в свое холостое время, и дома его всегда должна окружать приятная, дружелюбная атмосфера, никаких упреков, никаких сцен, это только дуры делают!..» – советовала себе Муся, все-таки заранее чувствуя некоторое раздражение против Вивиана. «Хорошо, но если не в мелочах, если будет серьезное, что тогда? Тоже делать вид, будто мне совершенно все равно? (раздражение в ней росло). Об этом рано думать. Может, ничего серьезного и не будет… А я сама? Да, конечно, я безумно его люблю… Но неужели за всю жизнь только с ним, с ним одним!.. Все-таки это несправедливо: почему мужчины могут? А что, если в один прекрасный день эта несправедливость мне надоест?.. Но теперь об этом глупо и стыдно думать: надо сейчас, сию минуту, выбить эти мысли из головы… Тот офицер? Ну, о нем и вспоминать смешно: просто был красивый англичанин в моем вкусе: Нет ничего дурного в том, чтобы им в ресторане „пополоскать глаз“ (Муся очень любила это сомнительное парижское выражение). – «Нет, офицер так … А не так что?» – спросила она себя и сразу с ужасом и наслаждением почувствовала, что и спрашивать не надо: в душе у нее прозвучала фраза «Заклинания цветов». – «Да, с ним это могло бы быть, если может быть вообще… Не теперь, конечно: теперь думать об этом гадко! Скорее всего, я больше никогда его не увижу… А вдруг мы встретимся где-нибудь в Европе, через несколько лет, без войны, без большевиков?.. Я скажу ему: „Знаете ли вы, что я когда-то была почти влюблена в вас?..“ Нет, это плоско! Я скажу: „У вас глаза недобрые и с сумасшедшинкой, – это и сводит меня с ума!..“ Еще глупее!.. Но он что скажет? – …„Чтоб и не заглядывала туда, куда ходил до сих пор“… (а я, как дура, повторила)… „Привет и пожелания скорейшего выздоровления“… „Извините, что взволновала вас“, – замирая, вспоминала она. Он опять скажет что-нибудь в этом роде, точно таким же ровным, бесстрастным голосом: „Очень рад, что с вами встретился… Как поживает мистер Клервилль?.. А ваши родители?..“ – Вот только глаза его говорят совсем другое, с этим он ничего не поделает…» – подумала Муся и увидела на лестнице Витю. «Этого я страшно люблю, его люблю вполне чисто, как брата!.. Разумеется… Я так счастлива, что он спасся, что я сейчас поведу его в ресторан… Бедный мальчик!»
Она, улыбаясь, его оглядела.
– Теперь молодцом. Пойдем обедать… Где ты хочешь обедать, здесь или на Эспланаде?
– На каком Эспланаде? Мне все равно. Как ты всегда…
– Мы обыкновенно завтракаем в гостинице, а обедаем на Эспланаде, это здешний Невский. Но сегодня можно здесь и пообедать. Кормят вполне прилично. Гельсингфорс, конечно, провинция, но хорошая провинция, эта гостиница почти как в Европе. Хочешь здесь?
– Прекрасно.
Господин, писавший за столиком письмо, оглянулся на них с недовольным видом, хотя они говорили негромко. Муся отложила твердую черную папку с золоченой надписью «The Graphic».
– Немножко рано еще для обеда, но ничего, можно, – сказала она, вставая. – Сюда.
В ресторане были заняты только два столика. За одним из них сидели немецкие офицеры в полной походной форме. Витя с удивлением на них смотрел. В первую минуту ему даже показалось, что он ошибся: уж не финские ли мундиры? «Нет, конечно, немцы!..» При всей своей ненависти к немцам, он невольно почувствовал престиж этих людей, стоявшей за ними страшной государственной машины. Моноклей у офицеров не было, – Витя думал, что все германские офицеры носят монокли.
– Мне тоже в первую минуту показалось дико, – сказала Муся. – Но они здесь очень вежливы, надо отдать им справедливость… Смотри, за тем столом, на другом конце зала, в штатском, это французские офицеры. Правда, странно? Война кажется какой-то несерьезной!.. Но мне нравится после большевистского стиля: в этом есть что-то рыцарское, они уважают друг друга.
– Как же все-таки это возможно? – проговорил изумленно Витя. Ему казалось, что эти люди должны тотчас броситься друг на друга.
– Месяца четыре тому назад, когда немцы здесь появились, они и были, говорят, полные хозяева. Теперь их дела на западе идут плохо, и финны, естественно, стараются поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами… Где бы нам сесть?
– Все равно… Только подальше от немцев!
– Вот этот столик тебе нравится? Четвертый от тевтонского, по-моему, расстояние достаточное.
Метрдотель почтительно отодвигал перед ними стол. На белоснежной скатерти лежала переплетенная книжка. Муся и Витя уселись рядом на диване.
– Ты когда-нибудь пил коктейль?
– Никогда.
– Позор!.. Я тоже в первый раз попробовала в понедельник. Меня Вивиан научил, – сказала Муся, искоса взглянув на Витю. – Они с этого начинают обед.
– Вкусно?
– Не очень вкусно, но потом приятное кружение в голове. У них целый каталог коктейлей, вот он… Дайте нам два Manhattan’a, – по-английски сказала она метрдотелю, который, слыша русскую речь, тоже несколько убавил на лице почтения.
– Два Manhattan’a, – повторил метрдотель. Он подал Мусе карту без переплета и отошел к французскому столу. Сидевшие за этим столом люди с любопытством смотрели на Мусю. Витя заметил, что один из них скользнул взглядом по немецким офицерам и тотчас отвернулся.
– Супа, я думаю, мы есть не будем? Здесь удивительные закуски. «Сексер», что ты, вероятно, знаешь?
– Да, конечно. Мы ведь бывали на Иматре.
– Значит, закуска… Потом ты что будешь есть? Я закажу sole frite[91]91
Жаренная в масле морская рыба-соль (фр.)
[Закрыть] и утку, это они недурно готовят… Но, может быть, ты не любишь sole frite?
Она звонко-весело засмеялась, так что с обоих столов оглянулись.
– Ты удивляешься, что я после Петербурга вдруг стала такой гастрономкой! Но ты и представить себе не можешь, как быстро возвращаешься в нормальные человеческие условия!.. Я в первый день тоже на все здесь смотрела, как баран на новые ворота, после селедки и бифштексов из конины, которыми нас кормила Глаша… Бедная Глаша, мне так ее жаль!.. Какое ты вынес впечатление из слов доктора? Это опасно?
– Он прямо мне сказал, что если…
– Постой, по случаю твоего приезда я хочу выпить шампанского. Да, да! У них есть французское. Собственно, напитки запрещены, но здесь все можно… Вот он идёт… Что же это я все заказываю, это неприлично, ты уже большой. Закажи ему ты, а я, кстати, послушаю, как ты говоришь по-английски.
Витя выдержал экзамен с честью.
– Недурно, – сказала Муся. – Это очень важно, потому что мы тебя везем в Англию.
– Как это, вы меня везете?
– Да так, очень просто. Вивиан еще не получил инструкции, но, вероятно, мы скоро отсюда уедем… Впрочем, об этом мы еще успеем поговорить… А что, кстати, если б ты, хоть из вежливости, спросил меня, как поживают папа и мама? – смеясь сказала Муся.
– Ах, ради Бога, извини! Я совершенно забыл… Но разве ты могла с ними снестись? Я просто не подумал!
– Верю. Конечно, могла снестись. Кажется, папа занимает теперь при гетмане какой-то важный пост, – какой, не помню, но важный. Я это не очень одобряю, однако им там виднее. Притом я ничего не смыслю в политике… Ты тоже ничего не смыслишь, поэтому молчи. Писем я еще не имею, но получила две длинных телеграммы. И представь, шли всего шесть-семь часов!
– Что же они телеграфируют?
– Они так счастливы, что мы сюда вырвались… Собственно, в телеграммах говорилось только об этом (Муся не сказала, что вторая телеграмма была восторженно-поздравительной в ответ на ее извещение о свадьбе). Да еще папа сообщает, что послал мне чек на Стокгольм. У него в Стокгольме есть деньги. Это очень кстати, конечно… Вивиан тоже получил здесь деньги от своей тетки, он ведь ее наследник, – сказала Муся, опять бегло взглянув на Витю. – Вот несут наши Manhattan’ы. И шампанское… Как жаль, что здесь нет музыки! Я люблю в ресторанах плохую музыку.
– А я не люблю… И потому, что плохая, и потому, что нельзя разговаривать.
Они выпили коктейль.
– Твое здоровье!.. Нравится тебе? Невкусно, но увидишь, как будет приятно потом!
– Нет, и на вкус хорошо, – солгал Витя. – Твое здоровье, Мусенька!
Коктейль скоро ударил в голову. Разговаривать стало легче: они только теперь почувствовали, что до того было не очень легко.
– Смотри, сколько подали закусок.
– Да, я этого давно не видал… Господи!..
– Кажется, нечего тебе желать доброго аппетита? Ешь, голубчик… О чем мы говорили? Да, кстати, о деньгах, – вскользь добавила она. – Или, вернее, не совсем кстати. Быть может, это тебя тревожит, мой друг? Правда? Так вот я хотела тебе сказать, что об этом ты совершенно не должен беспокоиться…
– У меня есть деньги, – поспешно сказал Витя.
– Да, эти три тысячи марок, конспиратор? На это далеко не уедешь, – смеясь сказала Муся. – Но я тебе открываю неограниченный кредит… Из моих денег, – подчеркнула она, – из тех, что я получу от папы… Хотя и Вивиан мне говорил то же самое. Он тебя так любит…
Витя покраснел до корней волос. Муся весело на него смотрела. Вид того, как он ел, доставлял ей удовольствие.
– Спасибо, но мне не нужно… Я думаю, этих трех тысяч мне хватит для того, чтобы пробраться на юг России.
– Куда? На юг России? Ты с ума сошел!
– Нет, не сошел. Я твердо решил…
– Какой вздор! Тебя только там не видали! Тебе учиться надо, а не воевать… Но мы все это еще. обсудим с Вивианом…
– И обсуждать нечего, – мрачно ответил Витя, подумав, что, если он с кем-либо не станет этого обсуждать, то именно с Клервиллем.
– Хорошо, хорошо… К тому же, ты и не можешь ехать на юг России до тех пор, пока не выпустят Николая Петровича. Подумай только, что с ним может быть, если они узнают, что его сын в этих южных армиях! – По изменившемуся лицу Вити она увидела, что нашла настоящий довод, которым и надо будет пользоваться. – Ну, да обо всем этом еще рано говорить.
– Да, рано… Хотя почему же рано?.. Значит, по-твоему, надо сидеть так, сложа руки, и ждать, пока им угодно будет освободить папу, Алексея Андреевича, всех…
– Витенька, но что же делать? Мы из Англии будем хлопотать, у Вивиана там большие связи… Все-таки, если кто может оказать протекцию, то скорее всего англичане.
– Они уже оказали протекцию капитану Кроми, твои англичане!
– Это дело еще не кончено. Я уверена, английское правительство так этого не оставит!.. Витенька, повторяю, что же делать? Во всяком случае отсюда ты сможешь посылать Николаю Петровичу провизию. Там ведь ничего нет. Согласись, для одного этого стоило уехать.
– Ты думаешь, это возможно? Мне и то совестно есть все это, – сказал Витя. – В то время, как там…
– Я думаю, скоро будет возможно. Ведь я и нашим буду все посылать. Глаше, Сонечке, Никонову…
– Да, им, вероятно, можно будет, но в крепость, как ты думаешь?.. Вы здесь ничего не слышали о заключенных? У нас ходят всякие слухи!.. Вы ничего не слышали?
– Ничего, решительно ничего, – сказала Муся. Витя беспокойно на нее взглянул: его встревожило это повторение: «решительно ничего».
– Наверное? Ты меня не обманываешь?
– Какой ты странный! Что же я могу здесь в Гельсингфорсе знать?
Муся действительно ничего по-настоящему не знала. Однако как раз накануне завтракавший с ними английский офицер, только что приехавший с русской границы, рассказывал, что у Лисьего Носа большевики расстреляли и затопили в северном Кронштадтском фарватере несколько барж с заключенными, вывезенными из петербургских тюрем. Клервилль был чрезвычайно недоволен тем, что его товарищ рассказал это при Мусе, – так на нее подействовал рассказ.
– Что я могу знать? – повторила Муся. – «Нет, это верно неправда», – сказала себе она. – Нам говорили, будто все эти слухи распускаются ими нарочно, чтобы запугать…
– Ты думаешь? Правда?
– Это очень правдоподобно… Возьми и грибков, они очень вкусные. Правда, хорошая закуска?.. Но скажи, ты рад, что приехал?.. Я так рада! А ты?
Он посмотрел на нее, – спрашивать было не нужно.
– Налей мне шампанского.
– Как, к закуске? Еще не достаточно холодное. Пусть остынет, – сказал Витя, тоже очень быстро становившийся гастрономом.
– Все равно… Спасибо… Но постой, ты начал говорить о Глаше, что тогда сказал доктор. А я тебя прервала, сама не знаю, как…
На этот раз смутилась и покраснела Муся. Витя смотрел на нее с улыбкой.
– Я знаю, у тебя сейчас обо мне нехорошие мысли, – сказала она, грозя ему пальцем.
– Мусенька! У меня о тебе нехорошие мысли?
– Да, да… Ты думаешь: чуть только она оказалась в Европе, чуть только вернулась прежняя жизнь, и уже ей больше нет никакого дела ни до Глаши, ни до Сонечки, ни до всех тех, кто там остался!.. Гадкий мальчишка, ты врешь!
– Мусенька, но ведь я никогда ничего такого не говорил!
– Но ты это думал, это еще хуже! И это совершенная неправда!
– Да это ты все выдумала!
– Клянусь тебе, Витенька, это неправда, – сказала Муся, взяв его за руку. – Да, я люблю эту жизнь, шампанское, все это, – сказала она, – но ты не думай, что я бессердечная эгоистка! Ты и представить себе не можешь, как я вас всех люблю: и Глашу, и Сонечку, и бедного князя, и Григория Ивановича!.. О присутствующих не говорят… Да, ты себе представить не можешь, как они мне дороги, как я к ним привязана!.. Я всю дорогу плакала, когда мы выехали из Петербурга, даю тебе слово, всю дорогу, так что на нас смотрели в вагоне… Да вот, у меня и теперь слезы… Как глупо!..
У нее в самом деле на глазах были слезы.
– Но ведь я решительно ничего не сказал!
– Вот Глаша, – сказала Муся. – Я знаю, ты думаешь, что я ее не люблю… Это неправда!.. Все равно, какая она, – добавила Муся, – вернее, какая она была… Но у меня душа рвется, когда я о ней вспоминаю… Как она изменилась, Глаша! Признаюсь, я не думала, что она может так любить! Ведь и болезнь ее, и все, это из-за того, что случилось с Алексеем Андреевичем. Чего она только не делала в те дни!.. С опасностью, да, с настоящей опасностью для жизни! Я думаю, она способна была бы бросить бомбу и пойти на смерть, как та, что стреляла в Ленина… Глаша не очень добрая, я гораздо добрее, правда? Но, как человек, она лучше меня, я это отлично знаю. Что ж делать, если я такая…
– Какая?
– Что ж делать, если я не нахожу, что дурно любить нескольких сразу и по-разному, – бестолково говорила Муся (Витя решительно не мог уследить за странным ходом ее мыслей). – А Глаша однолюбка… Сонечка, та нет, та не однолюбка, она скоро Березина разлюбит. Зато, пока она любит Березина, для нее никто другой не существует… Она однолюбка на год, – сказала, засмеявшись, Муся. Витя смотрел на нее с нежностью.
– Но ведь ты же мне сама сказала, – начал он, – с месяц тому назад…
– Ты думаешь, я помню то, что я говорила месяц тому назад? Или ты думаешь, что я чувствую теперь так, как месяц тому назад?.. Налей мне еще. Правда, чудное шампанское?
– Очень хорошее. Настоящее.
– Клоп! «Настоящее» – передразнила Муся. – Шведы, когда пьют, говорят «сколль!» и потом с минуту смотрят молча друг на друга. Так у них полагается… Сколль, Виктор Николаевич. Отвечай то же самое. Живо!
– Сколль, Мусенька.
– Ну, хорошо… Но что же все-таки сказал о Глаше доктор? Мы все сбиваемся, – сказала она. Оба они засмеялись и им тотчас стало стыдно.
Муся и Витя долго стояли в коридоре у дверей Витиной комнаты: они все не могли наговориться. Голова у обоих кружилась.
– У тебя все есть? Пижама?
– Да, все, все…
– Постели здесь идеальные! Сейчас же ложись и спи…
– Зайди ко мне, Мусенька, милая… Ведь всего десять часов. Еще поболтаем…
– Ты устал с дороги, сейчас же ложись… Разве зайти на минуту?
– Зайди, милая!
– Здесь нельзя поздно разговаривать, люди рано ложатся… Нет, нет, марш спать!
– Когда он приезжает?
– Во втором часу.
– Ты будешь его ждать?
– Это тебя не касается!
– Я говорю не об этом, но вообще: все, что касается тебя, касается и меня!
– Вот еще! Какие ты говоришь глупости! – «Этот, правда, за меня в огонь и в воду пойдет»! – подумала Муся с радостью, хоть ей совершенно не было нужно, чтобы кто-либо шел за нее в огонь и в воду. – Нет, в самом деле ты немного поглупел, оставшись без меня больше недели. Но в Англии ты у меня опять поумнеешь.
– Не буду я ни в какой Англии.
– Это мы увидим!.. Где у нас обосновался Григорий Иванович?
– В кабинете Семена Исидоровича. Сказал, что знать ничего не желает и берет себе самую лучшую комнату. – ответил с легким неудовольствием Витя: перед его отъездом Никонов почти насильно отобрал у него револьвер, и этого Витя в душе еще не мог ему простить: с револьвером ушла большая доля поэзии в его путешествии по чужому паспорту.
– Узнаю его! Милый Григорий Иванович, я так его люблю! Нет, ты ничего не понимаешь, ты очень, очень поглупел, Витенька!..
«…Да, она эгоистка! – думал Витя. – То есть в ней есть и эгоистка. Но она, кроме того, что прелестная, она и добрая, по-настоящему добрая. Да, она говорит правду, что нежно любит и Григория Ивановича, и Сонечку, и даже Глашу… „О присутствующих не говорят“… Как ей не стыдно было так сказать об этом! Ведь она знает, что я люблю ее, что мне ничего не нужно, только на нее смотреть… Хотя нет, неправда, нужно и другое!..»
– Так ты ничего не знаешь о твоем шефе? – вдруг спросила Муся, не совсем естественно засмеявшись. – Об Александре Михайловиче?
– Ничего не знаю.
– И ты ни разу его не видел с тех пор?
– Ни разу… Ведь он тогда через тебя же запретил мне искать его.
– Запретил, запретил, – повторила с досадой Муся. – Неужели ты так ничего о нем и не узнал? Не слышал, бежал ли он?
– Ничего не узнал, – хмуро ответил Витя.
Муся вздохнула.
– Это необыкновенный человек, – сказала она мечтательно. – Он земной, о, да, очень земной!.. И вместе с тем у него в глазах есть что-то нездешнее… Кажется, вы так, поэты, говорите: нездешнее?
– Я не поэт, – еще более хмуро возразил Витя. Интонация Муси придавала слову «поэт» явно обидный характер.
– Но и ты это видишь, правда?
– Я вижу только, что коктейли очень сильная вещь.
– Дай Бог, чтобы он спасся! – не слушая Витю, сказала Муся. – Нет, не может быть, чтобы он погиб! Не может быть, Бог этого не допустит!.. – тихо проговорила она, закрыв глаза и мотая головою.








