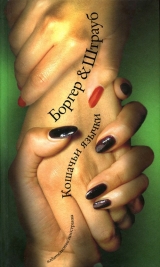
Текст книги "Кошачьи язычки"
Автор книги: Мария Элизабет Штрауб
Соавторы: Мартина Боргер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
– Считай, что я тебе врезала, – сказала я, изо всех сил стараясь четко выговаривать слова. – Один справа и один слева. А посередке – плюнула.
– Ах ты так? – завелась и она. – Ну хорошо! Между нами, девочками, твоя родительница тоже была не ангел. Не хотелось бы о мертвых, но…
– Заткнись, – прошипела я.
– Не заткнусь! – выкрикнула она. – Катишь бочку на моего отца, а что вытворяла твоя мамаша, знать не желаешь? Она, видать, и тебя кое-чему научила. Про кафе «Киз» слышала? – Она бросила взгляд в сторону портье. – Не бойся, он ничего не знает.
Убить ее мало! Если она знает, что Ма время от времени встречалась в Гамбурге с какими-то мужчинами, значит, об этом знает весь Пиннеберг. И тогда знал. И когда потом ее сбила какая-то трусливая сволочь, они, даю гарантию, дружно решили, что это только справедливо. Фарисеи поганые.
– Да, вам с Клер хватало тем для разговоров, – сказала я.
На меня вдруг навалилась смертельная усталость, отчаянно захотелось оказаться дома, рядом с моей Булочкой. Вместе с ней пялиться в телевизор, и грызть арахис, и обсуждать прическу Руди Карелль. Или затеять спор на тему, какого роста Микки-Маус, – сорок сантиметров или шестьдесят? Это излюбленный прием моей дочки, когда надо потянуть время перед тем, как я скажу ей «Спокойной ночи».
Нора склонилась поставить подпись на чеке. Мне не видно, что она пишет, но я знаю это и так: «Н», точка и «Клюге». Клюге, как у Ахима, только на «К» у нее лишняя закорючка. Она сунула портье купюру: «Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous pouvez appeler un taxi pour moi?»[38]38
Большое спасибо, месье. Не могли бы вы вызвать мне такси? (фр.)
[Закрыть] Манеры, манеры. И тут она замешкалась. Ясное дело, кому охота ждать на улице. А здесь я мешаю. Да уж, Нора. Не из каждой ситуации находится элегантный выход.
Нора
Она прекрасно понимает, что я в ловушке. И понимает, что я это тоже понимаю. Покинуть поле боя и уйти ждать такси на улицу значило бы признать свое поражение. Но еще несколько лишних минут дышать с ней одним воздухом – увольте. Втоптать в грязь меня и мою семью! Она, для кого я столько делала! На протяжении долгих лет. А она в это время за моей спиной развлекалась в постели с моим мужем. В ванной, на ковре, в кустах – где еще они могли этим заниматься? Может, на ее грязной кухне? Она опиралась спиной о холодильник, задирала юбку и раздвигала ноги, а он? Он стерилизовался, чтобы без проблем ходить налево. Он все будет отрицать, ясное дело. Пожалуй, я пока и спрашивать его ни о чем не стану, прежде все хорошенько обдумаю. Хочу ли я вообще его видеть? Что мне сейчас нужно, так это выпить чего-нибудь покрепче, и мне все равно, что скажет на это Биттерлинг. Иначе опять зареву у нее на глазах, и это будет хуже всего. Ненавижу ее. Как я хочу умереть. Или чтобы умерла она, так еще лучше. Плюс ко всему это я оплачиваю джин, который она сейчас пьет.
Она снова плюхнулась в кресло и закурила, следя за мной краем глаз. Я подошла к ней и только теперь заметила на полу бутылку – в луже разлитого джина. Мне стало так противно, что я задрожала.
– Ты хоть понимаешь, – начала я, – что ведешь себя, как законченная свинья?
– Тоже мне оранжерейный цветок! – фыркнула она. Пепел с сигареты упал в вырез ее платья. – Все, что исходит от тебя, – ложь. Ты и Клер перетащила на свою сторону. Ты с самого начала пыталась настроить ее против меня. Мерзкая дрянь.
Этого ей не следовало говорить. Тем более мне. Какая невыносимая пошлость.
– Раз уж ты вспомнила Клер… – Мой собственный голос слышен мне как будто со стороны. Дрожь усилилась, внутри стало пусто и холодно. Абсолютно новое чувство. Это власть. Это настоящее чувство власти. – Твоя несравненная Клер… – продолжила я. – Ты так уверена в ее безупречности? Так я тебе скажу, что и у нее рыльце в пушку. Пожалуй, пора.
Клер
Мужчина, женщина, ребенок. Маленькая девочка в очках с белокурой челкой, на ночной сорочке – веселый голубой слоненок. Мужчина сидит на краю кровати, он снимает с дочери очки, кладет их на ночной столик. Женщина возится с вещами, в коридоре стоят чемоданы. Они только что вернулись из поездки? Может быть, были у дедушки с бабушкой. В деревне. На море. В горах. Показывали ребенку мир и рассказывали.
Она смеется и обнимает отца за шею. Отец целует ее. В нос, в лоб, в подбородок. Потом в левую и правую щеки. Потом наступает очередь ребенка. В том же порядке. Нос, лоб, подбородок, щеки, левая, правая. Поцелуи, поцелуи, поцелуи, поцелуи. Ритуал. Потом под одеяло. Укрыться хорошенько. Тебе должно быть тепло и спокойно.
Я заглядываю в эту комнату, как в кукольный домик. Это эскиз моей собственной жизни. Пусть даже он и остался эскизом – это уже совсем другая история. Но я ясно представляю себе это: Кристина садится на колени Эрику, кладет ему руку на плечо, они берут меня за руки, с двух сторон. И мы начинаем песню, которую поем каждый вечер, за которой начинается моя мирная, спокойная ночь, которая защищает меня от Ниса Пука, от болезней и злых мыслей, от всех напастей мира. Со мной ничего не случится. Мама и папа всегда со мной. И даже когда я состарюсь, эти бесчисленные вечера будут жить во мне, вечера, когда они дарили мне свою безмерную любовь, когда мы смеялись, и пели, и целовали друг друга. Рука в руке, рука в руке. Только так, иначе и быть не может.
Интересно, видят ли меня эти счастливые люди? Белое облачко, которое во мраке ночи приникает к окну и любуется теплым светом и уютом чужого жилища? С резким звуком задергивается занавеска. Р-р-раз! И ты остаешься снаружи.
Додо
Жалкое шоу, паршивый сценарий, никудышный режиссер, я требую свои деньги обратно! Или я слишком пьяна? Или у меня галлюцинации? Но почему вместо зеленых чертиков, как у всех нормальных людей, я постоянно вижу Нору? И слышу? Нора, ты мой зеленый чертик. Это она нашептала мне, что Клер в ту туманную ночь после какой-то там сраной конфирмации сбила косулю. Этой косулей была Ма.
Нора
Слова текут сами, складываются в предложения, без запинки, они так и льются, как будто я десятки раз репетировала свою речь. Не знала, что могу рассказывать так подробно и гладко, так свободно, употреблять такие элегантные обороты, Папашка остался бы доволен, он был великолепный оратор. Я чувствую бесконечное облегчение, все мосты за мной сожжены, я не должна больше ни на кого оглядываться – ни на Додо, ни на Клер, ни на Ахима. Мириам и Даниеля я выношу за скобки, о них я подумаю в другой раз.
– Я не смогла ее удержать, – слышу я свой собственный голос. – В ту же ночь она уехала в Гамбург, остановилась в каком-то отеле, чтобы первым же рейсом улететь в Нью-Йорк, к своему Давиду. Она не раздумывала, понимаешь? Она запаниковала, и ее можно понять.
– Можно понять, – Додо повторяла мои слова, как эхо, как будто разучилась самостоятельно говорить.
– Вот так-то! Скрылась с места преступления, – добавила я. – Правда, наутро мы узнали из газет, что твоя мать все равно не пережила бы удара. Ее бы не спасло, если бы мы отправили ее в клинику. Или позвали врача.
Додо сморгнула, словно ей на миг изменило зрение.
– Мы? – переспросила она. – Почему ты говоришь «мы»?
– Ты меня не слушаешь, – ответила я. – Я же тоже сидела в этой машине. На заднем сиденье, со своим свекром в обмороке. Вела Клер, это же был ее «BMW». Нашу машину взял Ахим, наверное, к тебе поехал. Ломать нашу совместную жизнь. Когда, собственно, у вас это началось?
– Я хочу кофе, – сказала Додо. – А потом убью вас обеих. Можешь не сомневаться. – Она поднялась с кресла, проковыляла к стойке администратора, но вдруг развернулась на сто восемьдесят градусов. В дверь как раз входил цветной таксист, и она шагнула ему навстречу. – Нет, – пробормотала она, – по taxi! Тетя не сделает отсюда ни шагу, capito?
Он в недоумении вытаращился на нее. Она показала ему средний палец и как безумная завизжала: «Fuck off!» К ней подлетел портье, и все трое они взахлеб принялись орать друг на друга, причем ни один из них не понимал, чего хотят остальные. Вавилон, подумала я.
Мне все равно, уезжать или остаться. Я откинула назад голову, закрыла глаза и провалилась в странную холодную пустоту, которая окружила меня со всех сторон. Пустота вокруг, пустота во мне. Как будто кто-то вынул из меня все внутренности. Вот бы так всегда: не чувствовать боли. Тот, кто не чувствует боли, имеет власть. Странно, что раньше я этого не понимала. Надо как можно скорее переговорить с Биттерлингом насчет морфия, или что он там мне предлагал.
Неужели другие люди чувствуют совсем не то, что я? По-другому, не так, как я? Что чувствовал Ахим, когда первый раз танцевал со мной на выпускном балу? Я всегда думала, что мы чувствовали одно и то же. Иначе мы бы не влюбились друг в друга, не поженились бы и не создали бы семью, чтобы быть вместе и в горе и в радости.
Я танцевала с Лотаром. Румбу. Он был лучшим танцором в школе, как только он слышал музыку, он совершенно менялся, вся его неловкость сразу куда-то исчезала. Я старалась не смотреть ему в лицо или на шею, густо усеянную прыщами. А он терзал меня вопросами, что ему делать дальше. Продолжать учиться музыке или выбрать другой путь, который быстрее приведет к независимости от родителей. Мое мнение очень важно для него, говорил он. Я ушла от ответа. Сказала, что такие решения каждый должен принимать сам.
Тут в зал вошла Додо в своем огненном мини-платье, все остальные девочки пришли в длинных, но ей и здесь надо было отличиться, как же иначе. На ногах у нее были красные босоножки на шпильке. И ее сопровождал высокий темноволосый молодой человек с галстуком-бабочкой, которого я никогда раньше не видела. Он двигался как Мел Феррер.
Они сразу пошли к бару, и я наблюдала, как Додо знакомила своего приятеля с Клер. Я бы с удовольствием подошла к ним, но Папашка с Мамулей сидели за столом у самой танцплощадки, и им не понравилось бы, если бы я бросила Лотара посреди танца. Ничего, сказала я себе, все равно я с ним познакомлюсь, впереди еще весь вечер и долгая бальная ночь. Я продолжала танцевать с Лотаром и терпела его расспросы. Носит бабочку, думала я, наверное, архитектор. Может, мне тоже пойти на архитектурный, а не на германскую филологию?
После румбы я сказала Лотару, что мне надо припудрить нос. Я научилась этому трюку из американских фильмов. Я сделала круг и прошла мимо бара, совсем близко от Додо и Клер, но они меня не видели, болтали с нашим преподавателем рисования, его звали Фрезе, и поговаривали, что у него шуры-муры с молоденькой преподавательницей физкультуры. Приятель Додо стоял и откровенно скучал, одна его рука покоилась в кармане брюк, в другой он держал бокал. Мне почему-то полегчало, когда я заметила, что он не курит, потому что все вокруг дымили – и Фрезе, и Додо, и Клер. Но он никогда не курил и до сих пор не курит. Меня раздражает, говорит он, что люди разрушают собственное здоровье, да еще и платят за это немалые деньги. Он стоял и смотрел, как я подхожу к нему, а потом взглянул мне в глаза. И пока я медлила, потому что не знала, могу ли я заговорить с ним первой, он так легко поднял бровь, едва заметно. Но для меня это стало знаком: «Так это ты? Привет. Как хорошо, что ты все-таки подошла, почему я должен ждать тебя?» Я улыбнулась в ответ и принялась пудрить свой нос, достав черепаховую пудреницу, которую Мамуля подарила мне накануне бала. Она и сейчас цела.
Когда, спустя час, он, наконец, отделался от Додо и пригласил меня, я уже не сомневалась, что он просто ждал медленного вальса, потому что угадал, что это мой любимый танец, и, что бы там ни говорила Додо, это точно был вальс. Он держал меня легко и уверенно и вел между другими парами так, что мы ни разу никого не задели. Но его колени и бедра касались моих.
О чем мы говорили во время танца? Обменялись ли мы вообще хотя бы парой слов в эти наши первые минуты? Не помню. Но когда он отводил меня обратно к столу, то спросил, занимаюсь ли я спортом, и я ответила, что только плаванием и теннисом. Это заметно, сказал он и снова поднял бровь – совсем чуть-чуть, с таким заговорщицким видом, как будто между нами успела установиться какая-то тайна.
Потом Папашка учинил ему настоящий допрос об учебе и его политических взглядах. Людей, которые симпатизировали фракции «Красной армии»[39]39
Левацкая террористическая организация в ФРГ.
[Закрыть] и участвовали в демонстрации в Брокдорфе, он быстро отваживал, лишь для Додо сделал исключение – ради меня. Ахим оставался у нашего столика еще по крайней мере полчаса, Папашка заказал очередную бутылку шампанского, потом я вместе с другими поднялась на сцену, потому что участвовала в скетче. Когда я вернулась, он снова крутился возле Додо.
Весь вечер я ни на секунду не теряла его из виду. Он не поднимал бровь больше ни для кого. Даже для Додо, которая уволокла его в два часа. Он даже не попрощался со мной, потому что Лотар как раз пригласил меня на фокстрот.
И что я теперь должна думать? Что все его тайные знаки были ложью, а в действительности ничего не было? Но тогда все рушится, как карточный домик, начиная с выпускного бала в 77-м и заканчивая прощальным поцелуем позавчера на Центральном вокзале в Гамбурге. Что касается бала, конечно, я видела их вместе, Ахима и Додо, рука об руку, но и мы с Лотаром держались за руки, и это ничего не значило. И то, что Додо целовала этого молодого человека и обнималась с ним, я тоже конечно же видела, но в этом не было ничего нового, она демонстрировала нам такое постоянно, никогда не упускала возможности похвастаться перед нами своими победами. И в остальном они вели себя так же, как и остальные, впервые почувствовав себя взрослыми. Аттестат в кармане – и ты свободен.
В субботу после отъезда Додо и Клер он позвонил мне, нашел удобный предлог, сказал, что не может найти записку с адресом в Италии, куда он должен через два дня отправиться вслед за ними. Эта новость меня ошарашила – я понятия не имела об их планах, – но пообещала, что спрошу у матери Додо. Эта идея, объяснил он, уже приходила ему в голову, но фрау Шульц уехала на выходные. Он только что узнал это от ее соседки, которая выгуливала собаку возле дома, а теперь звонит из телефонной будки. Какой будки, спросила я. Перед ратушей, сказал он. Как раз рядом со мной, воскликнула я. Если хочешь, могу показать тебе фотографии выпускного бала, ты там тоже есть. Со мной. В медленном вальсе.
Мамуля пригласила его на ужин, а Папашка открыл бутылку вина хорошего года и завел с ним беседу о каких-то сложных торговых операциях. Ему импонировала манера Ахима терпеливо слушать собеседника, а потом задавать дельные вопросы. Когда он прощался, Папашка с Мамулей в один голос заявили, что будут рады снова его видеть. Они были так милы и тактичны, что дали мне возможность проститься с ним наедине, и тогда он спросил меня, не могу ли я при случае взять и его с собой на теннисную площадку. В день, на который мы договорились, лил дождь, но он все равно явился, и мы отправились гулять по лесу, по крайней мере три раза прошли от церкви до спортплощадки и обратно.
О поездке в Италию теперь не было и речи. Я решила поступать на юридический, как он. Я доверила ему свою жизнь.
Клер
Еще пара сотен шагов. Еще пару раз легкие наполнятся чистым, холодным, пронизывающим ночным воздухом. Жаль, что нет снега. От отеля отъехало такси. Прощай, Нора. Может, когда-нибудь увидимся. И Додо. Когда поумнеем, изменимся, очистимся от слабостей и ошибок и излечимся от ран. Три ангела. Милый образ.
Додо
Она вошла – убийца, скрывшаяся с места преступления. На лице – дьявольская ухмылка. Конечно, она не знает, что мне уже все известно, что Нора все мне рассказала. Нора, мой маленький зеленый чертик. Отдыхает под пластиковой пальмой, выдохлась после таких откровений.
– Ты что же – встретила ее я, – так все время и шла пешком? Не опасно ли по такой темноте? Женщине? Совсем одной?
– Я очень устала, – сказала она. – Спокойной ночи, Додо. – И собралась пройти мимо меня к лифту.
– Э, нет, – схватила я ее за рукав. – Ты, трусливая мерзавка, почему ты мне ничего не сказала? Почему ты не остановила машину, почему не посмотрела?! Не позвала врача?! Ты ничего для нее не сделала! – Я размахнулась и врезала в ее побелевшее от ужаса лицо.
Нора
Очевидно, я здесь единственная, кто еще хоть что-то соображает. Терпеливая, как ангел, я увела их к себе в номер, куда явился и растерянный портье с тройным эспрессо для Додо. Дожидаться чаевых он не рискнул, наше поведение явно изменило его представление о немецких женщинах не в лучшую сторону. Клер с разбитым носом улеглась на мою кровать, она так замерзла, что не стала снимать пальто. Я подложила под затылок влажное полотенце, и кровь быстро пропитала белую махровую ткань.
– Не дави так, – прошептала она.
Это ее первые слова после того, что с ней сделала Додо, но мне кажется, ей все-таки полегчало, потому что наконец покончено со всеми этими тайнами. Мы раскрыли друг перед другом все карты. Все, кроме одной. Моей персональной карты, карты Биттерлинга. Но об этом я распространяться не собираюсь. Я скорее язык проглочу, чем проболтаюсь.
Додо со своей чашкой стояла у окна и смотрела вниз, в темноту. Я понимала, что сейчас творится в ее душе. Ее лицо, больше похожее на маску, отражалось в оконном стекле, и там же, только ниже, на уровне ее бедер, дрожало отражение моих фиалок в стакане для зубных щеток из поддельного черного туфа. Я вспомнила про черный шелковый цветок, который прикалываю к траурному костюму на похоронах. Он уже был у меня, когда хоронили мать Додо? Не помню.
Внезапно меня обожгла одна мысль. Что бы я чувствовала, если бы Додо насмерть сбила Папашку, а я только что об этом узнала бы. А, все это пустые предположения. Я это я, она это она, а Клер это Клер, каждая из нас – отдельная, самостоятельная личность, и у каждой своя судьба. В одном мы схожи, все трое мы страшно одиноки. Не только в смерти. В жизни тоже. У меня вдруг сдавило горло, и мне показалось, что по лицу потекли слезы.
– У меня не так много времени, – услышала я свой голос. – Не хотелось бы вас этим сейчас грузить, но для меня эта наша поездка – последняя. Давайте расстанемся мирно.
Клер
Этот ужасный шепот. Старик зажал мне рот, а шею стянул ремнем, чтобы я не закричала, а в уши мне шепчет непристойности. Если я смогу открыть глаза, он отстанет от меня, стоит только поднять веки, и я увижу, что эта страшная картина – лишь плод моего воображения.
Все мне только кажется, ведь он мертв. У темного окна стоит Эрик. Сейчас он задернул шторы, как делал это каждый вечер, чтобы Нис Пук не мешал мне спать. Кристина сидит возле меня на краю кровати, она укрывает меня и тихо поет. Я узнаю мелодию и текст, песня про красное солнце. Которое умирает.
Красное солнце, мама,
Ограда черна, как ночь,
Солнце уже умирает, мама,
И день уходит прочь.
Снаружи бродит лиса, мама,
Скорей ворота закрой,
Садись ко мне на кровать, мама,
И что-нибудь мне спой.
Небо такое большое, мама.
И звезды – света глаза,
Кто там живет наверху, мама,
Чьи они, небеса?
Может быть, он молодой, мама,
Тот, кто смотрит сверху на нас,
Он ляжет в свою кровать, мама,
И с нами уснет сейчас.
Зачем нужна эта ночь, мама,
И холода зимой?
Слышишь, кошка пришла, мама,
Кошка хочет домой.
Не ласточки мы и не чайки, мама,
Это у них дома нет.
Слышишь, звезды поют, мама,
Мама, гаси свет.[40]40
Ахим Бергштедт. Перевод с датского Ольги Боченковой.
[Закрыть]
Додо
Мне очень жаль, но твой фокус, корова, не пройдет. Смертельно больна – ха-ха. Крокодильи слезы в два ручья. Надо развеять этот лживый, спертый воздух, и я распахиваю окно. Она мелет что-то про Биттерлинга, про симптомы, про то, что самое большее через год она станет инвалидом. Она всегда читала плохие романы. До чего она мерзкая – видеть ее не могу.
– Очередная шутка. Неудачная, – сказала я и направилась к двери, мимо лежащей на кровати кровавой мумии и хнычущей бабы рядом с ней. Удивляюсь, за каким хреном я вообще приперлась в ее номер, совсем, видно, чокнулась.
– Додо! – завопила она и вцепилась в меня мертвой хваткой. – Не уходи, я правда скоро умру.
Что-то такое она, кажется, уже когда-то говорила, но сейчас мне абсолютно все до лампочки.
– Все мы умрем, – сказала я и стряхнула с себя ее руки. – И я не верю ни единому твоему слову. – Но тут я вспомнила наш вчерашний разговор. Вот и славно. – Ты хотела знать, – повернулась я к ней, – обо мне и твоем Ахиме. Не передумала?
Она уставилась на меня, как паршивый кролик на удава. Она в панике. Не может даже кивнуть. Я взяла сумочку Клер и спокойно выудила из нее таблетки. Я не торопилась – в моем распоряжении все время Вселенной. Каждая секунда для меня – высшее наслаждение, а для нее – ад. И что это я держу в руках?
– Вот, полюбуйся, – сказала я и бросила ей на колени серебряную упаковку. «Ленц-9», вот как называется это дерьмо, которое якобы возвращает в душу весну надежды и наполняет сердце ожиданием любви. – Вот что потребляет наша любимая Клер. Наглотается по самое некуда, а потом совершает убийство и скрывается с места преступления. Тебе это без надобности, ты ведь и так мастерица не видеть ничего, что тебе неприятно, а то, что не укладывается в твою розовую картинку, просто-напросто выносишь за скобки, замазываешь, спрямляешь – в общем, фрау Клюге, урожденная Тидьен, остается безупречной.
– Это ты его соблазнила, – опять заныла она. – Признайся.
Я присела на корточки, достала очередную сигарету. Теперь эта дрянь никуда от меня не денется. Пусть каждое мое слово бьет в точку. На этот раз я – царь зверей, даже если сижу ниже, чем она, на полу. На этот раз ей ничто не поможет.
Она молча взяла с ночного столика пепельницу и протянула ее мне, нечаянно смахнув свои дурацкие «Кошачьи язычки», за которые наверняка заплатила бешеные бабки. Она не сводила с меня глаз. На лице – ни следа гнева, только страх. Сейчас ей можно смело дать все шестьдесят. Как минимум. Мумия по-прежнему неподвижна – витает в своих лекарственных эмпиреях, заглотила сразу три штуки, еще когда мы поднимались в лифте и Нора держала меня, не давая снова вцепиться ей в рожу.
– В восемьдесят восьмом, – сказала я. – Летом.
В ее черепной коробке что-то щелкнуло, едва она услышала эту цифру. Через десять лет после их свадьбы, высчитала она, лето 88-го, ах, почему я ничего не замечала, где же мы были во время каникул, мы были так счастливы, все у нас шло лучше некуда. 88-й. За год до рождения Фионы. За год до того, как я ездила к Додо в Кельн, чтобы помириться и возобновить нашу дружбу.
– Вы снимали прелестный домик в Бретани, – продолжала я. – Ты показывала нам снимки. С середины июля по середину августа. Но ему пришлось на два дня отлучиться в Бонн. Remember?
– Его другу исполнялось сорок лет, – прохрипела она.
– Ага. А ты не могла с ним поехать из-за вашей девчонки. Побоялась оставить ее на няньку.
– Они тогда заночевали в Бонне, – простонала она. – Я точно помню, они так напраздновались, что у него весь следующий день болела голова.
– Еще бы. Ясное дело. Отличная отговорка, чтобы не спать с тобой. Мы случайно встретились в аэропорту Бонна, он возвращался с дня рождения и собирался лететь к тебе, а я собиралась к клиенту во Франкфурт. Он сказал, что готов убить собственную мать, если за это я согласилась бы поменять свои планы.
– Я тебе не верю, – пролепетала она.
– А мне насрать, – ответила я. – А недели через две у него вошло в привычку названивать мне каждый день. Вообще, такое бывало и раньше. Когда вы перед свадьбой отправились на Боденское озеро, он и тогда меня уговаривал, но в тот раз я его просто шуганула. Во всяком случае, когда вы вернулись из отпуска, он своими звонками меня просто достал. «Я никогда не забывал тебя» – вот что он говорил и называл самой большой глупостью в своей жизни то, что связался с тобой. Ах да, он и цветы присылал. Довольно затратная статья. В основном розы, если тебе интересно, ты ведь знаменитая садовница.
– Твой номер, – едва слышно пискнула она. – Твой адрес. Откуда он их узнал?
– А ты слышала что-нибудь о справочной службе? И вообще, с какой стати я должна была скрывать от него, где живу. Из скромности? Или ради тебя? Ну да, я время от времени позволяла ему приходить, и мы трахались. – Мне стало весело. – По многу раз.
У нее затряслась нижняя губа.
– Трахались, – с удовольствием повторила я. Какое наслаждение видеть эту трясущуюся губу. – До потери пульса. По всем правилам искусства. Он здорово заводится, если приложить немного фантазии. Но ты и сама знаешь, что он не любитель секса для домохозяек…
Она издала жалобный тихий звук и замолкла. Жалкая развалина с ногами теннисистки. Давай, давай, поскули. Наконец-то я добралась до тебя, ударила там, где больно.
Я не закрыла окно, и ветер стучал рамой. Некоторое время я слушала ее жалобный плач, пока не поняла, что во мне самой тоже что-то стучит и стонет. Я думала, месть принесет мне куда как больше радости. Я уже ничего не понимаю. Предположим, сидим мы сейчас втроем в уютном кабаке, ничего такого между нами не произошло, мы мирно сосуществуем в Божьем мире, над всеми муками, которые выпали на нашу долю, над всем, что нам еще предстоит пережить, над всей этой пошлостью – шмотками, стиральными машинами и рамками для картин. Было бы мне легче? И у Клер на совести не было бы Ма. И у меня не было бы богатой подруги, которую я могла бы попросить вытащить меня из дерьма. Предположим, предположим, предположим… Игра проиграна. Жизнь проиграна. Все проиграно, все, начиная с того фокстрота двадцать лет назад. Который для Норы был вальсом.
Нора
Секс для домохозяек, сказала она. Но что такое секс для домохозяек? Это что, когда ты занимаешься этим на кухонном столе? На котором через полчаса будет готовиться мясной рулет? Руками той самой домохозяйки. Если бы она знала, что я занималась этим на стульчике у рояля… Хотя, вполне возможно, они с Ахимом делали это на лестничной площадке, там, где в любой момент может кто-нибудь появиться, что, безусловно, добавляет азарта. Или в дороге, в поезде, как она рассказывала однажды, между Кельном и Мангеймом, в первом классе, «экстремальное возбуждение», как она, хохоча, говорила. Ахим так часто уезжает: на семинары, курсы повышения квалификации, конференции, в Мюнхен, Франкфурт, Берлин, Бонн, Гейдельберг. После отпуска в Бретани он все чаще отправлялся в разъезды, завязывал новые контакты, объяснял он, расширял сотрудничество с партнерами в Рейнской области, где есть большие концерны. Он постоянно спрашивал, не оставить ли нам Пиннеберг и не перебраться ли в город побольше, где он мог бы общаться с коллегами своего уровня, но дальше разговоров дело не шло и никаких реальных шагов он для этого не предпринимал. Да и я его осаживала, напоминала, что нам ведь и в Пиннеберге хорошо, здесь ты первый, а захочешь ли быть в Висбадене двадцатым? Ты умница, Клюге,[41]41
Игра слов. Клюге (нем. Kluge) – умница.
[Закрыть] говорил он. И уже десять лет как у него в Кельне была дочь. Третий ребенок.
– Фиона знает ли, кто ее отец? – мой голос звучал как чужой. Он и не мог звучать по-другому, после того что на меня свалилось. В воображении я рисовала себе Ахима в обнимку с Додо, оба они голые. Делают ребенка. – А она знает?
– Наша очаровательная Клер? – уточнила Додо. – Конечно, знает. С самого начала знала. Что касается Фионы, то она безумно любит своего папочку. И он отвечает ей взаимностью.
Это уж слишком. Воздух с трудом проходит в горло, больно глотать.
– Но он остался со мной и моими детьми! – прохрипела я. – Он знает, кому он принадлежит.
– Он бросил бы тебя с радостной песней, – сказала она. – В особенности после того, как его родители переселились в лучший мир. Зачем ты ему теперь? Совести, скажу тебе по секрету, у него нет. Он уже присмотрел себе квартиру в Кельне. С видом на Рейн, не квартира, а конфетка, можешь мне поверить. Стоит мне поманить его пальцем…
Она поднесла руку к моему лицу и сделала бесстыдный жест. Во мне поднялась какая-то огненная буря, красная, как платье Додо на выпускном балу, поднялась из желудка и выплеснулась наружу, перехватывая дыхание, едва не разрывая грудь и пылая в висках. Лицо загорелось, будто я окунула его в пламя. Сейчас я поднимусь и наброшусь на нее. Из нас троих я всегда была самой сильной.
Клер
Они набросились друг на друга прямо возле моей кровати, Эрик и Кристина, вот потеха. Даже не вышли из комнаты, обнимаются прямо у меня на глазах! Наверное, хотят показать мне, как это делается, чтобы я знала и потом не боялась любить. Я обязательно должна рассказать об этом Додо и Норе, когда увижу их в следующий раз. И хотя я очень устала, ни в коем случае не должна закрывать глаза, а то страшные видения опять вернутся.
Додо
Она сжала мое горло, навалилась на меня, как куль с мукой, прижала меня к полу. Она совсем спятила! Это не шутка, она хочет убить меня. Отпусти, Нора! Воздуха не хватает… Забирай его, он мне не нужен, только отпусти!
Нора
Я отдавала ей свое яблоко, она брала его, говорила «спасибо» и ела вместе с семечками и черенком. И еще хихикала, что черенок первый сорт, большой и крепкий. С тех пор я тоже стала грызть черенки. Один раз Ма поймала меня за этим занятием и сказала, что так нельзя, во-первых, это некультурно, а во-вторых, можно подавиться. До чего противная шея, как у курицы, я чувствую, как под пальцами напряглись жилы, а глаза, кажется, сейчас выскочат из орбит, как расширились зрачки – и тут же сузились до двух крохотных точек, хватит, Додо, прекрати дергаться, ты же моя подруга, успокойся, тихо!
Клер
Стоит только на секунду поддаться этой безмерной усталости и закрыть глаза – и на меня снова наваливается ад, в уши так и лезут кошмарные стоны, они все громче и громче, невыносимо, у меня сейчас перепонки лопнут, выпустите меня отсюда, выпустите в настоящую жизнь…
Додо
Перед глазами – лиловый туман, а в нем – ее искаженная злобой харя, которая почему-то начинает распадаться на кусочки: отдельно – горящие глаза, отдельно – дергающиеся ямочки на щеках, а теперь ничего, все синее, темно-синее, и белые звезды на синем, и какой-то великан поднимается надо всем, а потом все пропадает, больше нет ничего, одна чернота, как хорошо.
Нора
Откуда такой грохот? От этого грома можно оглохнуть. Неужели это землетрясение? Или атомный взрыв? Мириам, Даниель, Ахим – где вы?
Мои руки на шее Додо, сжимают ее горло. Ее лицо – ярко-красного цвета, как шток-роза. Ее глаза… Время остановилось.
Клер
Оказывается, убежать от него легче легкого. Ты просчитался, Нис Пук. Если бы я раньше знала…
Додо
Почему я лежу на полу? И почему так чудовищно болит горло? Слишком много курила, вот почему. Что это за шум? А, это хрипят мои собственные легкие. Кажется, я хлопнулась в обморок. А что это Нора делает там, возле окна? Смотрит во двор? Но почему у нее на лице такой ужас, а рукой она прикрывает рот? И где Клер? У нее больше не течет кровь из носа? Черт, это же я ей врезала. Потому что она сбила насмерть мою Ма, ханжа паршивая. Но как же больно, сил нет терпеть, ощущение такое, будто кости под кожей болтаются туда-сюда, а говорить я совсем не могу, и шее больно, так больно…








