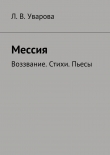Текст книги "Явье сердце, навья душа (СИ)"
Автор книги: Марго Арнелл
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Глава восемнадцатая. Волшебные гусли
Та ночь, как понимал теперь Богдан, была переломной.
Однажды его одноклассник серьезно заболел – гриппом, кажется. В один из дней температура подскочила до сорока. Врач сказал: если эту ночь переживет – значит, выживет.
Что бы ни произошло с Богданом, ночь, когда его объял смертельный, промораживающий до костей холод, он тоже пережил. Беда в том, что проснувшись наутро (удивительно, что вообще уснул), он почувствовал в себе что-то странное. Что-то новое. Что-то чужое. Проблема в том, что это «что-то» не так-то просто было распознать. Объяснить – еще сложней.
За завтраком он был молчалив. Пришел Матвей – чуть раньше, как обычно. От яичницы отказался, от чая с печеньем не смог – тоже как обычно. С набитым ртом рассказывал маме Богдана о том, что сердце птицы во время полета бьется тысячу раз в минуту, волнистые попугайчики могут поворачивать голову на сто восемьдесят градусов, как совы, а красавцы снегири, кроме семян и ягод, едят пауков. В копилке знаний Матвея лежало с сотню фактов о птицах.
– Почему птицы? – с улыбкой спросила Екатерина Олеговна.
Матвей задумался, но совсем ненадолго.
– Они свободны. Вольны делать все, что захотят. Могут улететь хоть на край земли, хоть на Северный полюс. И увидеть то, чего никто не увидит.
– Но ведь ты не станешь птицей лишь оттого, что наблюдаешь за ними, – рассмеялась Екатерина Олеговна.
Заправила за ухо гладкую темную прядку и подлила в кружку Матвея кипяток.
– Зато я стану немного ближе к тем, кто умеет летать, – сказал он со смущенной улыбкой.
Богдан без особого энтузиазма ковырялся в тарелке. Аппетита не было. Внутри него – то ли в груди, то ли в желудке – будто что-то замерзло. Он ощущал это «что-то» острым осколком льда. От него, будто брошенного в Богдана Снежной Королевой, холод растекался по всему телу. И с каждым его вздохом внутри становилось все холодней. Будто осколок этот в нем пускал ветвистые хрустальные корни, а те становились венами, по которым вместо крови тек жидкий лед.
Богдан мотнул головой. Какая только чушь не придет в голову, когда мозг затуманен болезнью.
В конце концов, он не умирает. Холодно? Ну бывает. Вон, люди в тундре живут, работают на Северном полюсе. Им тоже холодно. Ничего, терпят, справляются. Да и самое страшное уже позади. Не умер тогда, когда на это были веские причины, и сейчас уж точно не умрет.
Подумаешь, холод!
Мысли сделали еще один виток, и так по кругу, повторяясь. Вздохнув, Богдан понял, что лишь пытается успокоить сам себя. Отложил вилку в сторону.
– Наелся? – удивилась мама.
В последнее время он всегда съедал завтраки, обеды и ужины подчистую. На тарелке ничего не оставлял. Будто пытался наверстать все после комы. Богдан кивнул. Даже просто держать вилку в окоченевших пальцах было непросто. Аппетит окончательно пропал.
Провожая его в школу, мама смотрела настороженно. Приложила руку ко лбу.
– Какой-то ты бледный…
Только Матвей ничего не замечал. Впрочем, Богдан удивился бы, будь все иначе.
Неестественный холод настойчиво отказывался покидать его тело. Это злило. Смиряться Богдан не собирался, но и сделать ничего не мог: ни горячий чай не помогал, ни обогреватель, включенный в комнате втайне от родителей, ни старомодная, еще бабушкина, грелка.
И мало ему было ощущения, будто он – живой мертвец, по чьему телу кровь уже не циркулирует, на него свалилась новая напасть.
Вернувшись со школы, Богдан бросил рюкзак у письменного стола. И оторопел, когда тень от рюкзака, сгустившаяся, налившаяся чернотой, будто соком, метнулась вправо. Там и застыла.
«Показалось», – с ледяным спокойствием подумал Богдан. А что еще оставалось? Иногда случалось, что на периферии зрения мелькнет черное пятно. Оглянешься – ничего. Просто обман зрения. Беда в том, что тень продолжала сидеть в углу комнаты. Неправильная какая-то. Нечеткая, размытая по краям. Она казалась даже не тенью, а кляксой или… черным пятном, о котором известно каждому близорукому человеку. Снимаешь очки или линзы, и очертания всех предметов в комнате расплываются. Детали стираются и остаются только пятна.
Богдан щурился, пытаясь разглядеть кляксу получше. Даже глаза протер. Пятно будто издевалось над ним – осталось прежним и исчезать не спешило. Он раздраженно выдохнул.
– Ну и сиди там.
Богдан принял душ, переоделся и пошел в Дом культуры. Гусли он оставлял там, в специальном шкафчике, который бдительная вахтерша Галина Никитишна всегда запирала на ключ.
Когда они жили в деревне, его увлечение особо никого не удивляло. Многие знали его дедушку, да и в местном ДК большинство – баянисты, аккордеонисты и гусляры, которые очень часто выступали на местных праздниках. Потом отец нашел хорошую работу в городе и уговорил их переехать. Маму в деревне больше ничего не держало, Богдан был слишком мелким, чтобы его мнение учитывали. Он потерял друзей, которых, наверное, все равно потерял бы – после школы или после института. Но любовь к гуслям осталась.
В городском ансамбле гусляров, к которому Богдан присоединился почти сразу после переезда, были и взрослые, и его сверстники. Худые, стеснительные пареньки. Их обижали. Часто. Местная гопота смеялась и над ним. Его тоже пытались обидеть. Пытались – потому что не позволял. Не раз и не два Богдан приходил домой с разбитыми костяшками, куда реже – с разбитой скулой или губой. Дедовский характер – мягкий, спокойный, он не унаследовал. Как мягко упрекала мама, весь пошел в отца – в детстве (а если еще честней, до того, как у него появилась семья) знатного задиру.
Увлечению Богдан отдавался со всей страстью. Девочки на школьных концертах слушали заворожено, а вот ребята не проникались. Вроде как, стыдно парню иметь «девчачьи» увлечения. Право делать то, что хочет, Богдан отстаивал так, как мог.
– Поберег бы руки, – глядя на разбитые костяшки, огорченно вздыхала мама.
Отец, пока она не видела, ткнул в плечо и прошептал на ухо: «Молоток».
Дедушка Богдана был прекрасным гусляром. Вспоминая о нем, мама всегда улыбалась, но к улыбке добавлялись блестящие в уголках глаз бисеринки слез, которые она, стесняясь, украдкой вытирала. Она называла его «неправильным пенсионером». Дома он сидеть отказывался, почти каждый день выбирался на улицу с гуслями, подвешенными на груди за широкий тканый пояс. Играл на лавочке между двумя пятиэтажками, и люди, уже зная о нем, часто прокладывали путь через их двор. Останавливались, чтобы послушать, и с улыбкой расходились.
Но больше всего дедушкина игра нравилась Богдану.
Детвора смешно танцевала, а дедушка еще и пел, сам себе аккомпанируя. Голос у него был глубокий, тягучий и густой, как мед. Иногда черты его лица забывались, стирались, и тогда Богдан смотрел на фотографию на комоде в маминой спальне. Просто чтобы вспомнить. Но голос дедушки всегда жил в его памяти, а на него, словно на тонкую проволоку – бусины, нанизывались звуки гуслей.
Когда дедушка ушел из жизни, мама словно истаяла. На похудевшем лице лихорадочно блестели светло-серые глаза, вселяя в маленького Богдана тревогу. Проводив отца в последний путь, она почти не выходила из комнаты. Она не плакала, но напоминала свечу, от которой остался лишь огарок. Отец Богдана не знал, как ей помочь.
Маленькому Богдану казалось, что частичку души его мамы дедушка забрал с собой. Но как ее вернуть? Вспомнилось, как детвора вместе с Богданом весело танцевала под звуки дедушкиных гуслей, как радовалась мама. Глаза ее сияли – как солнце даже, не свеча! Так может, именно в гуслях крылась магия, которой она лишилась? И потому потеряла саму себя?
В отчаянии Богдан отыскал гусли – из дома дедушки они перекочевали в их дом. Положил волшебный инструмент на пол гостиной и благоговейно тронул пальцами струны, подражая движениям самого лучшего в мире гусляра.
Звуки выходили ужасные – совсем не дедушкины. Но в спальне родителей, в которой папа успокаивал жену, воцарилась тишина. Дверь, скрипнув, отворилась. На пороге стояла босая мама – ее бледная тень с огромными глазами. Она ежилась в тоненькой ночнушке – выбралась из постели, забыв даже набросить халат, и во все глаза смотрела на сына.
Непокорной черной гривой волос Богдана пошел в дедушку. И голоса их – глубокие, низкие, были похожи. Но это сейчас. А тогда он тоненьким голосом завел единственную песню, которую помнил, и, кажется, безбожно исковеркал слова.
Впервые после похорон отца мама заплакала, уткнувшись в грудь растерянного мужа. И, кажется, ожила.
Еще несколько лет Богдан жил с убеждением, что гусли по-настоящему волшебны. Что они способны исцелять разбитые сердца. Он понял, что должен во что бы то ни стало научиться на них играть.
Он и сейчас верил в магию гуслей. Просто она была иной, не такой явной, как в сказках и сказаниях. И все же… она была.
Глава девятнадцатая. Царица русалок
Навь была… другой. Странной, чуждой. Маре не хватало в ней стылости и серебра, а вот зелени и золота здесь оказалось вдоволь. Затосковав по холоду под жарким, обжигающим даже солнцем, зиму она все же призвала. Та ступала за Марой тенью – серебристой только, не дымчатой и не угольно-черной. Ткала тончайшее кружево и сверкающей паутиной окутывала ветви, покрывала инеем изумрудную траву.
Те крупицы знаний, что получила Мара в Кащеевом граде, уверили ее: там, где находилось средоточие ее силы (где-то там, во владениях Карачуна), зелень не росла. Попросту не выживала. Однако к ней Мара быстро потеряла интерес. Как и к снующей тут и там нечисти – существам Нави.
Люди ей нужны были, а не… существа.
Впрочем, и те ей совсем не обрадовались. Провожали хмурыми взглядами, мрачно смотрели на оставленный Марой инеевый след – словно шлейф платья явьей невесты. Но именно они, сами того не зная, поведали царевне о старых ее знакомых. О живой девице и ее прикормыше. К людям те, шепталась нечисть, направлялись. В Чудь.
К людям, в Чудь, захотелось и Маре.
***
Лес будто не желал так легко отпускать Яснораду. Уже и кончился давно, сменился долиной, а мыслями она все еще была среди переплетения ветвей.
– Повезло мне, значит, что свою во мне признали, – задумчиво сказала Яснорада.
Глянула на руку, что еще недавно листьями колыхалась на ветру. Брови озадаченно взлетели – рука как рука. Живая, теплая, человеческая.
– Чары лесные? – неуверенно предположил Баюн.
Яснорада пожала плечами, а сама и сказать не могла бы, что чувствует. Вроде бы радоваться надо, что она не нечисть лесная. Вот только кто она тогда? У духов леса и дом был, и семья – самая что ни на есть настоящая. Красоты местные и быт отлаженный. Старшие, вроде Красии, за малышней приглядывают, Леший, как и положено отцу, главе семьи – за всеми ними. Древесницы деревья охраняют, Боли-бошка – ягоды, боровички – грибы. И уютно так все, размеренно – если забыть о коварстве нечисти, что путает следы и в чащу людей заманивает. Будь Яснорада лесавкой, осталась бы там, и корнем в землю навью вросла, как уже в чужую врастала.
Волшебный клубок из сундука Ягой, вместе с блюдцем последний ее подарок, катился вперед, по полям и по тропкам, держа путь к Чуди. Катился да остановился. Изумрудную гладь долины прорезала река – глубокая, с водой чистой, хрустальной. На берегу той реки сидели девицы. Баюн – или духи его – заприметил их издалека.
– Мавки, говорят, там, русалки да бродницы.
Ни о ком из них прежде Яснорада не слышала, и в книгах Ягой не читала. Неужто люди явьи вовсе не знали про Навь?
– Самые добрые, кроткие нравом из них – бродницы. Плавают они в тихих заводях, почти невидимые даже для навьих детей. Броды речные, как водится, охраняют. Открывают их тем, кого достойным сочтут, а от других прячут. Дружелюбен к ним будешь, попросишь о помощи – и тебя на другую сторону переведут. Если матушки за детьми своими не углядят, а те заиграются и к воде подойдут слишком близко, бродницы их от опасности уберегут. Нырнут поглубже да пошумнее вынырнут, чтобы детвору всплеском напугать. А если человек злой или враг навий в их воды ступит, они разрушат броды и заведут его в глубокие омуты.
– А мавки?
Странное что-то чудилось Яснораде в этом слове, тревожное.
– Те посуровей будут, понесговорчивее. И красивы они – так, что глаз не отвести. Волосы длинные, шелковистые, даром, что зеленые, кожа белая-белая, фигура статная, ладная. Заглядишься на них – защекочут до обморока, в воду утащат.
– Кого утащат? – испуганно спросила Яснорада.
– Красных молодцев, кого же еще! Резвятся в воде, играют, плещутся, соблазняют красотой своей, голосами ласковыми. А молодцы и рады соблазниться. – Баюн понизил голос. – Говорят, из некрещеных девочек, что в реках-озерах когда-то сгинули, мавки и получаются.
Наверное, совсем еще недавно сказанное привело бы Яснораду в ужас. Но она сидела с болотниками за одним столом и вместе с лесавками каталась на спине Лешего… Нечистью, что привыкла людям козни строить, ее уже не напугать.
– А русалки?
– Как и у мавок, у них любимая забава – завлечь бедолагу какого в омут, в царство свое заманить. Несчастные они, при жизни любовью обделенные. Вот и пытаются, став нечистью навьей, кусочек счастья у судьбы выманить. Вот и уносят красных молодцев в подводные жилища, где те оживают и русалочьими мужьями становятся. Роскошью и лаской окружают, в рот заглядывают, все желания исполняют. Кроме одного – вернуться к жизни былой, вырваться из царства речного.
Яснорада неодобрительно хмурилась.
– Выходит, ничем русалки не лучше мавок?
– Как знать, Яснорадушка. Русалки могут влюбиться в людей, а мавки с ними только играются…
Завидев чужаков, речные духи насторожились. Одна из русалок – та, что с рыбьим хвостом, улыбнулась, явив ряд мелких острых зубов. Сидящая рядом мавка с длинными, стройными ногами улыбки расточать не стала. Смотрела настороженно, пропуская сквозь тонкие пальцы опутанные водорослями волосы. Самые пугливые, стеснительные или нелюдимые попрятались еще до того, как Яснорада с Баюном достигли берега. На память о них остался только легкая дрожь водной глади. Может статься, это и были бродницы.
– Простите, – почтительно начала Яснорада. – Не хотим мы ни вас, ни дом ваш тревожить. Может, рядом есть мост какой?
Русалки с мавками вежливость не оценили. Одни молчали угрюмо, другие и вовсе отводили взгляд.
– Беда, – с досадой произнесла мавка. – Один воды боится, ни за что в глубину не утащишь…
– Не утащишь, – торопливо подтвердил Баюн.
– …а вторая – и вовсе девица!
Яснорада огорчение мавки не разделяла. Терпеливо вздохнула.
– Так подскажите путь к мосту или нам вброд реку переходить?
– А вы попробуйте его сначала отыскать, – хищно сказала русалка с мелкими зубками.
Баюна ее тон отчего-то заставил поежиться.
– А я бы помогла им, – раздался тихий голосок из воды, но, как ни вглядывалась Яснорада, увидела лишь свое отражение.
– Кыш, – шикнула на бродницу мавка. – И так развлечений мало. До Русалочьей недели далеко, до воробьиной ночи – и подавно. Дай хоть немного позабавиться.
Яснорада бросила Баюну вопросительный взгляд. Пока русалки спорили с мавками, как с чужаками поступить, Баюн прислушался к голосам и тихо поведал: в неделю ту, что в мире людей предшествовала дню Ивана Купала, русалки и мавки переходили из Нави в Явь. Поселялись в домах, в которых в прошлой жизни росли, на кладбищах, на перекрестках дорог… и даже – невидимые, конечно, – на деревьях. В прежние времена девицы для них танцевали, венки сплетенные в воду бросали, провожая русалок в родной мир. Ныне не осталось места для старинных обрядов. Незримые, позабытые, русалки наблюдали за чужим миром и уходили в свой по реке, что служила им дорогой.
А в воробьиную ночь русалки и мавки венчались с молодцами, которых затащили под воду, в царство свое завлекли.
– Пойдем, Баюн, – поежившись, сказала Яснорада. – Помощи от них все равно не дождешься. Сами брод найдем, а я на руках тебя нести буду.
– Иди, иди. Там, впереди, одни камыши. Никого там нет… кроме шишиги.
Яснорада устало вздохнула. Нечисть, видать, еще одна, камышовая.
– В какой, говоришь, она стороне? – невинно, будто между прочим, осведомился Баюн.
Мавка громко фыркнула вместо ответа.
Нечисть речная заспорила – открывать брод путникам или утащить их на дно. Шугнул их голос – царственный и громкий. И исходил он от русалки, что вынырнула из воды.
– Чего расшумелись? – осведомилась она недовольно.
Дерзкий взгляд, мокрые медные косы и мелькнувший на мгновение серебристый хвост…
– Настасья? – изумилась Яснорада.
Русалка перевела на нее взгляд и удивленно рассмеялась.
– Вот так встреча! Тебя тоже, что ль, Навь позвала?
– Можно сказать и так, – печально улыбнулась Яснорада.
Она без утайки рассказала все бывшей полянице и бывшей Полозовой невесте. А сама, пока рассказывала, дивилась. Выходит, любой житель мертвого города мог его покинуть, обратившись нечистью?
– Когда Навь звала тебя… ты знала, что станешь русалкой?
– Не знала, но, когда все случилось, не испугалась, – вскинула подбородок русалка.
Яснорада улыбнулась. Как будто Настасью можно испугать.
– Теперь старшая я здесь, реки царица. Хозяйствую, русалками заправляю.
И в этом, зная боевой характер Настасьи, тоже не было ничего удивительного.
– Хочешь взглянуть на мои владения? – Не дав ей ответить, царица русалок хрипло рассмеялась. – Конечно, хочешь! Где еще такое увидишь?
Баюн, собравшийся было вылизать шерсть, поймал взгляд Яснорады. На мгновение так и застыл с высунутым языком, а потом отчаянно замотал головой.
– Ни за что в воду не влезу, и не упрашивай. Я лучше здесь на бережку посижу, шерстку на солнце погрею.
– Рыбки ему наловите и на берег выбросьте, – велела Настасья. – И смотрите у меня – чтобы без проказ!
Мавки и русалки даже ворчать не решились. Мигом исчезли, взволновав речную гладь. Несколько нечистей навьих все же остались, тараща на чужаков любопытные глаза.
– Водяного, если увидишь, не бойся, – наставляла Настасья. – Ко всем он нам добр, всем нам здесь дедушка.
– Дай угадаю: хранитель он вод, как Леший – хранитель леса?
– Угадала. Тихий старичок, для многих и вовсе неприметный. Сидит себе на дне речном, знай, пасет стада рыбные – налимов, лещей и сомов.
– И рыбакам, небось, рыбу ловить помогает? А если чем-то его прогневали – то стада свои и спугнет.
– Быстро ты, я гляжу, разобралась в навьей жизни, – одобрительно рассмеялась Настасья.
Яснорада бросила взгляд на духов речных, что расчесывали свои длинные волосы и смотрели на нее глазами всех оттенков бирюзы.
– Выходит, они дочки Водяного?
Настасья печально улыбнулась.
– Стар он слишком, чтобы свой род продолжать. Стар и безразличен. Он ведь не то, что Леший – Водяного никому не убить. Как в воде растворится, если найдется достойный враг, так водой и вернется.
– Откуда тогда берутся русалки и бродницы? – нахмурилась Яснорада. – Не из воды же появляются?
– Из воды, да не только. Детям навьим плоть нужна, и Навь свое всегда получает. Если уродилась девица некрасивой, к реке уходила, и домой больше не возвращалась. В Яви нырнет человеком, а в Нави прекрасной мавкой вынырнет. Раньше так было, когда о мавках еще помнили, а сейчас… Кто бросается в воду от несчастной любви, а кого вода сама за собой уводит.
Стало совсем тихо. Только река журчала да русалки что-то напевали тихонько.
– Яснорадушка? – тревожно спросил Баюн, коснувшись лапой ее ладони.
– Я думала… – Она тряхнула головой, начала сначала. – Когда нечисть болотная и лесная говорила про людей – тех, кого они в трясину или в чащу леса завели… Я думала, они вели речь о людях Нави.
– Навья нечисть ни за что не обидит навьих детей, – покачала головой Настасья.
– Значит, она с Яви людей забирает… – Яснорада покусала губы, глядя вдаль пустым взглядом. – Люди не видят их – это я точно знаю. Ведать не ведают, но попадаются в их ловушки. То Леший в дремучий лес заведет, то русалка своей песней неслышимой в глубокий омут заманит, то болотник за ноги утащит в трясину. И тогда бедолаги появляются здесь… в Нави.
– Навь забирает их себе, – подтвердила Настасья.
– А что до тех, кто в Кащеевом граде живет? – медленно спросила Яснорада.
– Если стихия их, как меня, позовет, значит, уйдут они и будут принадлежать той стихии.
Яснорада не знала, что и думать. Она не была очарована Навью и прежде; красотами ее, лесами, лугами и долинами не обманывалась. Знала, как может быть опасна матушка-природа, особенно та, что взрастила, вскормила своим молоком нечисть. И все же слова Настасьи неприятно ее удивили.
Явь и Навь, выходит, связывал не только Калинов мост. Было и еще кое-что, и имя ему – стихия.
Яснорада бездумно шагнула вперед, опуская босые ступни в прозрачную студеную воду. Вскрикнула, когда от лодыжки наверх потекла серебристая вязь, покрывая кожу рыбьими чешуйками. Отпрыгнула назад, на берег, но чешуя никуда не делась. Поблескивала влажно, притягивая солнечные лучи и чужие взгляды.
– Ты ж гляди, – всплеснула руками одна из сестер Настасьи, – русалка!
«А до этого лесавкой была…»
И должна была Яснорада заподозрить, что последует дальше, да слишком глубоко в свои мысли ушла. Одна из мавок подскочила к ней и царапнула кожу повыше запястья. Яснорада ойкнула, а потом вздохнула, терпеливо ожидая, что мавка в ее венах разглядит.
– Кровь в ней, не вода, – разочарована протянула речная нечисть.
Баюн позволил себе засомневаться.
– Не вода же по венам у вас течет.
Мавка, кинув на него быстрый взгляд, провела ногтем – фиолетовым, будто от холода – по собственной коже. Кровь ее оказалась не алой, не багряной – призрачной, бледно-синей. На безупречной внешности мавок эта особенность никак не отразилась. Кожа речных духов была матово-белой, как у знатной дамы, что нежила тело в меду и молоке.
«Жди от нечисти одни обманы», – устало подумала Яснорада.
Настасья задумчиво кусала губы. Такой тихой Яснорада видела ее, пожалуй, впервые. Обычно у бывшей невесты Полоза находились ответы на все вопросы, да и долго думать она не привыкла – неудержимая, словно молния или быстроногий скакун, тут же бросалась в бой. Рьяно доказывала правоту, не допуская и тени сомнений, что могла оказаться неправа.
Но теперь она молчала, глядя на покрывшую тело Яснорады рыбью чешую.
– Поспрашиваю я у цариц русалок из других заводей, – наконец сказала она. – Может, что и подскажут. А сейчас идем! Будешь в моем царстве желанной гостьей.
Яснорада кивнула. Отвлечься от мыслей, что с каждым проведенным в Нави днем стучались в голову все настойчивее, ей бы не помешало. Она зашла в воду, и ноги тут же защекотало, а затем закололо крохотными иголочками – от пальцев до бедер они покрывались чешуей.
Стоило по макушку погрузиться в воду, что-то на шее лопнуло и раскрылось. В легкие ворвался воздух, которого здесь и вовсе быть не могло. Но грудь Яснорады вздымалась, она дышала, растерянно поводя вокруг себя рукой. За другую ее ухватила Настасья. Рассмеялась – вверх взлетели прозрачные пузырьки, – когда увидела некую в ней перемену, и повела за собой на глубину.
На дне реки стоял русалочий дворец. Со стенами тонкими, полупрозрачными, он казался сотворенным из застывшей толщи воды, из хрупкой ледовой глазури. Будто лианы – руины, что покоились в явьих джунглях, стены оплетали речные водоросли. Вслед за Настасьей Яснорада блуждала – плыла – по широким залам. Прогулка закончилась в разбитом у дворцовых стен водорослевом саду.
– У морских цариц дворец так дворец! Кристальный, выточенный из рифов. Мой поскромнее будет…
– Все равно красивый, – искренне сказала Яснорада, уже не удивляясь, что наравне с русалкой может говорить под водой. – Как тебе живется здесь?
– Уж точно не хуже, чем в царстве Кащея. – Настасья поморщилась. – Река, что б ты знала, все тот же город. Есть речные дороги, есть теплые, прогретые солнцем заводи, где мы любим нежиться на солнце, есть глубокие омуты, где стоят наши дворцы. Мы, как сухопутные странницы, блуждаем по перекатам, порогам, протокам и отмелям. Пейзажами любуемся – вода тоже может быть разной. Но здесь я предоставлена самой себе. Здесь я свободна.
– И здесь ты начальствуешь над речными духами…
– Вместо того, чтобы быть ряженой куклой Мораны, – подхватила Настасья. – Да. Здесь мои сестры. Такие, какие есть. Бывают хорошими, бывают плохими, но маску добродетельности на себя не натягивают. Не строят козни друг другу, потому что мы – семья. Пусть и чудная для кого-то.
– Поэтому козни вы строите только людям, – пробормотала под нос Яснорада.
Настасья все же услышала. Но не обиделась – рассмеялась.
– Поначалу сложно это принять, я знаю. Но таков закон. Закон Рода, что стал отцом для всех нас, закон матушки-земли…
«Закон мироздания», – продолжила за нее Яснорада.
– Те, кого мы утягиваем за собой… они ведь не исчезают. Просто уходят из Яви и приходят в Навь.
– Оставляя свой дом и свою семью, оставляя все, что им было дорого…
– …что случилось бы все равно. Рано или поздно.
Они молчали, плавными движениями рук помогая себе удержаться на плаву. Рядом проплывала речная нечисть, удостаивая Яснораду разве что мимолетным взглядом, будто она казалась им своей, а значит, была для них неприметной. Вдалеке синекожий старичок прикрикивал на косяк рыб, чтобы не расплывались в разные стороны.
– Мне пора возвращаться, – глухо сказала Яснорада. Чувства и мысли терзали ее на части, но она не сочла это поводом забыть о хорошем тоне. – Спасибо, что показала мне свой дворец, но Баюн меня уже заждался.
– Я понимаю, – сдержанно кивнула Настасья.
Они выплыли на берег, на котором Баюна – разумеется – уже гладили чужие руки. С этих рук на кошачье пузо капала речная вода, но такие мелочи его, похоже, не волновали.
– Коты редко подходят близко к воде, – будто извиняясь, сказала юная русалка.
Почесывая Баюну подбородок, от восторга высунула кончик синего языка.
Яснорада в задумчивости взглянула на Настасью.
– Могу я попросить тебя сделать мне подарок? – смущенно потерев переносицу, спросила она.
– Все, что захочешь, – с готовностью отозвалась царица русалок.
– Я могу собрать гальку, но выточить в ней отверстие для шнурка не сумею…
– Моя вода выточит. Сестры?
Мавки с русалками скрылись с камешками под водой – выполнять не озвученный приказ царицы. Остались лишь те, кому все не хотелось выпускать кота из рук.
Речные духи вернулись очень скоро. Одна из них несла в руках целый браслет из камней, нанизанных на нить из свитых в крепкий жгут водорослей.
– Ох, спасибо, – совсем засмущалась Яснорада.
– Навести меня как-нибудь, – обронила Настасья. – Новости о жизни заречной, навьей, расскажешь. И я, может, тебя чем порадовать смогу.
– Навещу. – Помолчав, она сказала от всего сердца: – Ты будешь хорошей речной царицей.
– А ты найдешь свою дорогу.
И Яснорада вместе с довольным Баюном отправилась ее искать.