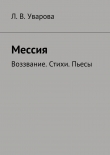Текст книги "Явье сердце, навья душа (СИ)"
Автор книги: Марго Арнелл
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Глава тридцать пятая. Птицы острова Буяна
По телу Финиста разливалось тепло, которое мягко обволакивало его и притупляло боль. До одури хотелось спать – до тех пор, пока острыми осколками в голову не вонзились воспоминания.
Окно. Воткнутые в соколиное тело лезвия. Морана…
Он едва сумел поднять отяжелевшие веки. Зрение прояснилось не сразу. Долгое время взгляд блуждал по размытому, как тракт после дождя, пространству. Наконец Финист разглядел склонившуюся над ним красавицу с длинной косой.
Жаль, это была не Марья.
– Где я? – простонал он.
Только сейчас понял, что был человеком, не соколом.
– На острове Буяне. Птица Могол тебя принесла, что охраняет границы Навьего царства.
Финист не знал, что такое Навь, никогда не слышал ни о Могол, ни о Буяне. Голова разрывалась от вопросов, но язык едва-едва ворочался. Он поморгал и увидел голубое небо над головой… и красивых беловолосых девушек, которые окружили его стайкой.
– Лебединые девы мы, – улыбнулась одна из них. – Не бойся нас, худого тебе не сделаем.
Они отпоили Финиста какими-то травами, и в голове окончательно прояснилось. Он даже сумел подняться и неловко сесть. Жаль боль, хоть и немного притихла, но никуда не ушла – вгрызалась в тело затупившимися зубами.
– Чары темные на тебе, незнакомые, – сокрушенно сказала дева-лебедь. – Что-то было на тех ножах, что тебя искололи. Как бы мы ни старались, не затягиваются раны. Черное что-то пронзило тебя насквозь.
– Это магия Мораны, – хрипло сказал Финист, надеясь, что это имя им знакомо.
Девы-лебеди отшатнулись, все как одна – с ужасом, отпечатавшимся на ангельских лицах. Самая младшая и вовсе отпрыгнула в сторону, будто боясь подхватить от него неведомую заразу.
– Несите его к Царевне Лебедь, – велела хлопотавшая над ним красавица. – Если кто и знает, как ему помочь, так это она.
– Не надо… меня… нести, – заупрямился Финист. – Сам пойду, не калека.
Девы-лебеди его не послушались. Самые смелые подлетели к нему, на бегу оборачиваясь белыми лебедушками. Схватили большими желто-красными клювами за волосы и рубаху и понесли вперед.
Только сейчас Финист увидел море, что плескалось совсем рядом – загадочная птица Могол бросила его прямо на берегу. Сам остров поражал своей красотой. Земли совсем не видно – куда ни взгляни, лишь одна зелень. Между высокими теремами из светлых бревен раскинулись прекрасные сады. По ним прохаживались девушки, по красоте не уступающие цветам по обеим сторонам от выложенных камнями дорожек. Воздух был необычайно чист – чище, чем в высоте, в которой прежде парил Финист, и пах так сладко!
Он ахнул, когда увидел высокий хрустальный терем и замерших вдоль стен богатырей. Три десятка их было, не меньше! Стая лебедей донесла Финиста до прозрачных палат, что по роскоши и по узорам на стенах так походили на палаты Полозовых невест. Серебра в них только не было. И уже внутри птичья стая распалась на дюжину девиц, прячущих смешки в ладони.
«Стыд-то какой, – сконфуженно подумал Финист. – Девушки меня несли».
Но все-таки девы-лебеди не были простыми девицами. Чтобы это понять, хватало одного брошенного на них взгляда. Достаточно было одной их красоты – неземной красоты, нечеловеческой.
«Марья моя тоже прекрасна, пускай и по-другому», – подумал Финист с тоской.
Ее совсем не идеальное, простоватое, но милое личико было ему куда дороже.
На хрустальном троне восседала еще одна беловолосая красавица. Статная, величавая, с царственным, полным спокойного достоинства взглядом. Лебединые девы защебетали, торопясь рассказать ей, как нашли на берегу чужака. Раненого сокола, которой обернулся человеком, и которого коснулась темная, злая рука.
– Морана… – задумчиво повторила Царевна Лебедь. – Ненавидит она род наш, а все потому, что ее, бесповоротно мертвую, злоба с завистью душат.
– Мертвую?
– В нас, лебединых девах, навья сущность, в людях Нави – человеческая. А Морана пуста. Выморозила она свою душу, променяла на магию, на великую силу, на право владеть мертвым городом.
Голова Финиста снова разболелась. Царевна Лебедь внимательней взглянула на него.
– Брат ты наш, пускай и не по крови. Как и мы, крылатый ты. Оставайся на острове Буяне. Будешь по садам моим бродить, с девами-лебедушками в небе летать, жить в тереме. А рядом с тобой на острове будет жить птица-буря, пчелы-молнии и громоносный змей. Подобного во всей Нави ты не увидишь.
– А что же с ранами его? – пискнула стоящая рядом юная лебединая дева.
На вопрос царевна ответила, хоть и по-прежнему обращалась к Финисту:
– Остров наш питает особая сила. Раны твои она со временем исцелит, темную магию из них изгонит.
– Спасибо за ваше гостеприимство, но не могу я ждать, – вздохнул он. – И остаться не могу тоже. Мне нужно как можно скорей найти способ вернуться в Кащеев град. Хоть одним глазком взглянуть на Марью.
– Не вернешься ты в Сороковое царство, сокол, не вернешься. Морана с помощью слуг и чар своих о твоем возвращении тут же прознает.
Финист нахмурился. Но что-то крепкое в нем, что звалось упрямством, уже пустило корни.
– Марья никогда не сдалась бы. И я не сдамся.
Царевна Лебедь улыбнулась, отчего стала еще краше.
– А я хотела тебя за одну из девиц своих лебедушек, сестриц младших, выдать. Секрет раскрыть: коли сорочку лебедушки украдешь, навеки она твоей станет.
Финист стушевался.
– Спасибо за оказанную честь. Но если я и женюсь когда… не сейчас, но когда-нибудь… так только на Марье.
Еще совсем недавно эти мысли его пугали. А в разлуке он понял – только Марья ему и нужна.
– Любишь ее?
– Люблю, – твердо сказал Финист.
Смутился – он говорил это впервые. Жаль только, не самой Марье.
– Твоя взяла, – улыбнулась Царевна Лебедь. – Есть на этом свете волшебное создание, которое способно тебе помочь, и зовется оно жар-птицей. Светом перьев своих прогонит она пронизавшую твое тело черную колдовскую сущность, вытравит магию Мораны.
– Если это поможет спрятаться от ее всевидящего ока и вернуться к Марьюшке, я готов отправиться за жар-птицей хоть на край земли!
Царевна Лебедь рассмеялась.
– Помогу я тебе. Укажу к ней дорогу…
– Не торопись, сестрица, – раздался с порога холодный голос.
У девушки, что застыла там, было бледное, узкое лицо и распущенные черные волосы, которые развевались за спиной шелковым плащом.
– Обида, – спокойная, будто река, сказала Царевна Лебедь. – Уж точно не меня ты навестить прилетела. По Мораниным следам пришла, по зароненным ею черным зернам?
Финист сглотнул. Не хотелось ему до конца жизни оставаться живым маяком для Мораны и ее прихвостней.
– Уж точно не для того пришла, чтобы сестрицу проведать, – осклабилась Обида.
– Зачем Финист тебе понадобился?
Обида пожала хрупкими плечами.
– Если Морана будет так легко врагов своих отпускать, нечисть никогда не оставит ее в покое. Еще надумает вернуться, тревожить покой ее горожан.
– Конечно, – качая головой, отозвалась Царевна Лебедь. – Моране нужно, чтобы все оставалось по-старому, чтобы ее подданные о воле и бескрайних просторах Нави мечтать и не смели.
Обида спорить не стала. Обронила, подавшись вперед:
– Отдай сокола.
– Не отдам.
Горестно вздохнув, Обида расправила руки – в белой коже проклюнулись черные шипы. Они распускались на глазах, становясь перьями. Обида взмахнула крыльями и окончательно перевоплотилась в черного лебедя. Царевна стала лебедем белым.
Они схлестнулись на лету, крылья замолотили по воздуху и друг по другу. Их оперения смешались, слились, и на мгновение показалось, будто в хрустальном тереме ярится одна огромная черно-белая птица.
Лебединые девы в разыгравшуюся схватку не вмешивались, но Финисту отчего-то казалось, что их царевна победит. Так и вышло. Понимая, что проигрывает, раненая черная лебедь бросилась вон из терема. На память о ней остались лишь перья, усыпавшие хрустальный пол.
Белая лебедь обернулась девицей – бледной, изможденной, но, похоже, не раненой.
– Тебе нужно избавиться от яда Мораны, что проник под твою кожу. Иначе где бы ты не был, она всюду тебя найдет.
Финист в очередной раз поблагодарил Царевну Лебедь за помощь ему и за свое спасение. И вместе с ней отправился искать жар-птицу.
Царевна Лебедь и девицы-лебедушки подхватили Финиста и принесли прямиком к входу в необыкновенный сад. Перед его красотой меркли даже сады в лебедином царстве. Невозможно представить, что один уголок земли мог вместить в себя столько красок. Кусты пестрели цветами с сиреневыми, фиолетовыми и лазуревыми лепестками. Ветви изумрудных деревьев гнулись к земле от веса золотистых, сверкающих как само солнце, плодов. На ветках сидели райские птицы с оперением из золота и драгоценных камней. Звенели хрустальные ручьи, а от рек пахло молоком и медом.
– Ирием он зовется, – улыбнулась Царевна Лебедь, с насмешливыми искорками в глазах наблюдая, с каким восхищением озирается по сторонам Финист. – Дальше я не пойду – без надобности появляться там не велено. А ты иди.
Финист расслышал в ее словах неявное предупреждение. Не все так просто было с этим садом. Белая лебедь подтвердила его опасения:
– И помни, сокол ясный, не так легко смертным даются блага Ирия…
Больше Царевна Лебедь ничего не сказала. Лишь пожелала со смешком: «Ни пуха, ни пера». И, оборотившись лебедицей, улетела.
Финист, застыв у входа в Ирий, поежился и сделал первый шаг.
Петляющая меж цветочных кустов тропинка привела к дереву с густой изумрудной кроной. На ветвях сидела дева-птица: женская голова, покрытое светлым опереньем птичье тело и лапы вместо ног и рук. Она пела, прикрыв глаза, и голос ее был так сладок…
Финист сначала замедлил шаг, а потом, заслушавшись, и вовсе остановился. Он не знал, как долго стоял под ветвями, которые мерно шумели, будто танцуя на ветру. И зачем он так торопился куда-то? Здесь так хорошо…
А разве он вообще куда-то шел?
Финист пристроился в тени раскидистого дерева и блаженно прикрыл глаза. Его переполняла неописуемая радость – от того, что может просто сидеть здесь, в прохладных тенях, чувствовать исходящий от золотых плодов аромат и слышать сладкий нежный голос. Мелодия, которую ткала прекрасная девушка-птица, будто качала его на невидимых волнах. Разум обволакивала мягкая пелена, скрывая под собой надоедливо мелькающие образы и мысли. Один только, на редкость упрямый, никак не желал уходить. Это был образ девушки с дерзкими глазами и вздернутым подбородком. Упрямицы с боевым нравом и добрым сердцем…
«Марья!»
Она где-то там, томится в мертвом царстве Мораны. Как же тоскливо, должно быть, ей сейчас, без него!
Финист вскочил на ноги. Песня, что лилась из рубинового рта, не оборвалась, и голову снова наполняло вязким туманом. Он бросился прочь от сладкоголосой девушки-птицы, пока ее голос совсем не затих.
Он долго шел, не позволяя себе остановится. Только раз, ощутив жажду, позволил себе зачерпнуть из молочно-медовой реки. Рядом прозвучал новый голос, но у той девы-птицы оперенье было черным – как и спускающаяся до самых птичих лап коса. И такой от птицы веяло печалью!
Финисту стало все противно. И слабость, охватившая все его тело, и ноги, которые, задрожав, его больше не держали. И то, что он, простой, как сказала Царевна Лебедь, смертный, позарился на блага Ирия. Да как смел он своим присутствием извращать это святое место? С чего он решил, что жар-птица ему поможет? И собственная слабость – духа, воли – стала Финисту противна. Он шмыгнул носом, опускаясь на теплый песок – берег молочно-медовой речки. Мир вокруг будто потускнел. Само солнце, казалось, потускнело.
Не ждет его ничего там, за пределами Ирия. Не будет лучшей судьбы, чем сидеть и смотреть на воду в ожидании справедливого конца. Сидеть, пока душа его не истлеет и пока не истлеет хрупкая, словно пергамент, оболочка для его души.
Но в отражении привиделся ему чей-то образ. Эхо образа даже – одна только улыбка. Ясная, светлая, согревающая – сильнее, чем солнечные лучи.
«Марьюшка… Марьюшка меня ждет!»
Финист вскочил на ноги в холодном поту, сам едва веря, что собирался сидеть тут до скончания жизни. Бросился дальше, вдоль берега, в цветущий сад.
У третьей птицы, что поджидала его на ветвях, было миловидное лицо, большие мудрые глаза и разноцветное, яркое оперение. Она запела, не успел Финист зажать ладонями уши. Пела на своем языке, и вместе с тем он почти воочию видел, как открывается перед ним занавеска – краешек самого мироздания. А за краешком этим – непознанное. Отчего-то он знал, что дева-птица поет о неведомых землях, лежащих за пределами Ирия, о тянущихся вдаль бесконечных просторах. Разве не хотел Финист узнать тайны волшебных долин, царств серебряных, золотых и медных? Разве не хотел, чтобы мудрая птица Гамаюн нашептала ему на ухо сокровенные знания?
Окрепшие ноги сами понесли его назад – прочь от Ирия, вперед, к неведомым краям! А дева-птица кружила рядом и все пела о тайнах мироздания…
Финист резко остановился, с какой-то отчетливостью поняв: о том, как спасти Марьюшку, как изгнать тьму Мораны из своей души, она ему не расскажет.
Дева-птица замолкла и, разочарованно взмахнув крылом, упорхнула.
Наконец Финист добрался до самой сердцевины сада. Застыл как изваяние, пораженный небесной красотой девушки, что прогуливалась по нему. Волосы ее доходили до бедер и так сияли в лучах полуденного солнца, что хотелось прикрыть глаза рукой, чтобы не ослепнуть. Глаза лазуревые, будто само небо, губы алые, будто спелые яблоки. А когда она заговорила, голос ее оказался сладок, как мед. К счастью, она не пела.
– А ты упрямый. Ни Алканост не смогла увлечь тебя, ни Сирин, ни Гамаюн. Зачем пришел ко мне в Ирий? Чего хочешь?
– Царица Морана заронила зерна темной магии в мою душу. Я должен ее исцелить. Моя любимая, Марьюшка, заточена в мертвом царстве. Я должен ее спасти. Но мне не сделать этого, пока за мной по следу идут слуги Мораны.
Жар-птица будто призадумалась.
– Перо мое исцелит твою душу. Но что, если вместо пера я подарю тебе молодильные яблоки из моего сада? Вечность тебе подарю и здесь, в саду райском, оставлю? Чую, нравятся тебе птицы, а их тысячи здесь. Хрустальные, радужные, серебряные и золотые…
Что-то екнуло внутри, но Финист покачал головой.
– Не нужна мне вечная молодость, если ее не с кем будет разделить. Разве что с прекрасными райскими птицами. Не нужна мне вечность, если я потрачу ее на сожаления о том, что когда-то отказался от счастья.
– А что для тебя счастье? – напевно спросила жар-птица.
Финист выдохнул:
– Марья.
Жар-птица улыбнулась.
– Верен ты сердцу своему, и светла душа твоя, раз Ирий тебя впустил. А значит, так тому и быть. Исполню я твою просьбу.
Она обратилась в прекрасную птицу – краше всех тех, что Финисту уже довелось встретить. Волосы стали золотым оперением, и жар-птица сияла так сильно, что болели глаза, и все же не смотреть он не мог. Крылья – языки пламени, распустившийся хвост – изумительной красоты огненно-золотой веер.
Стало жаль портить такую красоту, совершать такое кощунство – вырывать даже одно, самое крохотное перо. Он порывался остановить жар-птицу, но не успел. Золото-красное перо упало на землю.
Финист поднял его, сжал в ладонях. Обжегся исходящим от пера жаром, но, стиснув зубы и проглотив стон, вытерпел, не отпустил. По рукам вверх потянулись искрящиеся золотые нити. На миг его бросило в жар, с ног до головы, будто что-то холодное в нем, уже почти пустившее корни, ушло, исчезло. Потом все прошло, и внутри стало легко и пусто. Он разжал ладони, и то, что осталось от пера, упало на землю золотистыми искорками.
Финист горячо поблагодарил жар-птицу. Однако когда прощался с ней, вдруг показалось, что прощается не навсегда.
А за пределами Ирия, будто оживший сон, его поджидала… Марья. Стояла, глядя на него и загадочно улыбаясь. И во всем мире не было никого прекрасней. Огненная красота жар-птицы, снежно-белая красота лебедушек не могла сравниться с теплой, родной, милой сердцу Марьиной красотой.
– Марья! – выдохнул Финист, заключая ее в объятья. С неохотой отстранился, глядя на нее во все глаза. – Но как ты… Как же так?
– Думал, будешь спасать меня из когтей Мораны, а я буду терпеливо тебя ждать? – уперев руки в бока, расхохоталась Марья. – Ну уж нет! Три пары сапог железных я стоптала, три чугунных посоха изломала, съела три каменных хлеба, но тебя все-таки нашла.
Он улыбался во весь рот, чувствуя себя влюбленным донельзя. И неприлично счастливым.
– Будешь женой моей, Марья?
Она рассмеялась, глядя на него.
– Молод ты, сокол мой, и я молода. Но когда-нибудь обязательно буду!
Глава тридцать шестая. Алатырь, отец всех камней
Не оставила их в покое Морана.
И, казалось бы, Мару, свою дочь и творение, сама прогнала, и изгнания Яснорады на суде добивалась, и вместо души Богдана душу Матвея забрала, а все равно была недовольна. О том, что царица мертвых идет за ними по пятам, сказал Баюн. Перед тем сидел он тихо-тихо – к голосам навьим прислушивался.
– Помнишь, Яснорадушка, я говорил о том, что навьи создания – они как люди?
– Что и плохими, и хорошими могут быть? – отозвалась она. – Конечно помню.
Баюн тяжело вздохнул – грудка с белым пятнышком поднялась и опала.
– Не только я духов слушаю, но и они меня. Нас. Кто-то из них Моране о намерениях нашил и поведал.
– О Матвее и живой воде? – проглотив острый ком в горле, выдавила Яснорада.
Баюн вместо кивка опустил голову. Извинялся будто за предавших его духов.
– Ох, царице это точно не понравится… И что теперь будет?
Долго гадать не пришлось.
Ночь готовилась накрыть остров Буян темным пологом, но прежде краску расплескала по небу – багряную и золотую. На Яснораду вдруг дохнуло холодом. Шерсть Баюна встала дыбом. И Мара, идущая вперед, за клубком, что-то почувствовала и остановилась.
Морана пришла на Буян, верно, по проложенным ею тропам – подобным тем, что Мара открывала в Явь. Но ей здесь будто было… нехорошо. Будто в одном ее присутствии здесь было что-то неправильное. Бледной царица казалась и даже хрупкой. Черты лица стали резче, скулы очертились сильней, под глазами залегли тени. А может, это закат играл с разумом Яснорады.
Баюн встал на задние лапы, вытянувшись во весь свой – далеко уже не маленький – рост. Загородил собой Яснораду. Мара стояла подле нее и во все глаза глядела на мать.
– Вздумали душу у меня отобрать, – прошипела Морана. – Проклятая навья нечисть…
И смотрела зло. Страшно смотрела.
Баюн выпустил когти железные. Издав рык, достойный дикого зверя, бросился на Морану. Но добраться до нее не успел. Пространство вокруг замело, завьюжило. Их ослепило падающим с небес снегом – тающим, как только он касался навьей земли. И вьюга та была странной. Из Яснорады словно жилы тянули, словно пили из нее саму жизнь.
Но не обманы насылала на них Морана. То была сама смерть.
Яснорада потеряла Баюна в этой чуждой, противоестественной вьюге. И сама потерялась. Грудь сдавило, глаза застило темной пеленой. Но Яснорада все же увидела Мару, что встала прямо перед ней. До того изумилась, что смогла удержаться на краю перед бездной, которая стремительно приближалась.
И Морана была изумлена. Настолько, что вьюжить перестала.
Взгляд Яснорады прояснился, и она увидела распростертого на земле Баюна. Бросилась к нему, упала на колени рядом. Прижала пушистое тельце к груди. Сердце Баюна медленно, но все-таки билось. Баюкая кота, шепча мольбы Роду и Матери Сырой Земле, Яснорада вскинула голову. Вперила в Морану взгляд, пылающий яростью, которой прежде не знала.
– Что ты творишь, Мара? – прошипела царица. – Я – твоя создательница. Твоя родная мать.
– А раньше, помниться, моей матерью ты себя не называла, – медленно проронила та. – Изгнала меня из царства родного, отвернулась от меня, как только я стала тебе неугодна, как только тебя подвела. Разве истинные матери так поступают?
– Да что ты знаешь о людях и созданиях?
Морана начала было хохотать – фальшиво и не сводя при том взгляда с царевны. Будто и впрямь боялась собственную дочь.
– Много знаю, – отрезала Мара. – Теперь. Отступись, Морана.
– Зачем ты их защищаешь?
Царевна тряхнула белыми волосами.
– Они – мои друзья.
И снова изумление оставило на лице Мораны отчетливую печать.
– Плохо все ж ты знаешь людей, если думаешь, что я готова отступиться.
Мара склонила голову набок.
– Пусть будет так.
Она раскинула руки. Кожу оплели ленты инея, складываясь в кружево. Силу, что жила внутри, родную душе стихию призывала Мара. У ног царевны завилась поземка…
И больше ничего не случилось.
Откинув голову назад, Морана расхохоталась. И на сей раз – громко, искренне. Но смеялась она недолго. Глаза сощурились, лицо исказила гримаса.
– Что ты с силой сделала, которую я тебе дала? Которую в тебя вложила?
Мара молчала – бледная в свете взошедшей луны, униженная. И пусть не вышло у царевны восстать против своей создательницы, она выиграла у судьбы драгоценные мгновения.
Яснорада бережно опустила Баюна на землю и пальцами в нее же, еще не остывшую, зарылась. Сапожки скинула, оставшись босиком. И снова опустилась на колени.
Она чувствовала, как руки ее превращаются в корни – сильные, крепкие, словно молоденькие березки. Корнями Яснорада обвивала Морану – клетку для нее сплетала. Царица ринулась было в просвет – не по нраву ей пришлась воплощенная в дереве навья сила. Однако на пути ее встал терновник, в которые пальцы Яснорады превратились. Каждый из десяти вытянулся и ощетинился тонкими, острыми шипами.
И снова вокруг закружило, завьюжило. Заполонило все снежной порошей. Вот только сила Мораны была опасна для человеческой сути Яснорады. Навья же стала деревом, которому никакая зима не страшна. Только листья, что проклюнулись сами собой, опали на засыпанную снегом землю. А клетка осталась.
Морана, страшно взвыв, попыталась ее расцарапать. Чары свои, смерть несущие, призвала, чтобы заставить дерево сгнить и усохнуть. Тогда Яснорада пустила свои корни дальше. Через поры земли дотянулась до рек. Соткала на руке – корне – русалочью чешую, и обернула ею прутья клетки. Стала та не железной, но серебряной. До болот дотянулась и тиной и водорослями клетку оплела. Коснулась леса, и прутья травяным ядом умастила.
Никогда прежде Яснорада не чувствовала свою стихию так остро, никогда не ощущала под кожей такую силу… Да и не под кожей вовсе – под корой. Она знала, что может больше. Она может впитать в себя всю навью стихию, сплести в тугой жгут, что хлещет не слабее плети, что рассечет плоть Мораны до самой мертвой кости.
Но как бы ни была коварна царица, пускай стояла у них на пути, причинять ей боль Яснорада не желала. Не для того она была рождена.
А потому вырвавшаяся наружу и обретшая форму стихия была призвана лишь удержать Морану на расстоянии. Выпить из нее силы. И заставить уйти.
Так оно и случилось.
Яснорада не знала, сколько минуло времени. Как долго она жила расщепленной на части навьей сутью – тиной и водорослями, рыбьей чешуей и, конечно, деревом. Глаза ее не видели – у нее и вовсе не было глаз. Не было и ушей, а с ними – слуха. Но слова Баюна Яснорада почувствовала сердцем. И в тот же миг открыла проклюнувшиеся в древесной плоти глаза.
– Яснорадушка, – всхлипнул Баюн.
Не плакал, конечно – коты не плачут. Но ему словно недоставало воздуха. Он кружил вокруг, а стоило поднять голову и слабо улыбнуться, прильнул к Яснораде. Его мурчание раздавалось на всю округу, словно маленький гром.
– М-морана? – выдавила Яснорада, оглядывая себя.
Руки как руки, ноги как ноги. Ни корней, ни чешуи, ни тины.
– В Кащеево царство вернулась, – глухо сказала Мара. – Но случившееся она забудет нескоро.
– Еще бы, – расфыркался Баюн, с восторгом глядя на Яснораду. – Я как очнулся, как тебя увидел, не поверил своим глазам! Самой влыдычице царства мертвого ты противостояла!
– Жаль только, я ничем помочь не смогла, – прошелестела Мара.
Яснорада поднялась, о плечо кота опираясь.
– Но ты хотела. И я это ценю.
Мара покачала головой.
– Сила во мне… Она словно иссякла.
– Проснувшаяся в тебе человечность, верно, ее вытеснила, – задумчиво сказал Баюн. – Значит, изменилась твоя собственная суть.
– Значит, я теперь не знаю, кто я, – прошептала Мара.
Яснорада шагнула к ней на нетвердых ногах, мягко взяла за плечи.
– Перемены пугают, я знаю. Неизвестность – тоже. Но все эти перемены в тебе – от тебя. Морана вложила в твою душу, твою суть выученную безупречность, но чувствовать, дружить и сострадать научилась ты сама. Ты сама изменила свою природу. И всегда была вольна выбирать свой собственный путь. Подумай только… Ты больше не привязана ни к царству мертвому, ни к Моране, ни к зиме. Перед тобой теперь столько дорог – выбирай любую!
Мара помедлила. Вдумчиво кивнула.
– Хорошо. Но сначала… Эту с вами до конца пройду.
Ведомые волшебным клубком из сундука Ягой и голосами навьих духов, ожившая зима, говорящий кот и невоплощенная стихия добрались до сердца острова Буяна. Там, со всех сторон окруженный ручьями, словно сам по себе маленький остров, стоял Алатырь, бел-горюч камень, отец всех камней. Стремящийся ввысь исполинский алтарь с выточенными на нем узорами и символами. Яснорада смотрела на них, будто завороженая, но прочесть, разгадать письмена не могла, как ни старалась.
За Алатырем, шептали навьи духи, находились врата в Ирий – невиданной красоты райский сад. Яснорада и впрямь видела в отдалении золотые кованые ворота, изящные, будто кружево из металла. И чувствовала, знала, что они не откроются для нее, для них. Не сейчас. По-видимому, знала это и девушка, что застыла перед вратами райского сада. Впрочем, находиться долго без движения она не могла. Русоволосая, миловидная, прохаживалась туда-сюда легким пружинистым шагом. На них едва взглянула и тут же потеряла интерес.
Яснорада поклонилась Алатырю: не просто камню – центру мироздания. У его подножья тек живой источник. Благоговея, она опустилась на колени, набрала в заготовленный кувшин прохладной, чистой живой воды.
Стоило выпрямиться, как таинственные знаки на Алатыре загорелись. Они манили ее, звали к ним прикоснуться.
– Веснушка?
Она вздрогнула, заслышав голос Богдана, и будто бы очнулась. Пока она набирала воду, Мара открыла тропу в Явь. Сама она стояла в отдалении, казалось, ко всему безучастная. Но мнимым равнодушием на лице царевны Яснорада больше не обманывалась. Не равнодушие это – сдержанность, лишь одна из сторон Мары, самая… поверхностная.
Гость из другого мира, Богдан очарованно смотрел на живую воду, как она мгновения назад – на загадочные знаки Алатыря.
– Это… она? Она исцелит Матвея? То есть… вернет его к жизни?
– Должна. Осталось только его найти.
Кащеев град не мал, но Ягая обязательно поможет.
– Говорят, Алатырь желания исполняет самые сокровенные, – мурлыкнул Баюн.
Яснорада просияла.
– Это значит, я могу попросить его вернуть Матвея! И тревожиться не станем, поможет ли ему живая вода!
– А Алатырь может исполнять желания людей из Яви? – дрогнувшим вдруг голосом спросил Богдан.
Баюн, вздохнув, покачал головой.
– Не принадлежишь ты Нави.
– Странно… – медленно произнес Богдан. – Потому что мое желание Алатырь исполнил. Одно из них, но…
Изумленная, Яснорада проследила за его взглядом.
Уже виденную ею русоволосую незнакомку обнимал… Матвей. Золотые ворота за его спиной медленно закрывались.
«Быть не может, – мелькнуло в голове. – Сам нашелся!»
Подозрительно сощурившись, Яснорада взглянула на Алатырь.
– На перекрестке стоит он, – негромко и певуче сказал Баюн, – где сходятся все пути, все судьбы.
– Вот и наши сошлись…
Они не без робости подошли к целующейся паре. Богдан шел за Марой, как ее тень, привязанная на короткий миг к Нави.
– Матвей? – позвал он.
Голос снова дрогнул.
Рыжеволосый расплел объятья, взглянул удивленно. Улыбка не сходила с его лица.
– Ошиблись вы, – бросил он беззаботно.
– Финист он, – рассмеявшись, вторила девушка.
Яснорада сжала руки в кулаки в немой безотчетной ярости. Забрала Морана его имя, воспоминания забрала.
Злость растаяла, когда за ухом Финиста она увидела соколиное перышко.
– Он птицей наполовину стал, – сказал Баюн, заставив оторопеть и ее, и Богдана.
– Соколом, – гордо подтвердил Матвей.
Яснорада рассмеялась, покачав головой. Пригодилась ему, значит, ее сила.
Матвей звонко поцеловал русоволосую девушку в щеку и они, обнявшись, пошли прочь. От золотых ворот, от райского сада, от отца всех камней Алатыря.
И от бледного, взволнованного Богдана.
– Марьюшка… – донеслось до них задумчивое. – Ты не думала… Не хочешь остаться на острове Буяне? Тут столько прекрасных мест и столько чудных птиц…
Яснорада не услышала ответа – лишь увидела, как Марьюшка теснее прижалась к плечу своего ненаглядного. Она растерянно взглянула на Богдана. Разве не для спасения Матвея они проделали весь этот путь?
– Он счастлив, – с какой-то странной болью сказал Богдан. – Счастливее, чем когда-либо в Яви. Матвей получил то, чего всегда хотел. Свободу. А вдобавок, выходит, и его сокровенное желание исполнилось. И без Алатыря. Не зря он так восхищался птицами…
Богдан вдруг улыбнулся, просветлев.
– И мое желание исполнилось. – Он похлопал ладонью по груди. – Здесь… полегчало. Отпустило.
– А ты, Яснорадушка, – тихо спросил Баюн. – Какого твое сокровенное желание?
Яснорада поставила на землю кувшин с живой водой. Посмеет ли она?..
– Давай, Веснушка, – подбодрил Богдан.
Баюн кивнул. Мара, глянув на него, пожала плечами и кивнула тоже.
Руки Яснорады дрожали, когда она касалась Алатыря. Узоры на нем – те, что Баюн назвал скрижалями – переменились. В рунах, в символах, в сплетении линий Яснорада вдруг отчетливо разглядела собственное имя. Скорее, проявление шестого чувства… и незримое ощущение, что рождало слияние знаков солнца, воды и земли.
– Можешь прочесть? – взволнованно спросила Баюна Яснорада.
Кот покачался на пятках, сплетя лапы за спиной. Ждал ответа от навьих духов, слушал – подрагивали и шевелились уши.
– Просто положи ладони на алтарь.
Яснорада послушалась, и в голове ее возник глухой и гулкий голос, наполненный мощью земли, словно соками из жил самого мира. Она не задавала вопросов – хотела послушать, что скажет сам Алатырь.
– Не вижу я, навья дочь, в твоем сердце ни злобы, ни зависти. Ты ищешь свет там, где его и в помине нет.
О ком он говорил? О Драгославе, которой Яснорада пыталась помочь? О навьей нечисти? Точно не о Маре. В ней есть свет.
– Ты матери своей достойная дочь и достойное дитя самой Нави. Но обряд посвящения ты так и не прошла, стихию, которую назовешь своей, так и не выбрала. Отчего? Что тебя так тревожит?
Оказалось, правду от духа камня не скрыть.
– Сущность навьих детей меня тревожит, – со вздохом сказала Яснорада. – Буду ли я мавкой или русалкой, лесавкой, полуденницей или морской девой… Что, если я себя потеряю? Потеряю и дружелюбие к людям, и сострадание, что книгами прививала мне Ягая. Потеряю человеческую сущность, хоть наносная она и ее во мне мало. Начну забирать людей с Нави, утаскивать их на дно, укрытое мягкими водорослями, кружить головы работникам полей, насылать морок на путников, чтобы они в лесу заплутали или прошли за болотными огнями вглубь трясины?