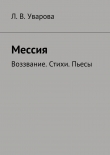Текст книги "Явье сердце, навья душа (СИ)"
Автор книги: Марго Арнелл
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Глава двадцатая. Тени-кляксы
Что-то странное случилось тогда, когда Богдан едва не умер. Что-то странное случилось и в ту невозможно холодную ночь. Он носил это странное в себе, но не мог ни дать ему название, ни объяснить его. Что-то в нем изменилось.
А еще эта Веснушка… Он никак не мог перестать о ней думать. Столько времени прошло, а ее образ даже не поблек, не стерся, как это бывает с самыми яркими снами. Образ девушки-весны словно врезался в его память. И та сцена казалась такой настоящей…
Ее распахнутые зеленые глаза, а в них – волнение и тревога. Растрепавшиеся от ветра золотистые волосы. Нежное, миловидное лицо с рассыпанными по нему веснушками. А потом… Протянутая к нему рука, унизанная причудливыми толстыми кольцами. Неожиданно сильный для такой хрупкой девушки удар в грудь.
И пришедшая на смену туману, в котором Богдан различал лишь ее, пустота.
– Она – словно ожившая греза… Но она не приснилась мне, Матвей, – пылко сказал он однажды. – Не знаю, как это возможно, но она – настоящая. Я это чувствую.
– Греза, говоришь? И кто из нас еще романтик? – хохотнул друг.
Богдан смутился. И больше о Веснушке не говорил.
Но это не значит, что не думал.
***
Он проснулся среди ночи от уже знакомого ощущения – холода, что расползался по рукам и ногам. Громко стуча зубами, натянул одеяло до подбородка, потом и вовсе закутался в него с головой. Не помогло.
Задыхаясь от недостатка свежего воздуха, Богдан вынырнул из-под одеяла и открыл глаза.
Лучше бы он этого не делал.
Тени-кляксы усеяли все пространство спальни, которую заливал яркий свет полной луны. Одна из теней, самая нахальная, решила обосноваться рядом с его кроватью. Она стояла неподвижно, другие – что куда хуже – шевелились. Богдан насчитал четыре кляксы. Не так много, недостаточно, чтобы наслать на него панический страх, но определенно хуже, чем ничего.
В желудке что-то тяжело заворочалось. Он рывком сел, нашарил на прикроватной тумбочке коробочку с линзами. Какое-то время чертыхался сквозь зубы – не сразу надел. Впрочем, и тогда ничего не изменилось. Кляксы стали только отчетливее. Пятнали пространство, словно заявляя о своем законном праве на существование.
Бояться Богдан не привык. И то, что в нем сейчас шевелился страх, поднимая волоски на коже, его только разозлило. Он отбросил одеяло, поднялся. Босыми ступнями нашаривать тапки не стал – уже почти привык к пробирающему до костей холоду. Казалось, приходилось преодолевать не воздух, а реку с сильным течением – так тяжело давался каждый шаг.
Он резко вытолкнул из легких весь воздух. Коротко вздохнул и протянул руку к кляксе. Только бы она не была мерзкой на ощупь…
Клякса метнулась прочь, будто придя в ужас от самой вероятности, что Богдан действительно может ее коснуться. Все тени в комнате разом пришли в движение. Черные, будто пляшущие мушки, замельтешили так, что в глазах зарябило. Попрятались по углам – как раз на всех хватило – и затихли.
– Чертовщина какая-то, – пробормотал Богдан.
Едва не вздрогнул от звука собственного голоса, который разрезал повисшую в комнате тяжелую тишину, и разозлился еще больше.
Трогать кляксы пропало всякое желание. Он еще постоял, согревая пол босыми ногами, а потом все же лег. Уснул, правда, далеко не сразу – еще долго лежал с открытыми глазами.
Пока Богдана не сморил сон, кляксы не шевелились,
После пробуждения прошла, наверное, секунда, за которую он успел вспомнить вчерашнюю ночь. Разумеется, решил, что ему просто привиделось. Ночь обманчива самой своей сутью.
Кляксы, еще более заметные при свете дня, сидели по углам.
– Да что б вас!
Вспышка гнева оставила их равнодушным. Богдан резко отбросил одеяло в сторону, раздраженными, рваными движениями натянул джинсы, рубашку и тонкий свитер поверх. Хлопнул дверью шкафа так, что вздрогнул сам. Кинул книги в рюкзак, не заботясь о том, чтобы не помять тетради. Шагнул было к кляксе, но на полпути передумал.
Пока он лишь видит эти тени, они кажутся чем-то нереальным. Миражем, галлюцинацией, фатой-морганой. «Выпендрежник», – мелькнуло неодобрительное. Но стоит коснуться клякс, а им – оказаться осязаемыми, ощутимыми… и тогда придется признать, что они настоящие. А пока они – как кот Шредингера, который вроде и существует, а вроде нет.
«Сумасшествие Шредингера», – с мрачной веселостью подумал Богдан.
Собранный рюкзак он прислонил к тумбочке в прихожке. С кухни доносились ароматы, которые заставили живот заурчать. Кажется, на завтрак будет омлет с колбасой и зеленью. Как дикий оголодавший зверь, он пошел на запах. Матвея еще не было. Что ж, сам виноват – Богдану достанется больше.
– Все хорошо?
Обеспокоенный вопрос мамы – уже практически традиция. Богдан выдавил улыбку.
– Да, просто… – «я при ударе, кажется, тронулся головой» – …не выспался.
– Ох, – вздохнула мама. – Я поспрашиваю у Гали, может, пропишет легкие седативные.
– Не надо, – отмахнулся он.
Не садясь, ловко свернул омлет в трубочку, проткнул вилкой и отполовинил одним укусом. Матвей подоспел как раз вовремя – Богдан уже начал коситься на его порцию, после того, как стремительно расправился со своей.
Семья Матвея не была для него родной. Он был в ней третьим ребенком, взятым то ли из жалости, то ли из прихоти, то ли ради пособий. Руку приемный отец на него не поднимал, Матвей был всегда чисто одет и накормлен… но домой отчего-то никогда не спешил. Вот и ходил за Богданом рыжей тенью, разве что дома у них не ночевал. Провожал до Дома культуры. Пока Богдан был на репетиции (чужаков туда не пускали), кружил по парку рядом, за голубями наблюдал, подкармливал. К окраине города, где находились оба их дома, возвращался уже с Богданом.
По дороге в школу оба были задумчивы, а потому молчаливы. И если Матвей, как обычно, вместе с птицами витал в облаках, мысли Богдана, запертые в черепной коробке, метались из угла в угол. Как те тени-кляксы… собственно, его мысли были или о них, или о таинственной Веснушке.
Их с Матвеем путь проходил мимо череды деревянных домов. По деревенской привычке Богдан называл их «домами на земле». Одноэтажные, старые, потрепанные временем, они отчаянно нуждались в новой облицовке. Или, на худой конец, краске. Некоторые не мешало и вовсе снести вместе с покосившимися заборами. В одном таком не хватало досок – будто зубов во рту у старика. Сквозь провал виднелся запущенный двор и какие-то полуразвалившиеся постройки. Наверное, остатки от сарая или гаража. Богдан хотел уже отвести взгляд, как из щели между гнилыми досками на него глянуло черное нечто. Подумалось – пес. Оказалось – клякса.
– Черт, – отчетливо сказал Богдан.
Матвей встрепенулся.
– Где?
Взгляды парней встретились.
– Ты серьезно?
– Где-то что-то увидел? – с обаятельной улыбкой выкрутился Матвей.
Богдан вздохнул.
– Да мерещится всякое.
«Всякое» продолжало смотреть на него со двора заброшенного дома.
В школе клякс-теней не было. Ни одной. Были толпы щебечущих одноклассников, кривые или доброжелательные взгляды, а еще – уроки.
«Скорей бы лето…»
Богдана разморило – солнце припекало, а он сидел у самого окна. Даже холодок, поселившийся в груди, казалось, навеки, не слишком-то спасал от духоты. Он черкал карандашом в тетради, безуспешно подражая Матвею – пытался рисовать. Выходило ужасно. К тому же карандашный рисунок не мог передать ни зелень глаз, ни золотистость волос… Разве что веснушки – да и то вынужденно нарисованные серо-черным карандашом, а потому растерявшие часть своего очарования.
Мысли потяжелели и запутались. Ненадолго – для Богдана припасли ушат ледяной воды. Когда Ольга Дмитриевна, учительница по литературе, вошла в класс, вслед за ней вплыла узкая и худая клякса.
Богдан сжал пальцы в кулак так резко и сильно, что сломал карандаш. Матвей глянул на него, встревоженный резким звуком. Тот все еще отчего-то звучал в голове, слишком похожий на хруст сломанных костей. Клякса, идущая за Ольгой Дмитриевной, не отставала.
– Богдан, – тревожно позвал Матвей.
Он дернул головой, не отзываясь. И весь урок только и делал, что наблюдал за кляксой. А та следовала за Ольгой Дмитриевной, словно тень.
Из школы Богдан вернулся мрачный. Забросил сумку, сжевал бутерброд на ходу и снова вышел на улицу. Матвей вечером собирался нагрянуть к нему домой – делать домашку. До этого времени Богдан планировал вернуться. А пока…
Он прошелся по городу без видимой цели, но мысленно фиксировал все. Сколько видел клякс в автобусе – ни одной (кажется, городской транспорт им пришелся не по нраву). Сколько видел их в парке – несколько, и большая часть тянулась за людьми, а не пряталась среди скамеек и деревьев.
Больше всего их было на улице Западной, в той самой череде старых домов. Каждый раз, оказываясь здесь, Богдан вспоминал деревню. Бабушкин огород, дедушкин сарай с инструментами. Майские шашлыки во дворе, посиделки семьей на большие праздники… И, конечно, «вечерние» гусли.
Этот раз стал исключением – все внимание Богдана на себя перетянули кляксы. А их здесь оказалось много. Смотрели на него из прорех в заборах, из щелей в калитках, из окон пустующих домов.
Домой Богдан вернулся совершенно разбитым. Он ощущал себя игрушкой, из которой вытащили вату через вспоротые швы. Закрыл за собой дверь спальни и растянулся на кровати. Вместо мыслей – вязкая глухая пустота.
Любой на его месте провел бы пугающую до мурашек параллель. Авария. Пусть и недолгая, но кома. Порой ему бывает так холодно, будто кожа перестает воспринимать солнечный свет. А тут еще эти до ужаса странные тени. Они будто вылезли из иного измерения… из потустороннего мира.
«Прекрати нести околесицу».
Жаль, теней не возьмешь за грудки, не встряхнешь и не вскричишь: «Что тебе от меня нужно?». Или…
Мысль Богдан даже не додумал. Поднялся рывком и рванул к одной из клякс, которая своим присутствием изрядно портила ему существование. Взялся наугад, наобум… но рука, пройдя насквозь, схватила лишь воздух.
Богдан шумно выдохнул. Значит, они не материальны. Значит…
А что, собственно, это значит?
Было бы странно, если бы клякса – игра света и тени – была ощутима. Куда проще предположить, что бесплотность – нормальное состояние для нее. Но ведь даже теперь, когда Богдан взбаламутил воздух, клякса никуда исчезать не собиралась.
– Что вам от меня нужно? – взъярился он. – Что вы?
Кляксы молчали.
Глава двадцать первая. Навья суть
– Как ты, Яснорадушка?
– Хорошо.
И самой не понять, покривила душой или не покривила. Они лишь недавно вкусно пообедали: Баюн кормился историями, что шептали ему навьи духи, Яснорада – грибами и ягодами. Кожу нагрело солнцем, в высушенных им же сапожках по долинам и тропинкам идти было легко. Воздух здесь, в Нави, был особенный – травянистый и сладковатый. И пока сытое тело полными легкими его вдыхало, в душу настойчиво лезло серое, словно туман, беспокойство.
Очень долго Яснорада складывала в окованный медью ларец в ее голове вопросы с сомнениями, страхами и догадками, и чувствовала, что настал черед его, прежде запечатанный, открыть. Давно настал, если быть честной перед самой собою. Но слишком много сил ушло, чтобы просто примириться с мыслью: в Кащеев град и терем с Ягой для Яснорады возврата нет. Что она больше – не невеста Полоза, которая знала, что никогда не станет его женой, лишь носила титул этот, то ли Мораной, то ли Кащеем, то ли самим Полозом выдуманный. Носила его, как девицы – чепцы, кокошники да бусы рубиновые.
Она больше не дочка Ягой, не жительница мертвого города и не привратница. Теперь она – тополиный пух на ветру или перекати-поле. И несет ее куда-то, а куда – неведомо.
Но вместе с невидимым для остальных ларцом Яснорада пополняла и обыкновенную походную котомку. С тех пор, как сестры Настасьи помогли им с Баюном перейти реку вброд, она тут и там собирала дары природы. Упавшее на землю птичье перо, цветной камушек, сорванные цветы, тонкий гибкий прутик.
Баюн наблюдал за ней, но ни о чем не спрашивал. Видел, верно, что не время.
Яснорада стыдилась того, что так боится перемен, до боли в пальцах цепляясь за уже привычное ей, знакомое. Но покинув Кащеев град, она утеряла право называться мертвой дочерью Ягой. И эта туманность, зыбкость – понимания, кто она теперь – пугала, пожалуй, больше любой правды.
А потому на следующем привале у ручья Яснорада высыпала на землю всю свою сокровищницу. Браслет, что создали русалки, мягко обнял ее запястье, и по коже до самого локтя засеребрилась рыбья чешуя. Яснорада протянула руку к ручью – и вода послушно к ней потянулась, образуя маленький фонтан. Потянулась второй рукой и, словно фокусник, перелила струю из руки в руку.
Баюн сидел на задних лапах и наблюдал за ней с восхищением, словно позабыв, что он сам – совершенно особенный кот.
Яснорада сняла браслет, и не прошло и минуты, как жесткие чешуйки сменились бархатной и теплой девичьей кожей. Сплела венок из полевых цветов и надела на голову. Золота в стекающих на грудь волосах будто стало больше. Задрожали они на ветру, словно колосья. В ноздри ударил запах свежескошенной травы, который до той поры она и вовсе не знала. По наитию Яснорада коснулась рукой земли. Спустя десять ударов сердца из теплой почвы пробился зеленый росток. Еще десять ударов – и затрепетал на ветру одинокий колос пшеницы.
Она нанизала на волосы листки и тоненькие ветки. Обернула их локонами, скрепляя. Кожа и спрятанные под ней вены будто вытягивали зелень из природных даров. Яснорада снова прикоснулась к земле ладонью, словно роняя в нее невидимое зерно. Чувствовала, как почва увлажняется под рукой, наполняется живительным соком. Когда проклюнулся зеленый росток, Яснорада почти уже – почти – не удивилась. Сорвала цветок и с улыбкой протянула Баюну.
– Чудеса… – прошептал кот, его принимая.
А Яснорада, глазами Баюна видя себя чудотворницей, с еще большим рвением взялась за дело. Вплела перо в распущенные волосы и… ахнула, будто задохнувшись. В лицо дохнуло свежим ветром, что взметнул ее локоны, отбросил назад, за спину. Яснорада прикрыла глаза, растворяясь в этом порыве. Пришло чувство, будто она и впрямь парит. Как та пушинка на ветру, как сорвавшаяся с девичьих волос лента, как…
Птица.
От захватывающей дух высоты у Яснорады защипало глаза. И пускай она не видела то, что с высоты видит птица, но все же она – человек или навья нечисть, привязанные к земле… парила.
Не сразу Яснорада высвободила перо из волос, и медленно это сделала, нехотя. Ее, увы, ждало не небо. В земных просторах Нави таился ее путь. Ее, как сказала Настасья, дорога. Она поднялась, сложила в сумку все свои сокровища. Баюну о том, что чувствовала, не рассказала – мешал ком в горле.
Но сапоги обувать не стала и в котомку, как в лесу, не бросила. Оставила их лежать на земле сиротливо. Пошла босиком.
Занялся рассвет, окрасив небо Нави в розовато-алый, а следом – в пронзительно-голубой. Как и всегда, Яснорада спала на голой земле, обнимая Баюна вместо одеяла. Но с недавних пор ей снились странные, цветные сны. Не о ней были эти сны и не о тех, кого она знала. Снились ей птицы, что смотрели с высоты на долины и заводи, города и веси, снились шустрые рыбы и вековые дубы. И она в этих снах была то птицей, то рыбой, а то и дубом вековым.
Яснорада позавтракала свежесобранными мелкими ягодками. Баюн, будто навий справочник или запертый в пушистом тельце старец-мудрец, подсказал – не опасны. Насытившись, подвинула к себе котомку. Резко втянула ноздрями свежий воздух – будто водой студеной обожглась. С духом собиралась.
Собравшись, разложила на земле веточки-цветочки, листья, перья и браслет из речной гальки. Щекочущая пустота будто оттолкнула недавно съеденные ягоды и поселилась в желудке. Баюн подобрался поближе, чтобы молчаливо наблюдать.
Яснорада вплела в волосы веточки, перья и листья, на запястье надела русалий браслет. Ладони положила на землю и, подставляя лицо солнцу, принялась ждать. Не хотела смотреть, что происходило с податливым, точно глина, телом – это ее только бы отвлекло. Вместо этого прикрыла глаза и скользнула – разумом, душой, мыслью – куда-то в глубокие омуты, как если бы она была рекой.
Тут-то и вспомнилось, как промок ее сапожок, который едва не забрала с собой трясина, как наполнился хлюпающей при каждом шаге болотной водой. Как кожа Яснорады стала зеленоватой, а прядь обернулась водорослью. Они с Баюном еще думали – чары болотные.
Тогда все это и началось.
Перемены не пришли из ниоткуда. Через осколки Нави они просочились в ее кожу. Ворвались в уши журчанием ручья, криком птиц, шорохом слетающих с веток по осени листьев. Проникли в ноздри удобренной дождем землей, оставшимся от костра пеплом, соленой морской водой и ветром, что нес с собой тысячи этих запахов.
Яснораде казалось, что она утратила себя, растворившись в голосе, вкусе и запахе Нави. Но на деле она лишь скинула человечью шкуру, как змея – выползок. А под ней осталась сама ее суть. Земляная ли, водная ли… Настоящая. Живая.
Она кружилась вихрем из ощущений, пока не натолкнулась на что-то чуждое самой навьей природе и воцарившейся в ней весне.
Обожгло холодом, острые края снежинок царапнули незащищенное человеческой кожей горло. Удар о невидимую чуждость, как пощечина, отрезвил Яснораду, отбросил далеко назад. Теперь, когда противоестественным холодом у нее забрали запахи и звуки, она словно ослепла. Кое-как, наугад, вернулась в себя, торопливо втиснула навью суть в человеческую шкуру.
Не сразу, но заставила себя открыть глаза. Хрипло сказала:
– Кто-то идет за нами. Может, и не враг, но отчего тогда прячется?
И отчего от него веет такой стужей?
Шерсть на загривке Баюна стала дыбом. Он заозирался вокруг.
– Духи твои могут его разглядеть? Они вообще… видят?
– Нет у них ни зрения, ни слуха. Только память. Да и ту еще надо расплести.
Яснорада поняла это по-своему: Баюну голоса шептали сотни историй и из них еще нужно было выбрать ту самую, верную.
– Они не чувствами живут, а памятью человеческой. Подойду я к кусту с волчьей ягодой, они покружатся рядом и вспомнят, как кто-то, взявший их в рот, умирал. Подойду к тихой заводи, где плещется русалка, они вспомнят, как кричал тот, кого она тащила с собой на глубину.
Яснорада вдумчиво кивнула. Так чувствовала она Навь, когда выскользнула на мгновения из своей шкуры. Не видела, как выглядит небо, но чувствовала себя в нем. И запах земли в ней был не запахом – чьей-то памятью, и в тот миг сама Яснорада была землей.
– Чуют они что-то… там? – Она махнула рукой, не зная верное направление.
– Холод, – в очередной раз прислушавшись, хмуро сказал Баюн. – Мертвость какую-то, пустоту, которую Навь отторгает. Кто бы ни был это, неслышно ходит, знаючи, но от навьих духов ему не скрыться. Что делать будем?
– Подстережем. Могут твои духи предупредить нас, когда тот, кто стужу несет, задремлет?
Кот покачал головой.
– Говорят, не спит никогда.
Яснорада молчала, глядя в землю, будто та могла подсказать ответ. Поднялась и направилась в сторону небольшой чащи – удобного места для пряток. Ей надоело бояться – перемен, новизны, огромного незнакомого мира, навьей нечисти…
Которой она, как оказалось, была сама.
– Выходи, – потребовала Яснорада, остановившись у лесной гряды.
В голосе звучали непривычные, незнакомые нотки. Со стороны она могла показаться волевой и сильной духом. Все потому, что в этот миг Яснорада пыталась влезть в шкуру Ягой: представить, что бы мать ее приемная сделала, что бы сказала, как звучали бы ее слова. Подражательница, пересмешница – вот кем она сейчас была.
Баюн, конечно, в стороне не остался. Пришел по ее следам, встал сбоку и даже когти выпустил. Острые, железные, смертоносные. Приободренная одним его присутствием, Яснорада продолжала:
– Не знаю, кто ты и что задумал, но зла мне и моему другу не причинить. Не позволю. Навь на моей стороне, она меня принимает – своей землей, ветром и водой. Тебя же, чуждость, она стремится отторгнуть.
Не запугивала – чувствовала так, как говорила. Всей своей человеческой кожей, всей своей навьей душой.
Так и не дождавшись ответа, развернулась.
– Подожди.
Знакомый, отрешенно-холодный голос. Мара?!
– Что ты делаешь здесь? – изумилась Яснорада. – Почему прячешься?
– Боялась, что ты меня прогонишь… Потому и пряталась.
Она вышла из-за деревьев – прекрасная и холодная, словно зима. Яснорада безотчетно ждала, что вокруг Мары закружатся снежинки. Отделятся от белых, что изморозь, волос, от белоснежной, словно кость, кожи.
Вот она, чуждая весенней Нави стужа. Мара.
– Забери меня с собой, – попросила царевна.
Яснорада хмуро на нее смотрела. Вряд ли Морана отпустила бы ее из Кащеева града. Скорей, своевольная, Мара ушла сама. Она озвучила свои догадки, не надеясь, впрочем, на ответ. Но царевна ее удивила.
– Тесно мне стало там, в Кащеевом царстве.
– А как же родители?
Мара равнодушно пожала плечами.
– Морана долго горевать не станет. Пожелает – создаст себе новую «Снегурочку». Что до Кащея… Он и раньше меня не жаловал, а после Змеевика и вовсе невзлюбил.
– Отчего же?
– Я была создана, чтобы стать женой Полоза. Не справилась.
– Но ведь это Морана что-то Полозу нашептала. Велела ему тебя не выбирать.
Сама владычица мертвого царства в этом не призналась. Ее чувства в том давнем разговоре сказали лучше любых слов.
– Кащей не знает. Для него я – как бельмо на глазу. Я не справилась со своим предназначением. Я его подвела.
Баюн подобрался поближе, но когти не прятал. Усы его дергались, будто он пытался унюхать исходящий от Мары запах. А не было его.
Яснорада задумчиво смотрела на Мару.
– Как ты болото сумела пройти?
– Трясину заморозила.
Яснорада ахнула.
– А если болотники, что там на дне спят, пострадали?
Мара снова пожала плечами – дескать, ей-то какое дело?
– За нечисть, что людей заманивает и утаскивает с собой на дно, волнуешься? – Если бы голос царевны не звучал так бесстрастно, можно было решить, что она недоумевает.
Яснорада ничего отвечать не стала.
– А лес?
– Пригрозила, что призову зиму, морозом весь их урожай побью. Без грибов и ягод останутся.
– Представляю, как они разозлились, – хмуро сказала Яснорада, вспоминая лесавок.
– А мне-то что?
Яснорада вскинула голову.
– А река? Меня-то они провели по броду…
Мара повела хрупким плечом.
– Я заморозила воду и по мосту ледяному прошла.
Баюн заворчал, да и Яснорада такому признанию была не рада.
– Все должно быть по-твоему, верно? И неважно, какой вред ты другим причинишь, пока протаптываешь дорогу к цели?
Мара не распознала в ее словах ни упрека, ни осуждения. Приняла их за чистую монету.
– Верно.
Яснорада покачала головой. Лесавка Ладка досадовала, называя ее «доброй душой», но и у ее доброты были границы.
– Нельзя так. Знаю, к состраданию тебе не приучали…
Мара дослушивать не стала:
– Не позволишь с тобой идти?
После паузы, вызванной неожиданным вопросом, они с Баюном заговорили одновременно. Кот решительно отрезал: «Нет», Яснорада сказала: «Позволю».
– Если со мной пойдешь – меньше вреда причинишь людям, – объяснила она и Маре, и недоумевающему Баюну.
В голове молоточками застучало: «А людям ли?» Неважно. Люди, навьи дети, нечисть навья… Какова бы ни была их сущность, она – не повод намеренно им вредить. Хотя их собственная сущность была им поводом вредить людям…
Яснорада прижала пальцы к заколовшим вдруг вискам. Это и есть та взрослая жизнь, о которой так много написано в книгах Яви? Когда на один вопрос не можешь найти одного верного, исчерпывающего ответа? Когда каждый из них порождает новое «но»? Когда рядом нет тех, кто развеет сомнения, и все ответы приходится искать самой?
Казалось, причины, что побудили Яснораду взять ее с собой, Мару вовсе не беспокоили. Царевна шагнула вперед, чтобы с ней поравняться, и едва не сшибла Баюна на своем пути.
– Ты даже не спросила, куда я иду.
Мара пожала плечами.
– Туда же, куда и я. Прямо.