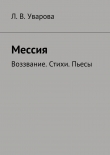Текст книги "Явье сердце, навья душа (СИ)"
Автор книги: Марго Арнелл
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Глава шестнадцатая. Возвращение
Там было черное, пустое ничто. Или ничто и пустое – это одно и то же?
Там была девушка – ожившая весна.
Там был огонь. Или не огонь, а пепел? Тогда почему тело сковал лед?
Богдан не знал, сколько он пробыл в этой черной неизвестности, в тягучем, холодном безвременьи. Проснулся, опутанный трубками и проводами. С чувством, будто что-то потерял.
Так позже и оказалось. Кома забрала у него две недели жизни.
«Главное, ты вернулся», – шептала мама, глядя на него запавшими глазами.
Отец все это время метался между больницей и работой. Показалось, или в его волосы затесалась прядка седины? Матвей, кажется, похудел еще больше. Что застиранная футболка, что потрепанные джинсы на нем висели как на вешалке.
Богдан, пускай и не сразу, вернулся в школу. Класс у них был не слишком дружным, Богдан мало с кем из одноклассников общался. А теперь стало как будто хуже. Все косились, шептались – особенно девчонки. Поначалу робко спрашивали – как это, лежать в коме? Наверное, надеялись услышать про тоннель и белый свет в конце. Матвей и тот мечтал, что у Богдана теперь, как полагается в таких случаях, обнаружатся какие-нибудь способности. Фильмов пересмотрел. Богдан говорил, что ничего такого с ним не произошло.
Но он помнил ту девушку, ожившую весну. Пронзительно-зеленые глаза, нежная, будто подсвеченная солнцем кожа. Веснушки, усыпавшие щеки, словно звезды – небо. Крохотные такие золотисто-рыжие звезды…
Она была так близко от него… Богдан помнил, как она его коснулась. Кажется, незнакомка и вытолкнула его из черного безвременья. Или оно случилось позже?
Глупые мысли.
Матвей рассказывал, что когда Богдан попал в аварию, школа неделю гудела. Только и слышал, что его имя. Городок у них маленький, поговорить особо не о чем – ничего не происходит. Это сейчас Матвей смеялся и называл лучшего друга «рок-звездой». Но тени, которые залегли под его глазами, говорили о том, как нелегко ему – им всем – далось ожидание. Их мучил один и тот же вопрос.
Выживет или умрет?
Не сразу, но все вернулось на круги своя. Богдан перестал просыпаться от ощущения, что на него кто-то смотрит, и видеть смущенную мамину улыбку. Отец перестал звонить каждые полчаса, чтобы убедиться, что у него все в порядке. Матвей перестал коситься на проезжающие мимо машины, как на заклятых врагов. Да и сам Богдан понемногу переставал видеть в каждом встречном авто потенциальную угрозу.
Но мысли о девушке-весне никуда не ушли. Хорошо зная, каким коварным может быть подсознание, Богдан перебрал в памяти всех знакомых ему девушек, но Веснушку среди них не нашел.
Может, она – его личная греза?
***
День был обычным. Пятый урок, душный класс – тепло пришло в город слишком рано, а отопление еще не выключили. Сонные, зевающие или откровенно спящие (хоть и с открытыми глазами) одиннадцатиклассники. Мысли, устремленные прочь, за окно. Хотелось гулять, пока ноги не стопчешь, или поехать на речку – подышать свежим воздухом, пожарить шашлыки. Не терпелось вернуться в ансамбль. С тех пор, как Богдан очнулся, он не был ни на одной репетиции.
Хотелось все, что угодно, но только не учиться.
Матвей за соседней партой, как обычно, рисовал птиц. Дитя двадцать первого века со всеми его менеджерами, бизнесменами и маркетологами, после школы он всерьез хотел заняться орнитологией. Богдан шутил, что Матвея с птицами роднило как минимум одно: они вечно витали в облаках. Рыжеволосый, худой и неуклюжий, на все, что его окружало, Матвей, как ребенок, смотрел восторженными голубыми глазами. В них навеки отпечаталась даже не наивность, а какая-то незамутненная чистота.
Будущий орнитолог перевернул страницу тетради, и на Богдана вдруг дохнуло прохладным ветерком. Он перевел взгляд на окна. Одно открыто настежь, но ветру взяться неоткуда – листья на деревьях словно приклеенные, даже не шелохнутся. Однако с каждой секундой становилось все холодней.
Когда выходили из класса, Богдан даже натянул на себя куртку – по утрам все еще было прохладно, вот и таскал ее с собой. Олька, которая в школу пришла в одной футболке, смерила его недоуменным взглядом. Казалось, едва удержалась от того, чтобы покрутить пальцем у виска. Матвей, как обычно, ничего вокруг не замечал.
Как только они отошли немного от школы, пробравший Богдана озноб отступил. Он выждал на всякий случай, не стал снимать куртку. И зря – весь взмок, пока добрался до дома.
На следующий день все повторилось. Вот только в классе на этот раз было не так душно – с утра шел противный моросящий дождь. И потому этот неестественный, будто пришедший откуда-то извне холод, был так ощутим. Богдан прикрыл глаза и задержал дыхание. Щупальце. Вот на что это было похоже. Ледяное щупальце, которое оплело его тело и робко, словно вслепую, сунулось в самую душу, по пути замораживая все.
Весь урок Богдана била крупная дрожь, в легких плескался ледяной воздух. Казалось, его с головой окунули в прорубь.
– Ты в порядке? – обеспокоенно шепнул Матвей по дороге домой.
Если он заметил, что с Богданом что-то не так, значит, дела действительно плохи.
– Ты весь белый, а губы фиолетовые.
Богдан взглянул на собственные руки. Ногти как будто окунулись в синеву. Такое он помнил по детству – стоило только зайти в речку, вылезать он отказывался наотрез. Плавал до посиневших губ и ногтей, пока мама – если оказывалась рядом – не вытаскивала чуть ли не за шкирку на берег.
– Заболел, наверное, – выдавил он.
Но дома градусник показал не тридцать семь с плюсом, а ровно тридцать шесть. Богдана тем временем вовсю лихорадило. Не помог даже горячий бульон, приготовленный мамой по бабушкиному рецепту. Этот бульон, если верить семейной легенде, мог поднять на ноги самых больных. Богдан послушно пил чай с медом. Пил, морщась – мед не любил. Но маме и без того в последнее время пришлось несладко. Тревога за сына отпечаталась на ее лице темными кругами, словно она до сих пор страдала бессонницей. А еще, кажется, новой морщинкой, которая обозначилась между бровей. Сделать все, чтобы она лишний раз не волновалась – это такая малость…
Богдан сказал, что ему стало лучше – чтобы мама не сидела всю ночь у его кровати. Когда она ушла, достал с комода еще два одеяла, набросил поверх своего. Не помогло. Уже перевалило за полночь, а он так и не мог заснуть. Зубы выбивали дрожь, будто чечетку. Руки коченели, пальцы ног Богдан вообще уже не чувствовал. По правде говоря, он уже не чувствовал ничего – будто его душа вдруг отделилась от тела.
Не хотелось вспоминать о том, что недавно произошло. И все-таки вспомнилось. Врачи называли его случай странным. От самого удара об автомобиль Богдан не сильно пострадал – скорость горе-водитель набрал небольшую. Беда в том, что, падая, он сильно приложился головой о бордюр. Крови, говорят, было столько, что он был обязан скончаться на месте. Вместо этого впал в кому. И очнулся две недели спустя.
И радоваться бы, но этот разлившийся по телу смертельный холод...
Казалось, смерть, прикоснувшись к душе Богдана однажды, не хотела так просто его отпускать.
Глава семнадцатая. Дочери Лешего
Не нравилось Маре больше в серебряных палатах Мораны.
Все ремесла, что ей показали, она давно уже освоила. Вышивка, сколь искусной она ни была, уже набила оскомину – как и прекрасный золото-серебряный дворец. Надоели пустые разговоры невест Полоза – каждый день все об одном да о том же. Они не знали даже того, что известно ей, а потому и говорить с ними было не о чем. Невесты лишь мололи языками о крепких и рослых царских дружинниках, об Олеге с его гуслями, о новой искуснице, что появилась недавно в дворцовых палатах.
И, конечно, о Змеевике.
Они не помнили, как на их глазах Полоз обращался уродливым, устрашающим змием. Как обвивал кольцами искусницу Драгославу и уносил ее с собой. Под землю, в свою сокровищницу, обладать хотя бы частью которой так жаждал Кащей. Невесты Полоза готовились к новому Змеевику – шили-вышивали, пели-танцевали, осваивали колдовское мастерство, чтобы поразить «заморского царя».
Не ладилось у Мары с Кащеем, что не желал больше смотреть ни на нее, ни на свою супругу, что день-деньской пропадал в подземельях дворца. И с Мораной не ладилось. Это невесты Полоза млели от каждого милого слова царицы, от каждого брошенного на них взгляда – драгоценного, стало быть, внимания. Видели в ней статную, властную владычицу царства Кащеева, не подозревая, как хрупка ее власть, что суть той – обманы, иллюзии и память, отнятая у людей. Если исчезнет все это, что останется?
Смешно теперь вспоминать, как сильно тревожилась Мара, когда Полоз не выбрал ее своей женой. Она решила, что подвела Морану. А это Морана ее подвела. Это царица оказалась настолько слабой, что позволила какой-то живой девице с Нави себя обмануть.
Интересно, приходилось ли другим разочаровываться в своих создателях?
Но была ли таковой Морана? Царица сотворила Мару в час Карачуна… Но что, если она – лишь ремесленница? Что, если ее истинным создателем был Карачун, чья сила – зима – ярилась внутри Мары?
Она была на суде – все той же незаметной, тихой поземкой, никем так и не обнаруженной. Слышала, как Яснораду называли живой, принадлежащей царству Навьему. Быть может, тому царству принадлежала и Мара? И с того дня ее не оставляла мысль: Навье царство непременно куда просторнее Кащеева и куда богаче – не только землями своими, не только золотом, но и знаниями, и колдовством. И люди там не одурманены царскими чарами, не пусты, не выхолощены. Наблюдать за ними, верно, куда интереснее. Куда интереснее их узнавать.
Если Мара – Навье создание, значит, к мертвым землям она не прикована. Значит, может идти, куда пожелает. Может даже, однажды она встретит Карачуна и спросит, кто был ее истинным создателем.
Но главное – она найдет царство себе по нраву. И будет царствовать в нем.
***
– Волшебное яблочко, покажи мне Богдана.
Отчаяние прорезалось в тихом голосе Яснорады, и воззвание, почти ритуальное обращение, прозвучало мольбой. Яблочко покатилось по блюдцу, своей магией вновь превращая серебряную гладь то ли в зеркало, то ли в причудливой формы окно.
Она подалась вперед, не дыша, и сжала лапу Баюна. Тот мявкнул – от волнения слишком сильно, должно быть, сжала, – но лапы не отнял. Так они и сидели, напряженно вглядываясь в серебряную поверхность.
А та, словно озерная вода, разошлась, и на дне обнаружился…
Образ Богдана.
Он шел по улице вместе с рыжим пареньком. И пусть Богдан выглядел немного бледным, и усталость наложила печать на его лицо … Он был жив.
Яснораду захлестнули эмоции – будто ветер, обернувшись торнадо, подхватил и закружил. С губ сорвался вздох облегчения. Она и впрямь сумела его спасти. Та, что лишь провожала мертвых, впервые в жизни спасла от неминуемой гибели чью-то душу.
Даже солнце, казалось, засияло ярче и грело еще сильней. На радостях Яснорада подхватила Баюна и в танце с ним закружилась. Тот огласил окрестности испуганным мявом, но после словно разомлел и решил получать удовольствие от новых для себя ощущений, когда весь мир превращался в карусель. Танец, впрочем, оказался недолгим: руки от тяжести скоро занемели. Яснорада обессилено рухнула на траву и заливисто рассмеялась. Улыбался и Баюн.
– Видишь, Яснорадушка, а ты волновалась! Значит, все не зря было?
– Не зря, – улыбаясь ослепительно, как само солнце, подтвердила она.
Посреди поляны рос цветок с продолговатыми сиреневыми лепестками. Яснорада не удержалась, сорвала его и вплела в косу. Баюн, тихо вздохнув, отвернулся. Знал, что она тоскует по Ягой. Знал и то, что ничем помочь ей не может. Пока он искал ручей, Яснорада собрала в котомку ягод. Спелые, налившиеся сладким соком, они падали с куста прямо в раскрытые ладони.
Едва память о сумрачной топи стер золотистый солнечный свет, едва осталась позади уютная поляна, как снова задрожала земля под чьими-то огромными ножищами. И страх вернулся – будто и не уходил никогда.
Сглотнув, Яснорада схватила лапу Баюна. Крепко сжала.
– Из болота мы с тобой выбрались, потому что зла никому не желали. Лес мы не обижали, Лесовику не за что на нас серчать. Верно ведь?
Кот молчал – голоса навьи слушал.
Супруг Ивги, Леший, вышел из-за дерева. Из головы его, что макушкой доставала до кроны, росли ветвистые, как у оленя, рога. Приглядевшись, Яснорада поняла: не рога это – изогнутые ветви. В бороде длинной запуталась листва, хотя она не удивилась бы, узнав, что из бороды та и прорастала. Кожа даже на взгляд казалась твердой, будто покрытой коростой. На щеках – дубовых или лубяных – проросли грибы.
Оторопь брала от одного взгляда на исполинского духа, такого же древнего, как деревья в лесу.
У узловатых, словно корни, ног Лешего кружилась стайка навьих детей. Одни – нагие, другие – листвой и мхом прикрытые да подпоясанные осокой. Те, что помладше и помельче, цеплялись за тело духа-хранителя леса – на загривке сидели, висели на руке. Другие – стройные, вытянувшиеся, ростом Яснораде по плечо или того выше, вышагивали рядом. Роднил их цвет волос, украшенных лесными цветами да ветками, и цвет мягкой, как у человека, кожи. Все оттенки зеленого там были – от салатного до изумрудного.
– Зачем бродишь по лесу моему? Он для нас только, для детей навьих.
– Погоди, отец, не гневайся, – вдруг сказала лесной дух, что шла впереди, на несколько шагов опережая Лешего. – Сестрица она моя.
Высокая, легконогая, дочка Лешего оглядела Яснораду. С интересом спросила:
– Подменыш ты аль дочка кикиморы?
Яснорада от такой возможности родства остолбенела.
– П-почему? – спросила она невпопад.
– Лесавка ты потому что.
Яснорада совсем растерялась.
– Человек я.
– А я говорю – лесавка. На руку свою взгляни.
Она взглянула и вскрикнула – скорее, от удивления, чем от испуга. Вены ее сделались темно-зелеными, да и кожа выше локтя позеленела и покрылась жесткими, сухими чешуйками – словно плоть Яснорады обрастала корой. Она ощупала шею другой рукой. Теплая, шершавая, будто нагретый солнцем ствол вяза.
Одна из лесавок – стало быть, дочерей Лешего и кикиморы – спрыгнула с руки хранителя леса. Худенькая, юркая, с изумрудными волосами, что топорщились в разные стороны, подскочила к Яснораде. Нарезала круги вокруг нее, словно любопытная кошка, принюхивалась, приглядывалась. И вдруг, подавшись вперед, быстро провела по коже Яснорады длинным острым ногтем. Жадно уставилась на заалевшую на запястье кожу, а потом макнула в нее кончик пальца и… лизнула его.
– Не лесавка она, – воскликнула, торжествуя. – Кровь у нее внутри, ни капли древесного сока.
Теперь лесавку во все глаза разглядывала уже Яснорада.
– У вас что, по венам течет древесный сок?
– У меня – да, – гордо сказала лесавка. – Чистый, березовый. Хочешь попробовать?
– Н-нет, – отшатнулась Яснорада. Подумала, что ее отказ обидит дочь Лешего, и добавила вежливо: – Спасибо.
Та лишь махнула серовато-зеленой рукой.
– А у Красии кровь пополам с соком, – выпалила она, глядя на высокую лесавку, которая заподозрила в Яснораде сестру. А потом и вовсе показала той язык. – Приемная она, из Яви взятая.
– И верно, приемная я, Ладка, – отозвалась Красия, лениво растягивая слова. – А силы во мне поболее твоей будет.
Глаза Ладки опасно сузились.
– Махаться кулаками все горазды. Это в тебе человечья кровь говорит. А я как укутаю тебя ветками, что плетями, весь сок из тебя выжму…
– Хватит!
Громовой голос Лесовика прокатился над кронами деревьев, вспугнул задремавших в ветвях птиц. Яснорада вздрогнула, но ее мысли вернулись к лесавкам. Кажется, даже детям хранителя леса соперничество было не чуждо… Она едва ли не с тоской вспомнила невест Полоза. «И отчего я так упрямо скучаю по тому, по чему скучать совсем не стоит?»
«Потому что все там мне было знакомо, – ответила она самой себе. – Драгослава и ее подначки, Ягая и гости, Кащеев град и все его странности. Тяжело порой было, а привыкла я. А теперь…»
А теперь у Яснорады рука со щекой, что кора дубовая, позади – болотники с кикиморой, впереди – Леший и его лесавки. Голова кружилась от всей этой пугающей, странной новизны, и хотелось миру закричать, что тот Леший: «Хватит! Хватит с меня нечисти лесной и болотной. Хочу обратно стать мертвой дочерью Ягой».
Ладка что-то разглядела в ее глазах – что-то невысказанное, горько-соленое.
– Эй, ну чего ты, – протянула она, разом растеряв весь боевой задор. – Печалишься, что не лесавка?
Яснорада рассмеялась сквозь слезы.
– Признаюсь, я бы от такой сестры не отказалась.
– Ясно дело, – задрала Ладка курносый нос. Фыркнула, повернулась к Лешему и запричитала, будто он был добрым дедушкой, а не хранителям леса с дуб высотой: – Отец, можно она останется с нами ненадолго? Можно, можно?
– Погоди, Ладка, не гони коней, – поморщился Лесовик.
Присел на одно колено, чтобы Яснораде, глядя на него, не приходилось так сильно задирать голову. Мелочь лесная спрыгнула с его плеч и разбежалась по прогалине. Некоторые остались – сидели удобно на дубовых плечах, будто на суку или на лавке.
– Вижу силу в тебе древесную, девица, но Ладке, доченьке моей, верю. Если сока древесного нет в твоей крови, то откуда в тебе моя сила?
– Я не знаю. – Голос Яснорады к концу короткой фразы сел – не каждый день приходилось разговаривать с хозяином леса.
– Из града Кащеева мы вышли, лесной господин, – поклонившись, сказал Баюн.
Леший сосредоточил на нем взгляд блеклых глаз.
– Лесной дух в тебе чую. Родное что-то.
– Сторож леса я, – гордо отозвался Баюн. Пригорюнился малость: – Был им.
– А теперь ты ее, стало быть, охранитель?
Кот взглянул на Яснораду. Морда его просветлела.
– И то верно. Лес я оберегал. Теперь Яснорадушку оберегаю.
Она рассмеялась, однако возражать не стала. Хоть и не пришлось еще Баюну пустить в ход железные когти, рядом с ним ей было хорошо и спокойно.
Леший снова обратил свой взор на Яснораду.
– Не лесавка ты, – выдохнул, выпрямляясь. – Не смогла бы ты в царстве сороковом, мертвом, выжить. Засохла бы, зачахла без живой земли, без воды живой, что течет по венам леса родниками. Без корней своих – без леса – зачахла бы.
Яснорада вздохнула, сама не понимая, радует ее сказанное или печалит. И пусть не лесной дух она, но кожа ее все еще оставалась лубяной, а на руке зеленели вены.
Ладка все ж уговорила Лешего позволить Яснораде с Баюном в лесу задержаться. Мелким духам лесным такая радость – погладить и потискать огромного кота!
«Волки – совсем не то, – призналась Ладка, его обнимая».
А значит, верно Баюн сказал – стада волчьи Леший пасет.
Волков, к счастью, Яснорада так и не увидела. Зато покаталась на спине Лешего, смущаясь и задыхаясь от восторга одновременно. А когда по лесу бродила (Ладка, вознамерившись поймать для нее лису, чуть поотстала), встретила большеголового, худого старика с острым носом и печальными глазами.
– Доченька, ты котомку мою не видала? – жалобно произнес старик. – Потерял в лесу где-то. Не поможешь найти?
«Люди? Здесь?» – удивилась Яснорада. Старик выглядел так, будто годами бродил по заколдованному лесу. Одежда, кое-где спешно залатанная, изорвалась в лохмотья, сквозь прорехи торчали обтянутые бледной кожей ребра. Но даже если старик был навьей нечистью, ему требовалась помощь. А значит, не могла она ему отказать.
Пока сумку искала, в голову лезло всякое, что прежде Яснорада усиленно от себя отгоняла. О Ягой, об их уютной избушке… От мыслей этих совсем разболелась голова. Но Яснорада рук не опускала, продолжала бродить по лесу и искать. Вот только вспомнить бы… что она искала?
Туман в голове развеял неодобрительный голос Ладки:
– Эх, душа ты добрая. Думай, кому помогаешь. А ты, Боли-бошка, слезь с нее! Брысь, сказала! Наша она, лесная, пускай и непонятная. Сам Леший ей гостить в лесу позволил.
– Ах, Леший, – раздалось испуганное у Яснорады за ухом.
Только сейчас она поняла, что ее шею обнимают худые и маленькие, как у ребенка, руки. Боли-бошка спрыгнул со спины Яснорады и оказался тем самым печальным стариком, который неведомым образом съежился почти вполовину. И когда он успел взобраться к ней на шею?
– Нельзя на просьбу Боли-бошки откликаться, – наставительно произнесла Ладка. – Иначе вечно будешь его по лесу на своем горбу таскать.
Проказник лесной заворчал.
– Не серчай, путница, и Лешему не рассказывай, что я гостью его обидел. В дуб меня посадит в наказание да дупло ветвями изовьет.
Яснорада, потирая шею, бледно улыбнулась. Открыла уже было рот – заверить, что ни о чем не расскажет. Не случилось же ничего плохого, да и головная боль уже прошла.
– Добрая душа! – разгадав ее намерения, негодующе фыркнула Ладка. Уперла руки в бока и уставилась на Боли-бошку. – Не расскажем, если приведешь на поляну с самими сочными, самыми вкусными ягодами.
Боли-бошка снова заворчал, но послушно куда-то повел. Ладка, поравнявшись с Яснорадой, шепнула:
– Ягодными местами он заведует. Едва ль не больше Лешего о них знает.
Неуклюжий старичок привел их к поляне, где росли ягодные кусты. Исчез среди деревьев, Ладку ругая.
На той полянке Яснорада познакомилась с еще одной нечистью лесной – с боровичками. Не теми, что были грибами, а теми, что были хозяевами грибов. Маленькие, ростом в несколько вершков старички, чьи седые головы увенчали грибные шляпки, жили под рыжиками и груздями. Стоило Ладке привести на поляну Яснораду, высыпали к ней здороваться. Каждый тащил за собой гриб – здоровый, мясистый, и перед ней складывал.
– Понравилась ты им, – смеялась Ладка. – То ли оттого, что Боли-бошке помочь пыталась, то ли оттого, что оставила его с носом. Их не разберешь – то ли друзья они, то ли смертельные враги. Но как в лесу каком окажешься, запомни: гриб, под которым спит боровичок и который он защищает, рвать нельзя. Иначе в корзинку твою с грибами мухоморы с поганками бросит. А может и в чащу дремучую завести.
– Как же я пойму, какие из грибов нельзя трогать? Не думаю, что боровички простым людям показываются.
– Не показываются, – согласилась Ладка. – Правда, и ты все ж не так проста. Но если боровичков на поляне грибной не увидишь, просто попроси вслух, чтоб позволили тебе грибы сорвать. Если какой гриб их дом – они покажутся, те и рвать не станешь. Остальные можешь забирать с собой, только спасибо сказать не забудь.
– Спасибо, – улыбнулась боровичкам Яснорада.
Крохотные старички, сложившие к ее ногам уже целую кучу грибов, зарделись.
– Вымыть их надо, – деловито сказала Ладка. – Вы, человеки, уж больно привередливые. И земля вам на зубах хрустит и червяки вам невкусные…
Она призвала ручей: едва приложила серо-зеленые ладошки к траве, и вот он уже зажурчал между камнями.
– Попробуй сама, – искрясь энергией, предложила Ладка.
– Что ты, не смогу, – стушевалась Яснорада.
– Сможешь, сможешь! Даже отец наш разглядел в тебе силу древесную, и я ее вижу – кипит внутри, бурлит, да выхода не находит.
Яснорада несмело приложила руки к земле. Вздохнула спустя несколько ударов сердца.
– Видишь? Не выходит…
– Всему вас учить, – буркнула лесавка. – Сапоги сними с себя, кожу голую солнцу подставь. Ближе к природе-матушке станешь.
– Сапоги сниму, – поразмыслив, согласилась Яснорада. – Платье – не буду.
– Перед лесом ты наготы, что ль, стесняешься? Хочешь, укроем тебя листвой? – развеселилась Ладка.
Яснорада стянула сапоги, ступила на траву босыми ногами. Ахнула, когда листочки, что поляну усеяли, вдруг раскрылись, а под ними на изумрудном ковре заалели спелые ягоды. Земляника!
– Говорила же! – Ладка запрыгала на месте от восторга. – Говорила!
И Яснорада радовалась – до того момента, как земля ее в себя потянула. Глянула вниз – пальцы ног отвердели и удлинились. Испугавшись, она отпрыгнула в сторону. Точнее, попыталась – не пустили ступни, что корнями в землю ушли. Яснорада упала, часто-часто дыша. Подтянула ноги к груди – обычные, перемазанные в земле ноги – и какое-то время лежала, их ощупывая.
– Ничего не пойму, – призналась Ладка. – И лесавка ты вроде, и не лесавка.
Успокоившись, Яснорада медленно поднялась. Набрала земляники в котомку с грибами, стараясь не замечать, как на костяшках пальцах проклевываются почки, а из них тянутся тоненькие, скрученные в спираль листки. Сапоги, однако, с собой взяла, обувать не стала.
Вместе с Ладкой они вернулись к прогалине, на которой лесавки и лесовики тискали разомлевшего от ласки Баюна. Кот лежал на спине, пока ручонки-веточки чесали пушистое пузо. Оглушительное мурчание было слышно за версту.
– Тоже мне, охранитель, – фыркнула Красия. Самая старшая на вид из лесавок, скрестив руки, наблюдала за малышней. – Подопечную на ласку быстро променял.
Баюн лениво открыл один глаз. Завидев Яснораду, ойкнул и поднялся на задние лапы. Начал было оправдываться, что времени счет потерял, но осекся. Обеспокоенный взгляд прошелся по правой руке Яснорады. Мышцы и кости ее стали тонким, гибким деревом; кожа атласная, девичья стала гладкой изумрудной листвой.
– Странная девица ты, – задумчиво сказала Красия. – Но забавная. Будешь неподалеку от леса нашего – в гости заходи.
– Заходи, – закивала Ладка и крепко-крепко обняла на прощание.
Яснорада обняла в ответ, скрестив на спине лесавки руку и ветку.
***
Когда поляна с лесной нечистью осталась позади, она спросила Баюна:
– Помнишь, Красия меня подменышем назвала? Отчего, знаешь? – Задать вопрос ей самой Яснорада все-таки постеснялась. – А Ладка еще говорила что-то про Явь…
Баюн слушал, слушал голоса своих духов навьих. Покивал и только потом отозвался.
– Не все лесавки да лесовики рождены от кикиморы и Лешего. Есть среди них и заблудившиеся в лесах дети. Кого мать бранным словом прогнала, кого заманил в чащу сам Леший… Назад они уже не возвращаются, про жизнь прошлую навсегда забывают. Кожа их белесая с волосами русыми зеленеют да листвой покрываются. Лес становится землей их родной, отцом – Леший. Говорят еще, сами лесавки приучены из колыбелек явьих девочек похищать, своих будущих сестричек. Те растут, и вовсе природы своей не зная, и года спустя от нечисти навьей их уже не отличить.
Яснорада вспомнила светлую, будто солнышко, лесавку и мотнула головой.
– Не может быть, чтобы Ладка детей похищала. Вырастит даже, века в лесу проживет – а такой не станет.
– Навьи дети как люди, Яснорадушка. И хорошего от них можно ждать, и плохого.
Они шли через лес, а слова Баюна еще долго не давали ей покоя. Долго молчала она, размышляя.
– Знаешь, что странно? – спросила Яснорада, вспугнув подступившую к ним тишину.
Будто обрадовавшись звуку ее голоса, где-то в высокой кроне деревьев запела птичка. Баюн непременно сказал бы, что это за птица и может даже, о чем она поет, если бы не слова Яснорады.
– Что же?
– Сколько мы идем по лесу, ты ни разу к еде не притронулся.
– Не по мне ягоды эти да грибы, – поморщился Баюн. Добавил мечтательно: – Молочка бы да каравая…
Посмеиваясь, Яснорада сказала:
– Вот только я без этих ягодок и грибов не прожила бы – голод бы замучил. А тебе все трын-трава. И подрос ты на целый аршин… на пол-аршина так точно.
– Правда? – Остановившись, Баюн ощупал пушистый живот. Спросил обеспокоенно: – Поправился, говоришь?
Яснорада с фырканьем закатила глаза.
– Не поправился, а вырос. А расти-то тебе с чего?
Баюн сосредоточенно хмурился, с подозрением оглядывая собственное тело – слова Яснорады его, верно, не убедили. Она же размышляла вслух:
– Я вот еще о чем думала. Как ты выжил в лесу своем, без молока да без караваев?
– Спал я, – неуверенно отозвался Баюн.
– Но когда люди спят, когда спит даже навья нечисть, им тоже нужна еда.
– К чему ты клонишь, Яснорадушка?
– Чужие истории тебя кормят, – наконец выдохнула она. – С тех пор, как навьи голоса с тобой говорить начали, ты не по дням, а по часам растешь. Вот я и подумала… Что если тебе в уши нашептывали истории, пока ты, словно Леший, сторожил свой лес? Вот отчего ты помнил, что такое Навь – голоса твои, соглядатаи, осведомители, тебе рассказали.