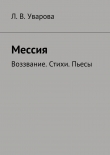Текст книги "Явье сердце, навья душа (СИ)"
Автор книги: Марго Арнелл
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Глава седьмая. Слишком много правды
Мир вокруг Яснорады остался прежним. И вместе с тем стал совершенно иным.
Паника порой сдавливала ей грудь, выжигая воздух. Задыхаясь, Яснорада вспоминала, что она – мертвая. Ей и вовсе не должно быть знакомо, что такое – дыхание.
– А голод? – спросила тогда Яснорада.
– Фантомные ощущения. Ты ведь знаешь…
– Знаю, читала. – Она вскинула голову, глядя поверх плеча Ягой на заставленные книжные полки. – Эти книги из мира живых, да?
Мать вздохнула.
– Не должна была я тебе их показывать. Но не могла сокрыть от тебя их мудрость.
Ягая не знала, что книги стали причиной тому, что невесты Полоза называли Яснораду странной. Жаловаться она не привыкла. На мгновение представила, что не было бы у нее книг, этих порталов, что вели в миры ею неизведанные, что учили наукам, о которых в Кащеевом граде и знать не знали.
Пусть лучше странной называют. Она как-нибудь переживет.
Солнце уже трижды совершило свой ход по небу, а Яснорада так и не вышла из избы. И из светлицы выходила, лишь убедившись, что внизу не встретится с Ягой.
Баюн чурался теперь их обеих. Яснорада его не винила. Могла представить, какого ему, созданию царства Навьего, а значит, живого, понять, что он нашел приют среди мертвых.
Бессонница неотступно следовала за ней по пятам. Ночь пугала, казалось, тая в себе куда больше мертвых, чем днем. Яснорада не могла сомкнуть глаз, ворочалась на мягкой постели, и засыпала, измученная, с первыми лучами солнца. Открывала ставни настежь, запуская в комнату неизменно тусклый солнечный свет, и лишь тогда засыпала.
В один из дней, когда сил больше не осталось, когда миновала полночь и Яснорада лежала, глотала горячие, непостижимо живые, настоящие слезы, Баюн осторожно подцепил коготками щель в двери. Отворил, вошел почти неслышно. Яснорада притихла, наблюдая за котом из-под прикрытых век. Лунный свет заливал комнату – ставни она больше не закрывала. Баюн забрался на кровать, свернулся у бока и замурчал.
Не прошло и нескольких мгновений, как Яснорада погрузилась в долгий, спокойный сон.
На рассвете она подошла к Ягой. Та перемалывала в ступке травы для очередного зелья невестам Полоза или простым горожанам. Прежде в занятии Ягой ничего странного Яснорада не находила. Но какие хвори могли мучить мертвых?
– Я в твою комнату заходила, в сундук твой заглядывала. Прости меня.
Недомолвок в ее жизни и без того оказалось слишком много.
Ягая вздрогнула. Каких бы слов ни ждала она от Яснорады – первых за долгое время слов, – но точно не этих.
– Прощаю, – медленно сказала она.
– Но позволь мне наблюдать за миром живых через то волшебное блюдце. Оставь мне эту отраду.
– Явь, – глухо отозвалась Ягая. – Людской мир называется Явью. И если это хоть немного загладит мою вину, блюдце я тебе подарю.
Яснорада с усилием кивнула. Ей не нужно было, чтобы Ягая заслуживала прощение, но она хотела успокоить ее, показать, что не видит в матери врага. И понимает, зачем Ягая так долго прятала правду за кружевом слов, за туманными высказываниями и экивоками, за фразой, брошенной давным-давно: «Я твоя мать, Яснорада, и зла тебе не желаю. Если велю что-то – делай, что велено, и вопросов не задавай».
Ягая учила ее и грамоте, и ремеслу ведьмовскому, а когда поняла, что с последним не выходит, отправила во дворец к Моране и невестам Полоза. Чтобы в этом странном мире Яснорада все же нашла свое место.
Тем же днем блюдце перекочевало в ее ладони. Тем же днем Яснорада с трепетом погрузилась в Явь. Больше не жмурилась от испуга, глядя на железных жуков («Машины, – озарило ее наконец, – это машины!»), жадно впитывала каждую деталь живого мира. Оттуда она пришла? Или, как Ягая, была рождена здесь и предназначена царству Кащееву? Спросить бы, но боязно. То, что открылось ей, уже все изменило. И казалось бы, хуже уже быть не может, но…
Правды, как оказалось, порой бывает слишком много.
***
Яснорада лежала на животе, подперев голову кулачками. Баюн лежал рядышком. Не мурчал – слушал.
Она не собиралась подглядывать за Богданом постоянно. Нечестно это, что ни говори. Но лишить себя его волшебной музыки не могла тоже. Понаблюдала за ним раз, другой, третий и поняла, что играет Богдан всегда по вечерам. В большом каменном доме встречался он с другими гуслярами, что оказались куда его взрослей. Только у одного из них не было гуслей, зато был густой и тягучий, обволакивающий, словно мед, голос. И назывались они гордыми словами «ансамбль гусляров».
Лилась песнь, словно ручеек, а гусляры, что сидели на помосте перед пустой залой, сплошь заставленной странными мягкими стульями, не знали, что один зритель у них все же есть. Мир Яснорады, будто объятый пламенем из пасти Змея, в одно мгновение превратился в пепел, обнажив обугленное, черное нутро. Неизменно прекрасной осталась только музыка – ее единственная отрада.
Музыка Богдана помогла примириться с правдой. То успокаивающая, то летящая ввысь, она заставляла ее сердце трепетать, словно крылышки неведомой птицы. Видеть, как по коже бегут мурашки. Чувствовать себя… живой.
Яснорада жила от вечера до вечера, но сегодня прильнула к волшебному блюдцу почти с самого рассвета. В городе Богдана приближалось время какого-то праздника и всю минувшую неделю гусляры готовились к нему. А значит, праздник и у Яснорады.
Там были песни с незнакомыми ей мотивами и диковинные танцы. Больше всех ей понравился тот, где танцоры танцевали медленно, нежно обнявшись и скользя по сцене от одного угла до другого. Яснорада наблюдала за выступающими, словно завороженная… и при этом точно знала, кого именно ждет.
Увидев, ахнула и подалась вперед.
Богдан сегодня, против обыкновения, был в расписной красной рубашке, что так изумительно подходила к его смоляным волосам. Яснорада покраснела, понимая, что слишком долго его изучает, но и перестать смотреть не могла. Взгляд Богдана туманился, стоило ему тронуть струны. Он будто заглядывал внутрь себя в поисках того, для чего не находилось слов, но о чем мог поведать ей – всему миру – с помощью гуслей.
Их выступление пролетело как один миг. Яснорада с сожалением вздохнула. Вглядывалась в колдовские серые глаза, пока позволяло блюдце. Когда Богдан покинул сцену, не велела блюдцу следовать за ним – вместо этого концерт досмотрела.
– Это его мир, не мой, – прошептала она. То ли к Баюну обращалась, то ли к себе самой. – И все же я могу быть в нем гостьей.
Баюн завозился на полу. Подобрался, заглядывая в глаза круглыми, что пуговички, умными глазами.
– Гостьей, Яснорадушка. Но это не твой мир… Каким бы он ни был.
Она снова вздохнула, признавая его правоту. Ее мир – здесь, не в блюдце, и вечно прятаться от него она не сможет.
– Ты куда? – удивленно спросил Баюн, когда Яснорада начала собираться.
Она надела белое с серебром невестино платье, в волосы вплела черный шипастый цветок. В мире Богдана – Яви – цветы были совсем другие. Зеленью полнились, красками и свежим соком.
– Во дворец. Искать свое место.
День ото дня встречать и провожать мертвых – это все же не по ней. Она будет помогать Ягой, как помогала прежде… но ей нужно что-то еще. У Ягой были ее ведьмовские зелья и заколдованная избушка, у Баюна – мисочка сливок и караваи со скатерти-самобранки, у Богдана – его гусли. У Яснорады, так вышло, не было ничего. Кроме чужой только музыки, ее дивной отрады.
Яснорада уже несколько дней не показывалась наружу. Город, как и прежде, встретил ее ладными избушками, чистыми улочками и громадой дворца, что виднелся на горизонте. Все те же люди вокруг, все те же улыбчивые лица, все те же блуждающие по улицам звери из веток и глины. Ничего не изменилось.
И одновременно изменилось все.
Золоченая скорлупа дворца сменилась белоснежно-инеевой прохладой, когда Яснорада вошла в палаты Полозовых невест. Глянула на них – хрупких, точеных, изящных.
«Вы знаете, что вы все мертвы?» – хотелось сказать ей. Конечно, она не сказала.
Никто не спросил Яснораду, отчего так долго не появлялась во дворце. А она и рада – ничего не хотелось им объяснять. Потому просто взялась за неоконченное рукоделие. Будто не было Змея и реки Смородины, не было правды о том, что есть Явь, лишенный магии мир, и есть Навь, мир, до краев наполненный магией. И есть перекресток меж двух миров – мертвое Кащеево царство.
И все же день этот оказался особенным, непохожим на другие. Сначала к ней подсела Иринка. Самая юная, самая говорливая, все эмоции – от радости до печали – всегда на лице, будто на страницах открытой книги. Старшие невесты соперницу в ней не видели, но и не делились ничем. За Иринкой закрепилась молва девицы словоохотливой, не умеющей держать язык за зубами.
Иринка щебетала, торопясь рассказать, что произошло во дворце, пока в нем не было Яснорады. Как обычно, почти ничего. Им играл Олег (в этот миг перед глазами невольно всплыло лицо Богдана и вспомнилась его искусная игра), Драгослава создала новых тварей – с жемчужной шерстью и копытами, оставляющими золотые следы, а Мара вышила для царицы из серебряных нитей самую красивую во всем Кащеевом граде шаль. Говорят, та колола холодом, стоило ее коснуться.
Погруженная в омут мыслей Яснорада неторопливо вышивала. Иринку же ничуть не беспокоило, что ей не торопятся отвечать. Выложив последние вести, она, радостная, будто обновленная, упорхнула.
В трапезной Яснорада оказалась рядом с Настасьей. Когда раздался хрипловатый голос, Яснорада вздрогнула – настолько не ожидала, что та с ней заговорит. Она, признаться, побаивалась острой на язык невесты Полоза. Дерзкая, смелая, Настасья не боялась перечить даже Драгославе, в то время как другие заискивающе заглядывали в глаза и не скупились на льстивые фразы.
Впрочем, если верить Иринке, в какой-то момент благосклонность многих невест Полоза оказалась не на стороне Драгославы. Как флюгер на крыше следует за ветром, так и они – за теми, кто сильней. Все чаще невесты Полоза стали присаживаться рядом с царевной Марой. Заводили беседу, расточали приветливые улыбки. Драгослава злилась, ее твари получались красивыми, но… мертвыми. Стояли, словно статуи, сколько ни пыталась Драгослава вдохнуть в них жизнь, заставить их дышать и шевелиться.
Когда Иринка рассказывала об этом, Яснораде почудилось скрытое в ее голосе торжество.
Однако каждую из невест – кого раньше, кого позже – оттолкнула холодная отстраненность Мары. Беловолосая царевна никогда не улыбалась и не торопилась поддерживать беседы, не говоря уж о том, чтобы самой заводить. А если спрашивали о чем, отвечала коротко и односложно.
Поджав хвосты, невесты Полоза вернулись к торжествующей Драгославе. Но она помнила, как была слабой в их глаза. Как загодя, но проиграла. И память эта наполняла ее взгляд ледяной яростью.
– Тебе никогда не чудилось, что с рекой нашей что-то неправильно? – спросила Настасья.
– Ты про Смородину? – осторожно отозвалась Яснорада.
Еще бы не заметить: в реках Яви вода не источает жар, не раскаляет докрасна перекинутый через них мост.
– Смородина? – нахмурила густые брови Настасья. – Я про речку, что течет неподалеку от дворца.
– Нет. Ничего странного не замечала.
Настасья смотрела прямо перед собой. Светлые, с медным отблеском волосы крупными кудрями падали на грудь и спину.
– Что-то на дне будто меня зовет. Невидимое, так и шепчет. Я тяну руку, по дну шарю, а там и нет ничего.
У Яснорады от слов Настасьи и тягучести ее голоса морозец пробежал по коже.
– Прости.
Она и впрямь чувствовала себя виноватой. Что к ней обратились, а она не смогла помочь.
– Ничего, – с отрешенной полуулыбкой сказала Настасья.
– Почему ты мне это говоришь?
– Ты сама странная. – Невеста Полоза извиняюще улыбнулась, пусть ее слова не звучали ни издевкой, ни упреком. – Значит, не осудишь. И я думала, раз ты – дочь ведьмы, может, знаешь что-то…
«Знаю, – с горечью подумала Яснорада, – но моя правда тебе не нужна».
Остаток дня они просидели рядом, но больше не говорили.
С той поры начали невесты Полоза шептаться о Настасье, как прежде о Яснораде, ведьме-неумехе, шептались. И если Яснорада поначалу, пока духом не окрепла, вжимала голову в плечи, Настасья, заслышав шепотки, перекидывала толстую русо-медную косу на грудь и гордо вскидывала голову. А если кто донимал, зыркала грозным взглядом. Голоса тотчас замолкали.
Иринка, которая язык за зубами держать не умела, поведала, о чем шепчутся невесты Полоза – хоть Яснорада о том и не просила. Дескать, у берега Настасья стоит, да на воду часами смотрит. Яснорада в ответ только плечами пожала – мало ли какие у людей причуды? За Настасью она не беспокоилась, не боялась, что та бросится в воду.
Если ты мертвый, то не можешь стать еще мертвей.
Глава восьмая. Колдунья Маринка
Мара наблюдала за невестами Полоза из-под ресниц, словно припорошенных инеем. Как они беседуют друг с другом, как смеются, как обмениваются улыбками. Что заставляло их менять свои лица? Какой интерес они находили в том, чтобы любезничать с другими? А обмениваться колкостями? А говорить о ком-то другом за глаза?
Маре хорошо было наедине с самой собой. Спокойно. И если Морана учила ее рукоделию и всем известным наукам, то другие, выходит, и вовсе были ей не нужны.
Даже общества Кащея – своего отца, пусть и не создателя – она не искала. Тот же и вовсе сторонился людей. Не любил их и без надобности не желал видеть.
Будучи царевной, Мара могла входить в те палаты, что прятались в подземельях дворца. Там, где Кащей и пропадал. Поначалу она просто шла туда, куда идти ей велела Морана. Делала то, что мать говорит. Но со временем ею стало овладевать нечто странное… некое зовущее чувство. Подчиняясь ему, однажды Мара добралась и до подземных сводов дворца.
Странная ее глазам предстала картина. Кащей стоял посреди залы, засыпанной золотыми монетами. Просто стоял, опустив голову на грудь и – в блаженстве или изнеможении – прикрыв глаза. Казалось, он был статуей, пусть и отлитой из иного металла, чем то, что окружало его.
Ведомая все тем же зовом, Мара приходила в подземелья еще не раз. Никогда не окликала Кащея, никогда не заговаривала с ним. Просто наблюдала. Не найдя ответа сама, спросила Морану: что влечет ее супруга и царя в подземелья? Раз за разом, день за днем? Царица помрачнела.
– Колдуньи говорят, на него наслано проклятье, которое никому не под силу развеять. Может, и есть в том крупица истины, а может, истина в том, что воля Кащея слаба.
– Воля? – переспросила Мара.
Морана поморщилась. Помолчала.
– То солнце, что ты видишь за окнами дворца – тусклое, безжизненное – лишь отголосок, эхо настоящего солнца.
– Что значит «настоящее» солнце?
– То, что навеки сокрыто для нас в мире живых. – Царица роняла слова тяжело, словно камни. – Знаешь, почему в нашем дворце так много золота? Они – отлитые в металл солнечные лучи. Их сотворили особого рода искусницы. Те, что умеют переступать ту грань, которая для меня, для Кащея и для многих, многих других превращается в неприступную стену. Они сохранили для нас живое солнце.
Глаза Мораны потемнели, лицо исказила странная гримаса, уродующая красивые, почти совершенные черты.
– Это все, что нам осталось, – прошипела она.
Мара смотрела на царицу во все глаза, пытаясь понять, разгадать ее загадочные речи. Казалось, та говорила с ней на языке чужой земли. Миг, и ярость на лице Мораны сменилась спокойствием. Ледяной обжигающий ветер – штилем.
– Золото, что его окружает, вдыхает в Кащея жизнь. Без него он слабеет, чахнет. Вот отчего он так им одержим.
– Но твои палаты серебряные, – медленно произнесла Мара.
Морана горделиво вскинула подбородок, тряхнула черной копной.
– Кто-то назвал бы это смирением. Я не согласна. Это лишь благоразумие.
– Не понимаю, – призналась Мара.
И эта невозможность понять вызывало в ней еще одно, неизведанное прежде, чувство. То, от которого в груди словно что-то вскипает. То, от чего руки сами собой на миг сжимаются в кулаки.
Морана едва ли видела, что происходит с ее дочерью. И все же попыталась объяснить.
– Кащей упрямо цепляется за то, чего уже не вернуть. Он тянулся к миру старому, чах на глазах… даже золото излечить его душу оказалось не способно. Все эти рубахи да кафтаны, меха да сукно, терема да избушки, береста да гусли… Все это я создала для него, для драгоценного своего супруга. Кащей не знает другого времени и не желает знать другого мира. Как его жена, я потакаю ему в этом. – Царица усмехнулась. – Однако не во всем. Он отчего-то не слишком любит зверей, оставленных по ту сторону. Этим я и воспользовалась. Я населила наше царство созданиями, сотворенными из земли холодной и мертвой, из камней, острых граней и шипов. Даже растения на этой земле рождаются, уже будучи мертвыми.
– Зачем? – хмурилась Мара.
– Потому что это делает меня сильней. Кащей черпает свои силы в жизни и солнце, я – в смерти и холоде. Холода, правда, так мало… – вздохнула Морана. Подалась вперед, к дочери, ладонью коснулась белоснежной и холодной щеки. – Зато смерти вдоволь.
***
– Ты все знаешь.
Вздрогнув, Яснорада подняла глаза на Морану. И когда царица успела присесть рядом с ней с рукоделием? Наверное, в те тягучие мгновения, во время которых Яснорада смотрела сквозь окно на Кащеев град. Как долго она сидела так, без единого движения, не моргая и почти не дыша?
– О чем вы, моя царица?
– Твой взгляд изменился. Ты изменилась. В тебе знание, что выворачивает наизнанку душу. Взбивает ее, как перину, и возвращает уже иной.
Отнекиваться Яснорада не стала. Морана – не просто царица и Кащеева жена. Она, если верить Ягой, колдунья, чаровница. Отчего ж ей не увидеть то, что творится с душой Яснорады? Отчего не знать про другой, чуждый мир?
– Знаю.
Морана кивнула, не отрывая взгляда от вышивки.
– И что думаешь?
Вопрос звучал слишком спокойно и как-то… неправильно. Не в тон мыслям, что метались у Яснорады в голове. Будто Морана решила соткать новый ковер и предлагала цвета на выбор. «Что думаешь, красный или голубой?»
И верно, почти то же самое, что спросить: «Что думаешь, узнав, что окружающий тебя с рождения мир – это мир мертвых?»
– Не знаю, – тихо ответила Яснорада.
Не исчерпывающе, но хотя бы честно.
– Есть такая забава – дать человеку вкусное яство, и он съест его, только блюдце с ложкой не облизав. А потом сказать, что в этом ястве были смолотые пауки и черви. И человек, который мгновение назад улыбался и нахваливал стряпню хозяйки, позеленеет.
– Пауки? Черви?
Морана пожала плечами, прикрытыми царским платьем – тяжелым, серебристым, расшитым льдисто-голубым.
– Явьи дети в большинстве своем их ненавидят. Считают отвратительными. Некоторые, увидев, и вовсе вопят. Представить страшно, как бы они кричали, если бы увидели в мое заговоренное зеркало собственную душу.
– Вы о том, что наше восприятие ситуации зависит от того количества правды, которая нам дана?
Морана разулыбалась.
– Слышу чужие речи.
Яснорада вздохнула.
– А что едим мы?
– Землю, – с сожалением призналась царица. – Приукрашенную, присыпанную мороком, что снежной порошей.
– А как же скатерть?
– Самобранка? – Морана скривилась. – Ягой она досталась, матери твоей. Границу она, глядите-ка, охраняет. Вещицы чудные с той, с Навьей стороны, может забрать.
Яснорада смотрела на царицу во все глаза, старательно пряча изумление. В словах Мораны ей почудился яд, а во взгляде прищуренных глазах – зависть. Но если бы царица всерьез вознамерилась обладать тем, чем обладала Ягая… неужели что-то могло бы ее остановить? Яснорада вспомнила тяжелый, пригвождающий к месту взгляд Ягой, ее совсем не напускную суровость.
И все же что-то останавливало…
– Не послушалась меня самобранка, – поморщившись, призналась царица. – Слишком мертвая я, поди, для нее. Ничего. Не впервые Навь меня отвергает.
Набравшись смелости – все же она говорила с царицей! – Яснорада выпалила:
– Зачем делать вид, что нам нужно есть? Зачем есть землю, притворяясь, что ешь вкусные яства?
– Мертвые тоже имеют право на жизнь. – Морана сказала это тоном, который, по ее разумению, все объяснял. – Пусть даже не настоящая жизнь это, а вечное притворство.
И вовсе не гордые слова величественной царицы, а еле слышный шепот, в котором чудились отголоски стыда.
Оторвавшись от рукоделия, Яснорада посмотрела на Драгославу. Все время, что они беседовали с царицей, она чувствовала на себе взгляд чернокудрой невесты Полоза.
– Что ждет Драгославу, если она станет Полозовой женой?
Между ней и Мораной будто протянулась тонкая нить – связь двух людей, делящих одно знание. Только поэтому Яснорада осмелилась спросить.
– Золото. Много золота. – Царица изогнула тонкие губы в усмешке. – И одинокая жизнь под землей. Ни единой души там не будет, ни червей даже, ни пауков. Одна лишь выстланная позолотой гнилая, болотная тоска.
– Нельзя так, – тихо, но твердо сказала Яснорада. – Она должна знать, какая ее ждет участь.
– Заступаешься за ту, что искони тебя инаковостью попрекала? – с жесткой усмешкой спросила царица.
Мягкость Яснорады казалась ей малодушием.
– Мертвые тоже имеют право на жизнь, – тихо сказала она, вкладывая в слова собственный смысл.
Морана хрипло рассмеялась. Невесты Полоза вскинули головы. Пронзали Яснораду колкими, что снежинки, взглядами, пытаясь понять, чем смогла она развеселить царицу.
– Ох, не жалей ее, ничего о ней не зная, – отсмеявшись, сказала Морана.
– И что я должна знать о Драгославе? – насторожилась Яснорада.
– Имя ее настоящее я забрала. И может, тем сослужила ей хорошую службу. Ни Добрыня, ни другие молодцы, которых она до смерти довела, теперь ее не найдут.
Добрыня... Отчего это имя так ей знакомо?
– Я сама дала Маринке новое имя. Слава ей, я знаю, ой как дорога. – Морана расхохоталась, безмерно собой довольная. – Колдуньей при жизни была Маринка. Той, что мужей очаровывала, что женихов своих в туров превращала, если чем-то ей, своенравной, не угодили.
– Туры? – непонимающе спросила Яснорада.
И ведь знала и это слово откуда-то…
Царица указала на одного из созданий Драгославы, что бродил по дворцу. Того, что с двумя камнями вместо копыт и мощным телом, в прыжке, казалось, способным пробить в стене дыру. Голову его венчали длинные рога, расходящиеся в стороны, как раскинутые руки.
– Не тур, конечно, но его подобие. То, что осталось от вынутых из ее головы воспоминаний.
Яснорада хмурилась, стараясь выудить из собственной памяти отголоски чужих историй. И, пускай и не сразу, но вспомнилась ей одна, про богатыря Добрыню.
Наказала ему мать держаться поодаль от колдуньи Маринки, что своими чарами девятерых богатырей и простого люду извела – как лес дремучий, заколдованный, одурманила, завлекла к себе и погубила. Добрыня следовал материнскому наказу, пока, блуждая по городу, не приметил воркующих голубков и не почувствовал в них что-то неладное, колдовское. Пустил стрелу каленую, а она возьми и угоди в окно высокого терема. Терема, в котором и жила коварная колдунья Маринка. Как Добрыня пришел за стрелой, она увлечь его попыталась. Воспротивился он, и тогда в ход пошло ее колдовство. Маринка наказала Добрыню за несговорчивость, за то, что посмел ей противостоять – превратила его в златорогого тура. Буйный зверь долго бесновался на воле, сея разрушение, точно зерно. Скотину, птиц и скакунов родной тетки растоптал. Та узнала в страшном звере околдованного родного племянника, обернулась сорокой и когда Маринка отказалась облик Добрыне возвращать, ее саму в сороку превратила.
Колдунья на сорочих крыльях полетела к Добрыне-туру, села на рога и прошептала: «Согласишься пойти со мной под венец, верну тебе облик человеческий». Добрыня дал ей обещание жениться. Расколдовала его Маринка и сама стала девицей.
От скуки ли или от злости в ней неутихающей, после свадьбы она снова чары свои затеяла. Превращала Добрыню то в горностая, то в сокола. Он бился в родных стенах, когти ломал, пока жена-колдовка потешалась над его бессилием. Измученный, Добрыня попросил хоть на время обратить его человеком. Не чуя подвоха, Маринка его просьбу исполнила. А богатырь подал знак своим слугам и поданной ему острой саблей снес Маринке голову. Люди, что избавились от коварной и злой колдуньи, были только рады.
А Яснорада все пыталась понять, откуда она знает эту историю.
– Вы наказываете ее за то, что сделала?
– Наказываю? – удивилась Морана. – Да кто я такая, чтобы судить души? Что ты, я Маринкой почти восхищаюсь. Чарами – отголоском того, что от прежней жизни осталось, – она меня развлекает. Да и схоже наше с ней колдовство. Я иллюзии сотворяю, она в бездушные поделки вдыхает жизнь. Но всякое создание способно меня утомить. Не вина Маринки, что ее час почти пробил.
И к беседе с Яснорадой царица потеряла интерес. Поднялась и прошла мимо сидящей у окна Мары. Та вышивала что-то – ровно, гладко, ниточка к ниточке… как всегда. Драгослава едко называла ее «совершенством», но правды в этих словах было больше, чем желчи и ядовитой зависти. Мара была безупречна в каждом своем движении, в каждом, даже едва уловимом, жесте. Пока остальные показывали грацию в танце, мастерство в пении, ум и утонченность в стихосложении, дочь Кащея и Мораны могла просто стоять… и тем вызывать у других восхищение.
Яснорада подошла к Драгославе близко, чтобы другие не услышали их разговор. Подобрать нужные слова оказалось непросто, и недоумение в глазах бывшей колдовки Маринки стало оборачиваться раздражением.
– Не выходи замуж за Полоза, – выпалила Яснорада.
Знала, что не сумеет объяснить Драгославе, с чего вдруг той, уже оставившей за порогом мира живых собственное имя, нужно оставить и заветную мечту. Не сумеет, потому что обещала Ягой не выдавать того, что узнала. И выдать, что сказала царица, Яснорада тоже не могла.
– Он заберет тебя в темное подземелье, в котором ты останешься совсем одна.
– Вот и хорошо, – не растерявшись, отозвалась Драгослава. – Отдохну от твоего болтливого языка.
Укол несправедливый, привычный, а потому совсем безболезненный. Яснорада стояла на своем:
– Не ходи. Свобода обернется неволей, а радость – тоской. И никакое золото вернуть утерянное счастье не поможет.
«Прислушайся, – мысленно взмолилась она. – Хоть раз».
– Ты у нас ведьмой заделалась? – в лицо ей расхохоталась Драгослава.
Яснорада твердо выдержала ее взгляд. Не опустила глаза и заискивать не стала.
– Я тебя предупредила. Но воля твоя.
Развернувшись, она встретилась с застывшим, словно река зимой, взглядом Мары. Услышать беседу царевна не могла, а секретничать с ней Драгослава не станет. Но, уходя, Яснорада ощущала змейкой ползущий по спине холод. И не скажешь сразу, страх ли это навлечь на себя гнев Мораны или следующий за ней царевин взгляд.