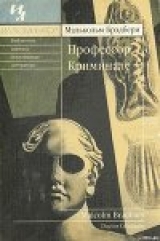
Текст книги "Профессор Криминале"
Автор книги: Малькольм Стэнли Брэдбери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Да в 1889-м повсюду творилось одно и то же. На другой легендарной реке Европы, на Рейне, в швейцарском городе Базеле, другой величайший профессор, д. н. Фридрих Ницше задался целью приблизить будущее. Выяснилось, что задача эта – нелегкая; именно в 1889-м он всерьез надорвался и начал сходить с ума. Гуляя, рассеянно напевал и гримасничал, прилюдно тискал в объятиях ломовых лошадей, повадился предрекать (без должной точности) эпидемии, землетрясения, засухи, парниковые эффекты, мировые войны и иные вселенские напасти. Папе и прочим сильным мира сего посылал письма с перечнями лиц и даже народов, подлежащих расстрелу, и подписывался «Государь Ницше». Как императору и помазаннику ему вменялось в обязанность привнести в мир судьбоносное грядущее – именно это он втолковывал академическим коллегам («Уважаемый д. н., в глубине души я куда больше желал бы быть базельским профессором, нежели Богом. Однако я не намерен попустительствовать своему эгоизму, ибо творимый мир не обязан страдать из-за эгоизма Творца»), Наконец величайшего профессора отвели к врачу. Врач осмотрел его, пометив в истории болезни: «Выдает себя за знаменитость и непрерывно требует женщину». Ну и что ж? Ведь Фридрих был герр профессор, доктор наук, создатель будущего и как таковой заслуживал простой человеческой ласки.
Несмотря на препоны, под занавес 1889 года Ницше выпустил книгу «Götzendämmerung» или «Сумерки идолов». Речь там шла исключительно о землетрясениях, апокалипсисе и скором пришествии будущего. Подзаголовок гласил: «Как философствуют молотом», и сему новому философскому методу предстояло заинтересовать собою ряд людей, в 1889 году родившихся. Один из них появился на свет на германо-австрийской границе, в Браунау, в семье таможенника, учился в школе вместе с Людвигом Витгенштейном, а затем устремился в Вену, мечтая стать художником. И стал – работал, правда, исключительно широким мазком и по штукатурке. В отместку он завербовался в германскую армию, уцелел в большой передряге 1918-го, а затем выплыл с философским молотом наперевес под именем Адольфа Гитлера и вколачивал гвозди в новый мировой порядок аж до 1939 года (50-летний юбилей «Сумерек»; через 50 лет падет Берлинская стена).
Так что, если вдуматься, 1889-й – это был тот еще год, причем для всей Европы. Год Фрейда и Ницше, Ибсена и Золя, Макса Нордау и Макса Вебера. А в Британии в 1889-м... ну, в Британии британцы, как водится, на шажок запаздывали. Книгой года (это я выяснил, готовясь к помянутому комментарию) стала «Трое в лодке» Джерома К. Джерома, хитом оперного сезона – «Гондольеры» Гилберта и Салливана: причудливые грезы и ангелическая партитура. Впрочем, бастующие докеры сочинили гимн «Красное знамя», а Джордж Бернард Шоу – «Заметки фабианца», и публика уже поговаривала о декадансе. Оскар Уайльд взмыл на гребень славы, а британского издателя книг Эмиля Золя посадили за безнравственность. Шестью годами позже, напротив, Эмиль Золя взмыл на гребень, а за безнравственность сажали Оскара Уайльда. Но ведь никто, даже Гюстав Эйфель, не обещал, что пути будущего вычерчены по линейке.
Тем не менее эти пути существуют. Через четверть века после 1889 года в Сараеве, к югу от мест, что я проезжал, застрелили пресловутого эрцгерцога. Империя Габсбургов пала, карта Европы поползла по швам, а Голубой Дунай, если верить глубокомысленным объяснениям Герстенбаккера, невиданно заголубел. Еще через двадцать пять лет пагуба прорвалась на новый этап. В Лондоне скончался Фрейд, в Париже вышел итоговый текст модернизма – «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса, над Польшей занес философский молоток Гитлер, началась вторая мировая война. Кровь и будущее стервенели, хлестали фонтаном, Голубой Дунай голубел почем зря. Еще через двадцать пять лет год выдался потише, но не без памятных вех. Пик холодной войны, эхо выстрела в Кеннеди, карьерный триумф Л. И. Брежнева, Гарольда Вильсона и Линдона Б. Джонсона, мой первый младенческий крик. А еще через двадцать пять лет... да вы и сами знаете, что было через двадцать пять лет. Земля, так благодарно льнувшая к моим мальчишеским подошвам, задрожала и разверзлась у оснований монументов сто-, пятидесяти– и двадцатипятилетней давности. Венгерская граница, которую я в этот самый момент пересекал – по вагонам уже шныряли военные, – открылась. Открылась Западу и вся Восточная Европа. Это ее пейзаж теперь за моим окном.
Восточная Европа, родина Басло Криминале, по чьему следу вез меня экспресс, неспешно подбиравшийся к Будапешту. Каким боком коснулись его все эти превратности, каким опытом отяготили? Он-то, в отличие от меня, – птенец предыдущей эпохи, выходец из межевой траншеи меж модернизмом и тем, что нынче называют постмодерном, и не зря называют, ибо надломы, тревоги, непотребства модерна, собственно, никуда не делись. Спасибо Герстенбаккеру, теперь я понимаю – Криминале соприкоснулся с наихудшим, что мне и вообразить-то трудно: холокост и Хиросима, Сталин и Эйзенхауэр, Хрущев и Кеннеди, Кастро и Мао, Андропов и Хомейни, Горбачев и Рейган. Кризисы на его глазах сменялись войнами, войны – кризисами: Суэцкий канал, венгерская революция, берлинский напряг, ракеты на Кубе, война во Вьетнаме, Пражская весна, парижские волнения 68-го, Уотергейт, Афганистан, заложники в Иране – а тут еще постоянным фоном погромыхивает Персидский залив. Он последовательно перемог оттепель, заморозки, террор, проблеск надежды и реванш террора. Он ходил по улицам оккупированных городов, пересекал границы-канканы, затылком чувствовал взгляды с вышек, ухом – сипение телефонных жучков, позвоночником – рокот казенных моторов, кожей – ножницы цензоров, душою – пальцы ГУЛАГа и прочие беды, таящиеся в оврагах и чащах, мимо коих стукотал экспресс. Его опутывали теории и концепции, авторы которых тщились впихнуть всю громаду актуального будущего в рамки одной отдельно взятой страны. Его ежедневный опыт состоял из забвений, уверток, умолчаний, подножек, торопливого пламени в пепельнице ночью, его будни пульсировали жутью и ложью, пленной мыслью, запретной строкою, залепленным ртом, пылью безликих душ, прахом уничтоженных сословий.
Но, однако ж, Криминале выжил – как, не понимаю – и сделался интеллектуальным титаном. Он ухитрялся – как, я пойму гораздо позже – пребывать с обеих сторон стены одновременно, отпирать черный ход собственным ключом, прокладывать научные пути вперед и вспять, вбок и вверх, мостить гати через саднящее, изломанное время. Мы не были ровесниками, и я не чувствовал, кто он, зачем. Кодичил прав: я просто любознательный невежда, а Б. К. – клубок конфликтов и несчастий, причаститься к которым мне не дано. Вчера, когда вино развязало Герстенбаккеру язык, он намекнул, что Криминале замешан в тайных делах, что он ловко пользовался неразберихой, жестокостью, неправдой и фальшью своего времени. Он явно замаран, его репутация под угрозой; и разобраться во всем этом – увлекательнейшая задача. Именно теперь, угодив в переходный период, постигнув незрелым своим умишком, что любая эпоха когда-нибудь да заканчивается, что любая арматура распадается ржой, что даже само это «теперь» продлится не вечно, я обнаружил вдруг, что гонка по чужому следу вовсе не так беспредметна, как казалось сперва.
Я выглянул в окно экспресса «Сальери». Вопреки общему мнению, европейские поезда неповоротливы, раздумчивы, медлительны. Они вчувствуются в каждый изгиб пересеченного ландшафта, ознобно перескакивают мосты, очертя голову кидаются в теснины, никак не предназначенные для укладки шпал. Бригады проводников сменяются в них внезапно и полностью, пассажиры спешно переходят от маниакала к депрессии и вновь впадают в маниакал. Предо мною тянулся восточно-европейский пейзаж, который ни с чем не спутаешь. Бетонные башни пригородов, спальные дома и угрюмые универмаги, дробные квадраты кварталов и битком набитые трамваи. Блеснула в очи река, промаячили шпили церквей, раскинулся во всей своей долгой красе каменный виадук. Сверясь с расписанием, я понял, что экспресс с шизофренической пунктуальностью близится к вокзалу Будапешта, схватил с сиденья «Волшебную гору», сунул в карман анорака, висевшего на одежном крючке, сдернул с багажной полки кейс и положил в него газету «Курир», достиг тамбура в тот момент, когда двери автоматически распахнулись, и шагнул на платформу.
Вокруг метались и пихали друг друга локтями люди в серых плащах и кепках из искусственной кожи; носильщики, облаченные в комбинезоны, толкали перед собою багажные тележки. Стены пестрели рекламными плакатами, где на специфически восточном языке описывались прелести специфически западных товаров: колы, джинсов, телевизоров, колготок. Вокзал до потолка был выложен бурым, зверски практичным кафелем. Я озирался в поисках Эйфелева ажурного литья, Эйфелевых стеклянных ячей, но ничто здесь не напоминало о строителе уникальных мостов. Похоже, судьба сыграла со мною очередную шутку: я прибыл в Будапешт, но прибыл на совершенно другой вокзал. Пройдя по обитому линолеумом коридору; я очутился на площади, поймал карликовое зловонное такси и назвал водителю адрес гостиницы, из которой должен был позвонить Шандору Холло – единственному и последнему свидетелю, способному сообщить что-либо о профессоре Басло Криминале.
6. Будапешт – это два города в одном...
Будапешт – ни в коей мере не один город, а два. Венский Дунай прячется в кульвертах окраин; Будапешт же великая, бурая, широкая, стремительная в восточном своем течении река властно режет пополам, разделяя его на симметричные столицы, сметанные громадными мостами, глядящиеся друг в друга через ленту воды. Сверху вниз, с крутых левобережных высот, древняя Буда смотрит на низменный, построенный в XIX веке Пешт; а пойменный Пешт снизу вверх взирает на башни, крепостные стены, седловые холмы и узкие овраги старинной Буды. Но как только такси притормозило у подъезда гостиницы, где Лавиния утром заказала мне номер по телефону из Вены, я понял, что мне не суждено пожить ни в Буде, ни в Пеште. Гостиница помещалась прямо посреди реки, на острове Маргит, куда ведет зигзагообразный мост; на мирном зеленом острове, на чайной явке влюбленных и бегунов трусцой, играющих детишек и гуляющих взрослых, а в давние, мрачные, только что канувшие времена – разведчиков, контрразведчиков и международных эмиссаров.
Наверно, при австро-венгерской монархии, в разгар belle époque квелые, зажравшиеся аристократы Центральной Европы ехали сюда, в знаменитый «Гранд-отель», и принимали горячие серные ванны, дабы смягчить последствия застарелых своих гастрономических и любовных излишеств и сразу удариться в излишества новые. Францу Шуберту здесь, говорят, полегчало, зато Францу Кафке, пишут, изрядно поплохело. После войны в Венгрии установился иной режим, и в «Гранд-отеле» исцелялись цекисты и шишки, мелкие госслужащие и почтовые экспедиторы, советские туристы и восточно-германские атташе. Именно они тогда напяливали на голову дурацкие резиновые шапочки, именно они плескались в фонтанах, нежились в серных парах, изваливались в грязях. Нынче же «Гранд-отель» не вполне соответствует своему названию, хотя гордый фасад почти не обветшал. На ухабах и виражах современности отель обрел очередное воплощение: целиком перестроился внутри и превратился в гостиницу «Рамада», чья серная вонь и неимоверная грязь услаждают носы и тела пришибленных немецких чинуш и разбитных американских путешественников.
В ловко изукрашенном вестибюле я зарегистрировался, получил ключ, поменял австрийские шиллинги на венгерские форинты. Снулый, медлительный лифт доставил меня к началу длинного коридора: двери, двери, двери, запах серы и хлорки. Мой номер обнаружился в самом конце – настоящая каморка; Лавиния сделала все, чтоб даже в бывшем будапештском «Гранд-отеле» я не больно-то кунался в роскошь. Был там, правда, балкончик с видом на быстрый Дунай, на легендарные крепостные стены правобережья, подернутые пленительной дымкой. За такое благодарить надо, а не жаловаться. Разворошив чемодан, я сел к столу, поднял телефонную трубку и набрал полученный от Герстенбаккера номер Шандора Холло. Мембрана тихонько заныла, автоответчик прошкворчал что-то по-венгерски (самый невнятный язык на планете, не считая африканских щелчковых диалектов), вякнул несколько помпезных тактов из Бартока, финально заныла мембрана.
Я накручивал диск до вечера. Судя по Герстенбаккеровым рассказам, Шандор Холло преподает в университете философию, и я живо воображал, как он сейчас консультирует студентов, читает лекцию, горбится в библиотеке – что там еще полагается преподавателю, если он не профессор Кодичил? И все равно я звонил каждые полчаса, пока над рекою не простерлись ноябрьские сумерки, а на крутом склоне Буды не засияли окна домов и подсветка руин. Только тогда я оторвался от телефона, спустился на первый этаж и завернул в бар. У стойки по обе стороны от меня сидели сплошь мадьярские красотки в мини и кожаных ботфортах выше колен. Сидели, потягивали коктейль и с нескрываемым интересом меня рассматривали. Я спешно допил вино, подошел к дверям ресторана и сказал метрдотелю, что намерен поужинать.
Тот сверился со списком, что лежал перед ним на аналое конторки. «Вы ведь, сэр, кино к нам приехали снимать?» «Н-ну да, кино». Он кивнул-. «Так, сэр, сегодня ужинают: телегруппа Би-би-си – фильм «Эшенден», группа «Гранада ти-ви» – фильм «Мегрэ», Четвертый канал – хроникальный сериал о Европейском сообществе, отличный, по-моему. Вы с кем?» «А ни с кем, – ответил я. – Я тут сам по себе». «Ох, как плохо, как плохо, – проговорила одна из мадьярских красоток, надвигаясь со стороны бара с бокалом кампари с содовой и становясь вплотную. – Сам по себе – нехорошо. Если ты милый и есть двадцать доллар, я ужинать с тобой». «Столик на двоих, сэр?» – спросил метр, и в глазах его блеснуло неподдельное сострадание. «Спасибо, нет. Мне как раз нравится, когда я сам по себе». «Не хочешь? – воскликнула мадьярская красотка. – Совсем нехорошо. Двадцать доллар у всех бывает». «Извините, в другой раз. Мне еще работать вечером». «Ах, работать, – сказала девушка. – Жалко, ладно, завтра, когда у тебя есть много-много доллар. По себе нельзя, неправильно. Я всегда в баре, засеки».
Я лег в постель посреди широкого Дуная и уснул – как дитя, как перст. Проснулся рано, выглянул в окошко. Бегуны в тренировочных уже трусили по дорожкам, купальщики с полотенцами направлялись к серным отрадам. Рыбаки рыбачили, птицы взмывали и порхали, огромные, утлые русские теплоходы скользили мимо острова – к Черному морю, с Черного моря. Я набрал вчерашний номер, и на сей раз мне ответили: «Холло Шандор». «Будьте добры, мне нужна ваша помощь». «Вы ее получите». «Но я даже не объяснил, в чем дело». «Все равно получите», – заверил Холло Шандор. Слегка опешив, я сказал, что я британский телевизионщик, делаю фильм о Басло Криминале и хотел бы проконсультироваться. «Фильм? – переспросил он. – Все кому не лень снимают кино в Будапеште. Тут дешевле. То из нас корчат Париж, то Москву, то Ниццу, то Лондон, то Сидней – это в Австралии. Но из Будапешта никогда не корчат Будапешт. Кино о Будапеште снимают в Праге. Что ж, вы хотите поговорить со мной о вашем фильме?» «Если у вас найдется минутка, – ответил я. – Я так понял, вы человек занятой».
«Для вас – найдется, – сказал Холло. – Встречаемся в двенадцать у памятника Петёфи на Дунайском проспекте. Петёфи, видите ли, наш великий поэт, и вам любой укажет к нему дорогу. Кстати, вы на командировочных?» «Да». «Это хорошо. Посидим в приличной обстановке. Я много таких мест знаю. До встречи у Петёфи». Вестибюль кишел молодыми людьми из разнообразных (и конкурирующих) киногрупп. Они набивали фургоны и трейлеры актерами, массовкой, синхронизаторами, камерами, блондинками и рыжими – эти-то, как я усвоил, в любой киногруппе найдутся непременно. Не за горами день, когда в Будапешт прибудет и наша команда. Проект «Криминале» – всего лишь один из многих. Холло ведь сказал, что в Будапеште снимают все кому не лень.
Я позавтракал, сел на трамвай, сошел в Пеште и быстро понял, что в этом городе очень легко отслеживать, как с времени слазит кожа. Почти все таблички с названиями улиц были перечеркнуты красной краской, а сбоку или повыше написаны новые названия. Площадь Карла Маркса, где я сошел с трамвая, явно утратила имя Карла Маркса. Но некий реликт все-таки уцелел. На площади возвышалось чудесное зданьице Западного вокзала, чье изящество вполне оправдало мои предчувствия. Я прибыл на другой вокзал просто потому, что здешние поезда шли на восток, в пушту и очарованную Трансильванию Скорей всего, именно отсюда герой Брэма Стокера, наивный Джонатан Харкер, пустился в роковое каникулярное странствие по землям Влада-господаря; столетний юбилей этого романа вот-вот предстоит праздновать наряду с иными столетними юбилеями. Увы, Джонатану не привелось увидеть, чем дополнил творенье Гюстава Эйфеля архитектор новейших времен. На стену вокзала налег «Макдональдс», конвейер гамбургеров. Сие практичное мясное кушанье, пожалуй, избавило бы графа Дракулу от множества хлопот.
Налюбовавшись, я зашагал по живописному бульвару кольца Ленина, которое утратило имя Ленина и стало кольцом Терез. Лепка и перила балконов изъязвлены пулями – то ли след войны, то ли мета венгерского возрождения; магазины торгуют плейерами «Сопи», компьютерами «Маннерсман», а также марками, марципанами, слоеными пирожными. В стильном кафе (красное дерево, мрамор), где все, вплоть до содержимого сахарниц, казалось, пребывает неизменным аж с начала века, посиживали влюбленные и бабуси в пышных меховых шапках. Я выпил ядреного кофе, съел мороженое; духу Маркса и Ленина со товарищи вокруг не чуялось. Пора на Дунайский, к памятнику Петёфи – одному из немногих памятников Восточной Европы, не сброшенных с пьедестала.
Шандор Холло оказался не таким, каким я его представлял. Я искал глазами хрупкого, зацикленного философа с какой-нибудь потертой конволюткой и с неотвязной думой на челе. А рядом петлял парень в пижонском белом плаще, и темная его шевелюра пестрела искусственной сединой. Раза три он глянул со значением, словно не прочь был за мной приударить, а затем подошел и протянул руку: «Вы Франц Кей?» «Не совсем. Фрэнсис Джей будет точнее». «Джей, Кей – какая разница? – сказал он. – Вы ж не Кафка. А я Холло Шандор по-нашему, Шандор Холло по-вашему. Разницы опять-таки никакой. Имена ничего не решают. Итак, вы хотите обсудить сюжет вашего фильма» «Я ехал сюда специально, чтоб разыскать вас». «Тут, на улице, по душам не побеседуешь, – сказал он. – Национальное гостеприимство штука живучая. В Буде есть шикарный ресторан, вам понравится. У меня, кстати, импортная машина, мигом докатим». «Ладно, идемте к вашей машине», – согласился я.
«Минуточку, – сказал он. – Прежде чем проститься с несравненным Петёфи – маленький урок венгерского. Видите две горы на том берету? – Конечно, я видел. – А видите на горе Геллерт, слева, монумент с крылатой Победой на вершине? Он символизирует нашу глубокую признательность советским солдатам, которые столь великодушно нас освободили. И сооружен, естественно, теми же советскими солдатами. Зато справа, на горе, где крепость, – высокое белое здание, видите?– Я видел. – Оно символизирует нашу глубокую признательность американцам, которые столь щедро одарили нас упоительной кока-колой. И сооружено, естественно, этими самыми американцами. Отель «Хилтон». Венгры твердо усвоили, что их историческая судьба то и дело сигает с левого холма на правый, с правого на левый. Нынче наша участь – «Хилтон». Ну и чудненько. Койка с мини-баром вольготней, чем танк. Или нет?»
Мрачно кивнув сам себе, Холло направился к машине – глянцевому красному «БМВ» с гоночным орнаментом на капоте и разлапистыми крыльями, нагло перегородившему тротуар. «Суперавтомобиль. Залезайте, прошу. Кстати, можно курить. Тут вам не Запад, тут свободная страна». Я погрузился в недра переднего сиденья, Холло рванул с места, развернулся и помчался по мосту Эржебет, распихивая дребезжащие желтые трамваи и одышливые неуклюжие «трабанты». На правом берегу мост упирался в скверик, в центре которого была установлена заляпанная краской глыба бетона. «Фрагмент Берлинской стены, – ткнул пальцем Холло. – Нам его презентовали за то, что мы открыли границу и отпустили своих немцев на все четыре стороны. Вы должны знать, что великий перелом начался именно тут. Немцы его называют Wende – поворот. Да, кстати, не нужен кусочек на память? Я вам достану первоклассный обломок, настоящий, а то многие приторговывают поддельной стеной. И шлемами русских танкистов». Машина взбиралась по склону, огибая громадную, заново отстроенную крепость. Холло беспечно орудовал переключателем скоростей. Я внимательно посмотрел на него: «Вы вправду преподаете в университете?»
«Если б преподавал, не видать мне этой машины, – засмеялся он. – Знаете, сколько в Венгрии получает преподаватель? Раз в шесть меньше, чем на Западе. Нет, я чаппи». «Что такое чаппи?» «У вас же английский – родной. Чаппи – это резвый молодой бизнесмен». «Ах, яппи!» – сообразил я. «Гляньте, какие у меня красные подтяжки. – И он стал перечислять, чем оснащен салон «БМВ»: – Компакт-плейер, эквалайзер, противоугон, даже файлофакс. Тут по телику показывали ваш фильм «Столица», и мы расчухали что к чему». «Потрясающе», – сказал я. «Как поживает Железная леди? – осведомился он. – Надеюсь, неплохо. Всё ратует за свободный рынок?» «Дня два назад она ушла в отставку. Я только в поезде об этом узнал». «Скинули ее? Да быть того не может». «Одиннадцать лет – долгий срок». «Ерунда, – сказал Холло. – Слушайте, пришлите ее сюда, немедленно. Мы ее обожаем, мы без нее как без рук. У нас в правительстве на двадцать лбов одна извилина». «Боюсь, это нереально». «Еще бы! Национальное достояние, вывозу не подлежит, – сказал Холло. – Ну, приехали».
Гора была исчерчена зелеными улочками, усыпана лавчонками и особнячками. Машина остановилась на полпути между собором Св. Матяша и «Хилтоном»; «Хилтон» выглядел внушительней, чем собор. «Вот он, Рыбацкий бастион, слыхали о нем? – спросил Холло – Главная будапештская достопримечательность». Я вспомнил, что любовался Рыбацким бастионом из гостиничного номера: ажурное кружево зубчатых стен и игрушечных башен. Отсюда открывался картинный вид на остров, на дунайские суда и струи, на Пешт, на Парламент, на электростанцию, на неказистые блочные спальные высотки окраин – и на пригородную равнину, плоско уходящую к линии горизонта. Рядом зазывали покупателей художники и гончары, резчики и вышивальщицы; фольклорный усач в мешковатых белых шароварах наяривал на нескольких дудках сразу. «М-да, – сказал я, – таких панорам в Европе и впрямь раз-два и обчелся».
«Мило, мило, чего уж там. – Холло зажег сигарету. – Оцените нашу изобретательность. Перед вами крупный европейский город, даже два: старый и новый. Но загвоздка в том, что построены наши европейские города вовсе не в Европе. Будапешт – это Буэнос-Айрес на Дунае, сплошная показуха». «В каком смысле показуха?» «Изначально эта застройка почти сплошь проектировалась не для здешних мест. Вон у самой реки прелестный парламент, который, кстати, едва заседает. Архитектору понравилась ваша Палата общин, и он соорудил нам такую же. Цепной мост выстроил шотландец в клетчатой юбке. Француз Эйфель – вокзал. Бульвары парижские, кафе венские, банки английские, «Хилтон» американский. Понятно, почему тут снимают кино: наш город – все города скопом. А эта древняя крепость, Рыбацкий бастион, с которого, кстати, никто и не думал удить рыбу, – просто стилизация начала XX века. Будапешт – как Диснейленд, а каждый венгр в нем – Микки-маус».
«По-моему, город изумительный», – сказал я. «По-моему, тоже, – поддакнул Холло. – Великий город-обманка. Два миллиона населения, и любой, кого ни возьми, – европеец, если не брать в расчет мадьярских националистов. Художники, ученые, актеры, танцоры, киношники, выдающиеся спортсмены, самобытные музыканты. Теперь все они, к сожалению, работают таксистами, но дайте срок. А отъехать от города в пушту – Европа мигом исчезнет. Крестьянские дроги, утиные стада, пастухи в овчине. Ниже по Дунаю – бескрайняя топь; старухи горбят спину у берега, жамкают белье в илистой жиже. Это и есть Венгрия. Два миллиона интеллектуалов, восемь миллионов крестьян, а общее у них только одно. Барацк-палинка, абрикосовый самогон. Давайте-ка выпьем палинки и поговорим о вашем фильме». Он повернулся к панораме спиною. По переулку меж церковью и «Хилтоном» мы вышли на симпатичную маленькую площадь. Холло свернул во двор какого-то магазина. Мы миновали высокую арку ворот, открыли заднюю дверь, подняли гардину и очутились в ресторанчике под названием «Поцелуй».
Из садка при входе обреченно таращились серебряно-черные рыбины съедобных пород. В кабинках за обильно накрытыми столиками сидели немногочисленные, одетые с иголочки клиенты. Холло постучал по стенке садка: «Наш озёрный фогаш, объедение. Но сперва – палинка». Ее принес официант в камзоле с народным орнаментом. «За ваши здоровье и щедрость, – провозгласил Холло, щеголяя красными подтяжками и сорочкой в голубую полоску. – Дай бог, чтоб их не убавилось. Итак, вы снимаете фильм о Криминале Басло. Чем я-то могу быть полезен?» «Честно говоря, я думал, что вы философ». «Был когда-то, – сказал Холло. – Но теперь – нет. Или вы не в курсе, что философия умерла? На Земле не осталось ни одной идеи. Здесь все идеи задушил марксизм-ленинизм, на Западе – деконструкция. Мы объелись реалистическими концепциями, а вы их не успели распробовать. Времена, когда действительность укладывалась в умозрительную схему, прошли. Гегель устарел. «Если мир не соответствует моей теории, тем хуже для мира», так, кажется? Нет, я сделался прагматиком и сменил род занятий».
«Чем же вы занимаетесь?» – спросил я. «Я вам рассказывал про Wende, про великие перемены. Возьмем, к примеру, ГДР – она была весьма академичным государством. Сотни профессоров достигли таких высот теоретической мысли, что преподавание стало им как бы и ни к чему. Они писали установочные трактаты по марксистской эстетике, марксистской политэкономии. И на что сейчас эти профессора годны? Да ни на что. Им надо начинать все сначала, осмысливать реальность заново, как ее осмысливает младенец. Студентам от них мало проку. Это и есть Wende, понятно? А я – Wendehals, изменник, сменщик, меняла». «Ясно, – сказал я. – И что же вы изменяете?» «Самого себя и окружающее. – Холло повертел в пальцах рюмку. – Как бы это попроще? Устраиваю дела». «Какие дела?» «В эпоху перемен впечатление такое, что всем чего-то недостает. Вам требуется комфортабельная квартира в Буде? Кондитерская в Сегеде? Льготная международная линия? Факс австрийского производства? Может, вы хотите стать владельцем трамвайного депо в Чепеле или совладельцем порноателье на озере Балатон? Я это вам устрою. Вы начнете снимать, понадобятся оборудование, транспорт, павильоны, гостиница, содействие властей. Это я тоже устрою».
«Отказываться грех, – поблагодарил я. – Но раньше-то вы философию преподавали?» «Да. В университете имени Лоранда Этвеша. Марксизм и этику соцобщежития». «Значит, вы развернулись на сто восемьдесят градусов». «Ну, не совсем так, – улыбнулся Холло. – Видите ли, Маркс уповал на то, что в будущем материализм станет общепринятым мировоззрением. Но как этого добиться, увы, не придумал. Я в этом смысле продвинулся дальше, чем он». «Басло Криминале тоже преподавал в университете?» – спросил я. «И да, и нет, – ответил Холло. – Читал иногда лекции. Но в основном корифействовал в Академии наук, так что наши его редко лицезрели». «Но вы были с ним близко знакомы?» «Не сказал бы. Тогда никто ни с кем близко не знакомился. Благоразумней было просто раскланиваться». «Вы преподавали в здешнем университете, а потом вдруг – раз! – и уехали в Вену?» «А вы бы не уехали – от всех этих марксизмов и соцобщежитий?» «Неужели уехать было так легко?» «Ну, меня выпустили. Всех, у кого были связи и хоть какие-то зацепки наверху, выпускали».
«А в Вене вы стали аспирантом профессора Кодичила и написали за него биографию Криминале?» Холло поперхнулся второй порцией палинки и посмотрел на меня в упор: «Почему вы об этом спрашиваете? Вы из полиции или как?» «Не бойтесь, я журналист. Собираю информацию о Басло Криминале». «Исключительно для фильма?» «Исключительно. Однако этот человек, к несчастью, темная лошадка. О нем, похоже, ни у кого нет точных данных. Вот я и хочу найти того, кто написал его биографию». Не отводя взгляда, Холло сказал: «Не я, уверяю вас». «То есть Кодичил все-таки сам ее написал?» «Этот старый хрен? Ну вы загнули! Нет, и Кодичил ее не писал». «Выходит, некто третий? – спросил я. – Кто же он? Вы его знаете?» Появился официант с двумя столовыми приборами, но Холло что-то нашептал ему, и тот унес их обратно. «Конечно знаю, – сказал Холло, когда официант отошел на безопасное расстояние. – А вы не догадываетесь?» «Нет». «Этот третий – Криминале Басло собственной персоной».
«Но эта книга – не автобиография. Она ведь крайне нелицеприятна». «Верно, верно. И все-таки ее написал Басло». «Вы хотите убедить меня, что он сам себя в пух и прах раскритиковал?» «А что такого?» – удивился Холло. Окончательно запутавшись, я потянул за другую ниточку: «Ладно, а почему он не мог выпустить ее здесь? Для чего ее надо было издавать на Западе, в Вене?» «Тоже мне Запад, – сказал Холло.– Что Австрия, что Венгрия – Центральная Европа». «Положим. Но почему он не подписался собственным именем? Зачем понадобился Кодичил?» «Я вижу, вы малый нахватанный. Может, читали знаменитую статью такого француза, Ролана Барта, «Смерть автора»?» «Читал, и она мне очень понравилась. Смерть автора позволяет письму обрести существование. Но при чем тут Барт?»
«Знаете, я б сочинил статью посильнее – «Сокрытие автора». – Холло снова закурил. – Статью об авторе, который вот он, здесь, – и одновременно не здесь. О книге, которая есть – и которой нет. О читателе, который является или не является таковым в зависимости от своего местоположения. О тексте, который нечто означает – и не означает ничего. Вы слыхали о Лукаче?» «Выдающийся мыслитель-марксист». «Вы так считаете? – спросил Холло. – Я его называю «маэстро риска». Он был способен предпослать какой-нибудь своей книге вступление в третьем лице, чтоб все поняли: он-де уже не тот Лукач, что написал саму эту книгу, да и тот-то Лукач ее написал по нелепой случайности. Мы тут в совершенстве постигли мастерство риска».








