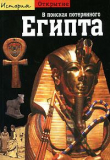Текст книги "Хозяйственная этика мировых религий: Опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм"
Автор книги: Макс Вебер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Промежуточное рассмотрение: теория уровней и направлений религиозного неприятия мира
Смысл рационального конструирования мотивов неприятия мира. – Типология аскезы и мистики. – Направления неприятия мира: экономическая, политическая, этетическая, эротическая и интеллектуальная сферы. – Уровни неприятия мира. – Три рациональные формы теодицеи.
Область индийской религиозности, которую мы собираемся затронуть, являлась колыбелью форм религиозной этики, наиболее отрицательно относившихся к миру теоретически и практически из всех когда-либо существовавших. В этом отношении она резко контрастирует с Китаем. Столь же высокого развития здесь достигла и соответствующая «техника». Монашество и типичные манипуляции с аскезой и созерцанием не просто возникли здесь раньше, но и получили очень последовательную реализацию; вероятно, исторически эта рационализация начала свой путь по миру именно отсюда. Однако вначале целесообразно с помощью схематических и теоретических конструкций кратко прояснить, какие мотивы вызвали появление религиозных этик неприятия мира и в каких направлениях они развивались, другими словами – каким мог быть их «смысл».
Предлагаемая схема создается лишь в качестве средства идеально-типической ориентации, а не для выдвижения собственного философского учения. Мысленно сконструированные типы конфликтов между «порядками жизни» указывают на то, что подобные внутренние конфликты возможны и «адекватны», а вовсе не на отсутствие перспективы, в рамках которой они могли бы считаться «снятыми». При этом, как легко заметить, отдельные ценностные сферы рассматриваются в такой рациональной завершенности, в какой они редко проявляются в реальности, хотя могут проявляться и проявлялись в исторически значимом виде. Там, где историческое явление отдельными чертами или целиком приближается к одному из данных образований, эта конструкция позволяет установить его место в типологии через указание на близость или удаленность от теоретически сконструированного типа. Таким образом, эта конструкция представляет собой лишь техническое средство, позволяющее прояснить материал и уточнить терминологию. Но в определенных обстоятельствах она может быть чем-то большим, ведь рациональное в смысле логической или телеологической «последовательности» той или иной интеллектуально-теоретической или практикоэтической позиции имеет (и всегда имело) власть над людьми, какой бы ограниченной и неустойчивой эта власть ни была в сравнении с другими действующими в истории силами. Именно созданные интеллектуалами рациональные по замыслу религиозные толкования мира и этики стремились соответствовать принципу последовательности. В отдельных случаях они не выполняли требование «непротиворечивости» и включали в свои этические постулаты множество рационально не выводимых положений, но тем не менее во всех них заметно – и часто очень сильно – воздействие рацио, особенно в телеологическом выведении практических постулатов. Уже по этой причине можно надеяться на то, что посредством целесообразно конструируемых рациональных типов, т. е. выделения внутренне «наиболее последовательных» форм практического поведения, нам удастся отобразить все их многообразие. Такого рода опыт в области социологии религии прежде всего может внести вклад в типологию и социологию самого рационализма. Поэтому следует исходить из наиболее рациональных форм, которые может принимать реальность, чтобы выяснить, в какой мере определенные теоретически выводимые рациональные выводы были сделаны на практике, а если не были сделаны, то почему.
Во вводных замечаниях и далее говорилось о значении концепции надмирного бога-творца для религиозной этики, особенно для активно-аскетического поиска спасения (в противоположность созерцательно-мистическому), внутренне родственного представлению о безличности и имманентности божественной власти. Однако эта взаимосвязь[468]468
На нее неоднократно справедливо указывал Э. Трельч.
[Закрыть] не была безусловной, и надмирный бог сам по себе не определял направление развития аскезы на Западе. В принципе, христианская Троица с ее богочеловеческим спасителем и святыми, скорее, более далека от идеи надмирного бога, чем бог иудаизма, особенно позднего, или исламский Аллах.
И хотя в иудаизме была мистика, в нем почти полностью отсутствовала аскеза западного типа. Древний ислам прямо отвергал аскезу; уникальная религиозность движения дервишей возникла из совершенных иных (мистико-экстатических) источников, а не из отношения к надмирному богу-творцу, и по своей внутренней сущности также была далека от западной аскезы. Как бы ни была важна концепция надмирного бога, она, несмотря на родство с мессианским пророчеством и деятельной аскезой, все же влияла не сама по себе, а лишь вместе с другими обстоятельствами, прежде всего такими, как характер религиозных предсказаний и обусловленные им пути спасения. Для прояснения терминологии следует подробнее остановиться на понятиях «аскеза» и «мистика», которые неоднократно противопоставлялись друг другу.
Во вводных замечаниях в качестве противоположных форм неприятия мира были названы, с одной стороны, активная аскеза, т. е. богоугодная деятельность в качестве орудия в руках бога, с другой – созерцательное обладание спасением в мистике, которое означает «наличие», а не действие. Во втором случае индивид является не инструментом, а «сосудом» для божественного, и потому действие в миру представляет угрозу для совершенно иррационального и внемирского состояния спасенности. Противоположность становится радикальной, если деятельная аскеза в миру принимает вид его рационального преобразования с целью обуздания тварной греховности с помощью труда в мирской «профессии» (мирская аскеза) и если мистика находит свое полное завершение в радикальном уходе от мира (избегающее мир созерцание). Противоположность становится менее резкой, если деятельная аскеза ограничивается сдерживанием и преодолением тварной греховности в самой себе, вследствие чего сосредоточенность на активных неопровержимо богоугодных действиях по спасению доходит до отказа от действия в мирских порядках (избегающая мир аскеза), приближаясь по внешнему поведению к избегающему мир созерцанию, и если созерцательный мистик не отказывается полностью от мира, а остается в нем подобно мирскому аскету (мирская мистика). На практике эта противоположность действительно может в обоих случаях исчезнуть, и тогда возникает какая-либо комбинация из двух путей поиска спасения. Однако она может сохраняться даже под внешне схожей оболочкой. Для подлинного мистика действует принцип: сотворенное должно молчать, чтобы мог говорить бог. Он «находится» в миру и внешне «вписывается» в его порядки, но лишь для того, чтобы подтвердить свою избранность к спасению, противостоя искушению признать значимость мирской суеты. Как мы могли видеть у Лао-цзы, специфическое смирение, минимизация действий, свое рода религиозное инкогнито – вот типичное поведение мистика: он подтверждает себя вопреки миру, вопреки своим действиям в нем. А мирская аскеза, напротив, подтверждает себя посредством действия. Для живущего в миру аскета поведение мистика – косное самонаслаждение, а для мистика поведение действующего в миру аскета – тщеславное самодовольное сращивание с богомерзкой суетностью мира. С помощью «счастливой ограниченности», которую обычно приписывают типичному пуританину, мирская аскеза осуществляет сокрытые в своем конечном смысле позитивные божественные решения, присутствующие в установленном богом рациональном порядке всего тварного, тогда как для мистика единственно значимым для спасения является именно схватывание конечного, совершенно иррационального смысла в мистическом переживании. Эти типы поведения предполагают столь же противоположные формы ухода от мира, которые будут рассмотрены нами отдельно.
Рассмотрим детально напряженность между миром и религией, опираясь на сделанные во «Введении» замечания и развернув их несколько иным образом.
Типы поведения, которые, оформившись в методическое ведение жизни, образовали зачатки как аскезы, так и мистики, выросли из магических предпосылок. Они использовались либо для пробуждения харизматических качеств, либо для предотвращения злых чар. С точки зрения истории развития, первое было, конечно, более важным. Уже здесь проявился двойственный облик аскезы: с одной стороны, отход от мира, с другой – овладение миром с помощью магических сил. Исторически маг был предшественником пророка: и пророка, дававшего личный пример для подражания, и пророка-спасителя. Как правило, пророк и спаситель легитимировали себя через обладание магической харизмой. Но у них это было лишь средством достижения признания в качестве примера для подражания, посланца или обладателя качеств спасителя. Содержание пророчеств или заповедей спасителя ориентировало способ ведения жизни на достижение спасения, что означало его относительно рациональную систематизацию либо в отдельных моментах, либо целиком. Последнее было правилом во всех подлинных религиях «избавления», которые обещали своим последователям освобождение от страдания, причем чем сублимированее, глубже и принципиальней понималась сущность страдания, тем в большей мере. Нужно было вызвать у последователя такое длительное состояние, при котором он был бы внутренне невосприимчив к страданиям. Вместо резкого и внеобыденного, т. е. временного священного состояния, достигнутого посредством оргии, экстаза или созерцания, было необходимо достичь длительного переживания, гарантирующего спасение: абстрактно выражаясь, в этом и состояла рациональная цель религии избавления. Если в результате пророчества или пропаганды спасения возникала религиозная община, то забота о регламентации жизни сначала оказывалась в руках харизматически квалифицированных преемников, учеников и апостолов пророка или спасителя. В определенных, часто повторяющихся условиях, которые мы здесь не будем рассматривать, она попадала в руки наследственной или служебной иерократии, тогда как сам пророк или спаситель, как правило, боролся со старыми иерократическими силами – колдунами или священниками, противопоставляя их освященному традицией сану свою личную харизму и стремясь сломить их власть или подчинить себе.
Как следует из всего сказанного, религии пророков и спасителей в большинстве исторически важных случаев находились не только в очень острых (что самоочевидно в рамках принятой терминологии), но и в продолжительных напряженных отношениях с миром и его порядками. Уровень напряженности зависел от того, являлись ли они подлинными религиями избавления, что вытекало из смысла избавления и из сущности пророческого учения о спасении, особенно если оно развивалось в направлении рациональной этики, ориентированной на внутренние религиозные средства спасения. Говоря обычным языком, этот уровень повышался по мере того, как из «ритуализма» сублимировалось «религиозное убеждение». Напряжение росло в той мере, в какой рационализация и сублимация внешнего и внутреннего обладания (в самом широком смысле) усиливались «мирскими» благами. Рационализация и сознательная сублимация отношений человека к обладанию внешними и внутренними, религиозными и мирскими благами подталкивали к осознанию внутренних закономерностей различных сфер, а тем самым и к напряженности между ними, скрытой для изначального непосредственного отношения к внешнему миру. Это – самое общее и очень важное для истории религии следствие того, что обладание (мирскими и внемирскими) благами развивалось в направлении рационального, сознательно достигаемого и сублимированного посредством знания. Проясним на примере ряда этих благ типические явления, которые в каком-либо виде встречаются в различных религиозных этиках.
Если пророчество избавления создавало общины на чисто религиозной основе, то первой силой, с которой оно вступало в конфликт, была естественно возникшая родовая общность, опасавшаяся утратить свое влияние. Кто не может отречься от членов своей семьи, отца и матери, тот не может стать учеником Иисуса: «Не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34), – сказано в этой (и только в этой) связи. Конечно, подавляющее большинство религий также регламентировало мирские отношения почитания. Но то, что спаситель, пророк, священник, духовник и брат по вере в конечном счете должен был стать для верующего ближе, чем биологические родственники и супруги, становилось тем более самоочевидным, чем шире и глубже понималась цель избавления. Даже относительным обесцениванием данных отношений и разрушением привязанности к магии и исключительности родовых связей пророчество создавало новое социальное сообщество – прежде всего там, где оно превратилось в сотериологическую общинную религиозность. Внутри него развивалась этика религиозного братства. Сначала чаще всего просто перенимались принципы социально-этического поведения в «соседском союзе» – в сообществах односельчан, сородичей, членов одного цеха, участников военного и морского похода, охотников. В них действовали два элементарных принципа: 1) дуализм внутренней и внешней морали; а применительно к внутренней морали – 2) простая реципрокность: «Как ты относишься ко мне, так и я – к тебе». Применительно к экономике отсюда вытекал принцип братской помощи попавшему в беду, ограниченный рамками внутренней морали: бесплатное пользование предметами, беспроцентная ссуда, долг гостеприимства и поддержка неимущих со стороны состоятельных и знатных, безвозмездный труд на земле соседа или господина в обмен на содержание. И все это согласно, конечно, не рационально просчитанному, но эмоционально понятному принципу: то, что сегодня требуется тебе, завтра может потребоваться мне. Поэтому право торговаться (при обмене и ссуде) и длительное закабаление (например, вследствие задолженности) были ограничены внешней моралью, действовавшей в отношении чужаков. Общинная религиозность перенесла эту древнюю экономическую соседскую этику на отношения с братьями по вере. Помощь вдовам и сиротам, больным и обедневшим братьям по вере со стороны знатных и богатых, особенно их пожертвования, от которых зависели как священные музыканты и маги, так и аскеты, стали основной заповедью всех этически рационализированных религий мира. В пророчествах избавления конститутивным принципом взаимоотношений внутри сообществ было общее для всех последователей страдание – действительное или постоянно грозящее им, внешнее или внутреннее. Чем рациональнее и, с точки зрения этики убеждения, сублимированнее понималась идея избавления, тем большую внешнюю и внутреннюю значимость приобретали подобные заповеди, возникшие из этики реципрокности соседских союзов. Во внешних отношениях они доходили до всеобщей братской любви, а во внутренних – до чувства милосердия, любви к страждущему, к ближнему, к человеку и, наконец, к врагу. В рамках концепции мира как места незаслуженного страдания границы религиозного союза и факт вражды представали следствием несовершенства и порочности всего эмпирического, порождавших само страдание. То же психологическое воздействие оказывала эйфория, свойственная всем видам сублимированного экстаза, поэтому все они, начиная с благоговейного умиления и заканчивая чувством непосредственной общности с богом, источали безобъектный акосмизм любви. В религиях спасения глубокое блаженство и акосмическая доброта героев соединялись с милосердным знанием о природном несовершенстве как своей собственной сущности, так и всего человечества. Правда, в остальном и психологическая окраска, и рационально-этическое толкование этого внутреннего настроя могли различаться. Однако его этические требования всегда были направлены на универсалистское братство, выходящее за пределы любых социальных союзов, часто – включая свой собственный религиозный союз. Чем последовательнее реализовывался этот принцип религиозного братства, тем жестче он сталкивался с мирскими порядками и ценностями. И чем сильнее они, в свою очередь, были рационализированы и сублимированы в соответствии со своими закономерностями, тем непримиримее становился конфликт.
Отчетливее всего это проявилось в экономической сфере. Самоочевидной целью всякого первоначального – неважно, магического или мистагогического – воздействия на духов и богов в интересах конкретных индивидов, наряду с долголетием, здоровьем, почетом, продолжением рода и, возможно, лучшей потусторонней судьбой, всегда было богатство. Это касается как элевсинских мистерий, так и финикийской и ведической религии, китайской народной религии, древнего иудаизма, древнего ислама и предсказаний благочестивым индуистским и буддистским мирянам. А сублимированная религия спасения и рационализированное хозяйство, напротив, оказывались во все более напряженных отношениях друг с другом. Рациональное хозяйство – это деловое предприятие. Оно ориентируется на выраженные в деньгах цены, которые устанавливаются в ходе столкновения интересов людей на рынке. Без оценки в деньгах, т. е. без подобной борьбы, невозможна никакая калькуляция. Деньги – самое абстрактное и самое «безличное», что есть в человеческой жизни. Поэтому чем больше космос современного рационального капиталистического хозяйства следовал своим имманентным закономерностям, тем недоступнее для него становилась какая-либо мыслимая связь с этикой религиозного братства. И это усиливалось по мере того, как он становился все более рациональным и тем самым все более обезличенным. Отношения между господином и рабом можно было регулировать этически именно потому, что это были личные отношения. Но это было невозможно – по крайней мере не в том же смысле и не с тем же успехом – применительно к отношениям между меняющимися владельцами залоговых расписок и незнакомыми с ними, также меняющимися должниками ипотечного банка, между которыми не было никакой личной связи. А если бы такие попытки были предприняты, то это привело бы к тому, что мы обнаружили в Китае – к препятствиям для развития формальной рациональности, поскольку формальная и материальная рациональность находились здесь в состоянии конфликта. Поэтому религии спасения – хотя в них самих, как мы видели, была заложена тенденция к своеобразному обезличиванию любви в духе акосмизма – с глубоким недоверием наблюдали за развитием экономических сил, столь же безличных и, пусть и в ином смысле, специфически враждебных к братским отношениям. Их отношение к хозяйственной жизни долгое время характеризовалось католическим принципом «Deo placere non potest»,[469]469
Не может быть угодным Богу (лат,). – Примеч. перев.
[Закрыть] а привязанность к деньгам и имуществу, несмотря на всю рациональную методику спасения, вызывала у них опасение, доходящее до отвращения.
Привязанность религиозных сообществ, их пропаганды и самоутверждения к экономическим средствам и их приспособление к культурным потребностям и повседневным интересам масс принуждали к компромиссам, лишь одним из примеров которых является история запретов процентов. Но само это напряжение в конечном счете было вряд ли преодолимо для подлинной этики спасения.
Этика религиозных виртуозов радикальнее всего реагировала на напряженное отношение посредством отказа от экономических благ. А избегающая мира аскеза – посредством запрета индивидуальной собственности для монахов, которые должны были жить лишь своим трудом, и посредством ограничения потребностей до абсолютно необходимого. При этом парадокс рациональной аскезы, заключавшийся в том, что она отвергала богатство, которое сама и создавала, осложнял жизнь монахам во все времена. Повсюду храмы и монастыри становились центрами рационального хозяйствования.
Избегающее мира созерцание могло выдвинуть лишь принципиально противоположный принцип: неимущий монах, которому труд мешает сосредоточиться на созерцательном спасении, должен питаться лишь тем, что ему добровольно давали природа и люди – ягодами, кореньями и подаянием. Но и оно шло на компромиссы, создавая приходы для сбора подаяния (как в Индии).
Было только два пути принципиального и внутреннего преодоления этого напряжения. Во-первых, парадокс пуританской этики профессионального призвания, которая в качестве религиозности виртуозов отказалась от универсализма любви и рационально опредметила всякое действие в миру как служение совершенно непонятной в конечном смысле, но лишь таким образом познаваемой позитивной божественной воле и как проверку избранности к спасению. Тем самым она приняла в качестве богоугодного материала для исполнения долга опредмеченный экономический космос, который отвергался вместе с миром как тварный и порочный. В конечном счете это был принципиальный отказ от спасения как цели, достигаемой действиями людей и достижимой для каждого, ради необоснованной благодати, даруемой исключительно в частном порядке. В действительности эта небратская позиция уже не была подлинной «религией спасения». Для последней братство могло означать только «доброту», точно соответствующую акосмической любви мистика, когда уже ни о чем не спрашивают и вряд ли интересуются человеком, которому жертвуют, когда каждому случайно встретившемуся в пути и лишь из-за того, что он встретился в пути, всегда дают рубашку, даже если просят плащ – такой своеобразный уход от мира в виде безобъектной жертвенности в отношении любого, но не ради человека, а чисто ради жертвенности как таковой, или, говоря словами Бодлера: ради «святой проституции души».
Для последовательной этики братства столь же острым должно было быть напряжение в отношении мирских политических порядков. А для магической религиозности и религии с функциональными богами такой проблемы не существовало. Древний бог войны и бог, гарантировавший правовой порядок, были функциональными богами, защищавшими несомненные повседневные блага. Местный, племенной и имперский боги защищали исключительно интересы своих союзов. Они должны были бороться с другими богами, как само сообщество боролось с другими сообществами, и именно в борьбе подтверждать свою божественную силу. Проблема возникла с исчезновением границ в результате появления универсалистских религий, т. е. вместе с единым для всего мира богом, и особенно остро там, где этот бог был богом «любви» – в религии спасения на почве требования всеобщего братства. Как и в экономической сфере, ее острота усиливалась в зависимости от степени рационализации политического порядка. Государственный бюрократический аппарат и встроенный в него homo politicus,[470]470
Политический человек (лат.). – Примеч. перев.
[Закрыть] как и homo oeconomicus,[471]471
Экономический человек (лат.). – Примеч. перев.
[Закрыть] ведут дела (включая наказание за беззаконие) предметно, «не взирая на лица», «sine ira et studio»,[472]472
Без гнева и пристрастия (лат.). – Примеч. перев.
[Закрыть] без ненависти, а потому и без любви, именно тогда, когда он следует идеальному смыслу рациональных правил осуществления порядка государственной власти. В силу их обезличенности он менее подвержен материальной этизации, чем патриархальные порядки прошлого (хотя, казалось бы, должно быть наоборот), основанные на долге личного почитания и конкретной личной оценки конкретного случая именно «взирая на лица». Внутриполитическое функционирование государственного аппарата в области правосудия и управления, несмотря на всю «социальную политику», неизбежно регулируется предметно-прагматическим государственным интересом: абсолютной самоцелью сохранения (или изменения) внутреннего и внешнего распределения власти, совершенно бессмысленной для всякой универсалистской религии спасения. Особенно это касается внешней политики. Обращение к чисто насильственным средствам принуждения не только вовне, но и внутри сущностно значимо для каждого политического союза. Более того, именно это и делает его политическим союзом в нашей терминологии: «государство» – это такой союз, который обладает монополией на легитимное насилие, а иначе его невозможно определить. Заповеди Нагорной проповеди о «непротивлении злу насилием» оно противопоставляет принцип «Ты должен поддерживать право даже с помощью насилия и несешь личную ответственность за беззаконие». Где этого нет, там нет и государства, а есть лишь пацифистский «анархизм». Однако насилие и угроза его применения в соответствии с прагматикой всякого действия неизбежно порождают новое насилие. При этом государственный интерес как вовне, так и внутри следует собственным закономерностям. И, конечно, успешность применения насилия или угрозы его применения зависит в конечном счете от соотношения сил, а не от этического «права», даже если бы для него существовали объективные критерии. В любом случае типичное именно для рационального государства – в отличие от непосредственного естественного героизма – явление, когда все противоборствующие группы или носители власти уверяют в своей «правоте», в глазах всякой последовательно рационализированной религиозности должно выглядеть лишь как подражание этике, а привлечение бога в политическом противоборстве – как поругание его имени. Более чистым и честным может считаться полное исключение всего этического из политических рассуждений. Всякая политика будет тем дальше от идеалов братства, чем она «предметнее», расчетливее и свободнее от страстных чувств, гнева и любви.
При полной рационализации двух этих сфер их чуждость друг другу особенно остро проявляется еще и в том, что теперь политика, в отличие от экономики, может в важнейших моментах выступать в качестве прямого конкурента религиозной этики. Война как реализованная угроза применения насилия вызывает именно в современных политических сообществах пафос и чувство общности, массовую преданность и безусловную готовность к самопожертвованию у сражающихся, а кроме того, сострадание и любовь к страждущим поверх всех ограничений со стороны естественных союзов. Помимо этого, война вызывает у самого воина уникальное по своей конкретной значимости ощущение смысла и святости смерти, свойственное только ей. Как и во времена дружин, единство выступившего на войну войска воспринимается сегодня как единство вплоть до смерти, т. е. как максимальное единство. Смерть является общим уделом всех людей; она есть не что иное, как судьба, которая необъяснимым образом постигает именно этого человека и именно сейчас; с нею приходит конец именно в тот момент, когда благодаря бесконечному развитию и сублимации культурных благ осмысленным может казаться только начало. От этой неизбежной смерти гибель на войне отличается тем, что здесь – и столь массово только здесь – индивид может верить, что умирает «за» что-то. То, почему и за что он идет на смерть, как правило, становится для него (как и для того, кто погибает по «призванию») настолько несомненным, что здесь даже нет никаких предпосылок для возникновения проблемы «смысла» смерти в том общем значении, в котором ее рассматривают религии спасения. Помещение смерти в ряд осмысленных и освященных событий лежит в основе всех попыток обосновать достоинство насильственных политических союзов. Однако характер понимания смерти как осмысленной радикально отличается от теодицеи смерти в религиозном братстве. Для последней братство связанной войной группы людей должно казаться простым отражением технически рафинированной жестокости борьбы, лишенным всякой ценности, а подобное мирское освящение смерти на войне – восхвалением братоубийства. Именно внеобыденный характер военного братства и смерти на войне, который также присущ священной харизме и переживанию общности с богом, делал соперничество между ними максимально острым. И здесь возможны только два последовательных решения. С одной стороны, частный характер благодати в профессиональной аскезе пуританизма, который верует в твердые, данные в откровении заповеди в остальном совершенно непостижимого бога и понимает его волю таким образом, что эти заповеди должны быть навязаны тварному миру, подчиненному насилию и этическому варварству, с помощью присущих ему средств, т. е. с помощью насилия. Однако это означает по крайней мере ограничение долга братской любви ради божьего «дела». С другой стороны – радикально антиполитичный настрой мистических поисков спасения с их акосмической добротой и братством, которые благодаря принципу «непротивления злу» и максиме «Подставь другую щеку!», пошлой и недостойной в глазах любой самоуверенной мирской этики героев, освобождаются от неизбежной для всякого политического действия прагматики насилия. Все остальные решения осложнены компромиссами или условиями, неизбежно являющимися нечестными и неприемлемыми для подлинной этики братства.
Тем не менее некоторые из этих решений представляют принципиальный интерес в качестве определенных типов.
Каждая организация спасения в рамках универсалистского учреждения по дарованию благодати чувствует себя ответственной перед богом за души всех или по крайней мере всех доверяющих ей людей. Поэтому она считает себя уполномоченной и обязанной противостоять заблуждениям в вере даже с помощью жестокого насилия, распространяя благодатные средства спасения. Аристократизм спасения также порождает активного «борца за веру» там, где он – как в кальвинизме (и иначе в исламе) – связан с заповедью бога обуздать мир греха во славу Господа. При этом «священная» или «справедливая» война за веру и во исполнение божественных заповедей, которая в каком-то смысле всегда является религиозной войной, отделяется от всех остальных чисто мирских и потому глубоко аморальных военных предприятий. Поэтому принуждение к участию в подобных войнах политических властей, которые не признаются священными и богоугодными и противоречат собственной совести, отвергается – как сделало победоносное войско святых Кромвеля, высказавшееся против принудительной военной службы; т. е. принуждению к военной службе оно предпочло наемничество. В случае извращения божьей воли людьми, особенно в делах веры, требуется переходить к активной религиозной революции – исходя из того принципа, что подчиняться богу важнее, чем людям.
Совершенно противоположной была позиция лютеровского религиозного учреждения. Отвергая религиозные войны и право на активное сопротивление мирскому извращению веры как самоуправство, втягивающее спасение в прагматику насилия, она признавала в этой сфере лишь пассивное сопротивление и, напротив, одобряла безбоязненное подчинение мирской власти, даже если та приказывала участвовать в мирской войне – поскольку ответственность несет она, а не индивид. В отличие от внутренне универсалистского (католического) учреждения по дарованию спасения, здесь признавалась этическая самостоятельность порядка, установленного мирской властью. Тот оттенок мистической религиозности, что был свойственен личностному христианству Лютера, привел здесь к половинчатым последствиям. Ведь подлинно мистические и боговдохновенные харизматические поиски спасения религиозных виртуозов естественным образом повсюду являлись аполитичными или антиполитичными. Ими охотно признавалась самостоятельность земных порядков, но только для того, чтобы сделать отсюда радикальный вывод об их дьявольском характере или по крайней мере занять по отношению к ним абсолютно индифферентную позицию, выраженную принципом «Отдавайте кесарево кесарю!» (ведь что эти вещи значат для спасения?).