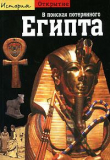Текст книги "Хозяйственная этика мировых религий: Опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм"
Автор книги: Макс Вебер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Принципиальное отношение конфуцианцев к магии было следующим: они не сомневались в реальности магии, как и евреи, христиане и пуритане (ведьм сжигали даже в Новой Англии). Однако магия не имела для них никакого значения спасения, и это было определяющим. Если у раввинов существовал принцип, согласно которому «для Израиля планеты не имеют значения», т. е. для набожного человека астрологическая детерминированность бессильна против воли Яхве, то в конфуцианстве действовал схожий принцип: магия бессильна против добродетели, а живущий согласно классическим заповедям не должен опасаться духов, так как лишь пороки (вышестоящих) дают им силу.
Конфуцианству была совершенно чужда созерцательность буддийского святого и его даосских подражателей. Согласно традиции, Учитель не без полемической остроты, направленной против мистического даосизма Лао-цзы, отвергал идею «жить скрытно и совершать чудеса, чтобы потом снискать посмертную славу у последующих поколений». При этом отношение к некоторым из великих мудрецов прошлого, по преданию, удалившихся от мира, было несколько изворотливым: уходить в отшельники можно только из плохо управляемого государства. Впрочем, иногда Учитель провозглашал дар предвидения будущего наградой за совершенную добродетель – видимо, это единственное его высказывание, указывающее на мистические основания. Однако если посмотреть внимательнее, то видно, что речь идет лишь о способности правильно толковать предзнаменования, т. е. не отставать от профессиональных жрецов-предсказателей. Как уже упоминалось, единственная распространенная по всему миру «мессианская» надежда на появление в будущем идеального императора была народного происхождения (его приходу должен был предшествовать позаимствованный из сказок Феникс);[356]356
См.: Schih Luh Kuoh Kiang Yu Tschi / Übersetzt von Michels. P. XXI (примечания к комментарию).
[Закрыть] конфуцианство ни отвергало, ни затрагивало ее. Вещи этого мира интересовали его такими, какими они были на самом деле.
Получивший конвенциональное образование будет участвовать в древних церемониях со всей надлежащей почтительностью, вежливостью и изяществом – точно так же, как он осуществляет все свои действия, включая физические жесты и движения, т. е. согласно сословным устоям и заповедям. «Пристойность» – основополагающее конфуцианское понятие! Источники охотно описывают то, как Учитель в самых сложных с точки зрения этикета ситуациях умел светски приветствовать всех в соответствии с их рангом и при этом вести себя с совершенной элегантностью. Гармонично уравновешенный в себе и в своих отношениях с обществом «высший» или «княжеский», «благородный человек» (это центральное понятие, постоянно встречающееся в приписываемых Учителю высказываниях) в любом общественном положении – хоть высоком, хоть низком – ведет себя именно так, нисколько не теряя своего достоинства. Для него характерны контролируемое спокойствие и корректный вид, изящество и достоинство, подобающие церемониально упорядоченному придворному салону. Таким образом, в отличие от страсти и хвастовства феодального воина в древнем исламе, ему свойственны бодрое самообладание, самонаблюдение, осторожность и прежде всего – подавление страстей, которые в любой форме, даже в форме радости, нарушают равновесие в душе и душевную гармонию, являющуюся источником всякого блага. Целью здесь было не избавление от всего, как в буддизме, а избавление от всех иррациональных желаний, но не ради спасения от мира, как в буддизме, а ради включенности в мир. Идея спасения полностью отсутствовала в конфуцианской этике. Конфуцианец не желал быть «спасенным» ни от переселения души, ни от потусторонней кары (они не были известны конфуцианству), ни от жизни (которую он принимал), ни от данного социального мира (шансами которого он рассчитывал с умом воспользоваться посредством самообладания), ни от зла или первородного греха (о котором ничего не знал), ни от чего-то иного, кроме одного – от постыдного варварства общественной грубости. И «грехом» он мог считать только нарушение основного социального обязательства – почтительности.
Если феодализм основывался на понятии чести, то патримониализм – на почтительности как важнейшей добродетели. С первым была связана вассальная верность ленника, со второй – подчинение господского слуги и чиновника. В этом различии не было противоречия, а скорее смещение акцентов. Западный вассал также «рекомендовал» себя и, подобно японскому леннику, был обязан быть почтительным. Лично свободный чиновник также имеет сословную честь, которая может считаться мотивом его действий, – как в Китае, так и на Западе, – в отличие от Передней Азии и Египта, где чиновниками становились рабы. Именно отношение офицера и чиновника к монарху повсюду сохраняет некоторые феодальные черты. Даже сегодня их признаком является личная клятва. Именно эти элементы официальных отношений стремятся подчеркнуть монархи в династических интересах, а чиновники – в сословных. Китайской сословной этике в значительной мере еще была присуща память о феодализме. Почтительность (сяо) по отношению к сюзерену упоминается наряду с почтительностью по отношению к родителям, учителям, старшим в служебной иерархии и должностным лицам вообще – поскольку сяо по отношению ко всем ним носило принципиально один и тот же характер. По сути, ленная верность была перенесена на отношения патроната внутри чиновничества. И верность носила принципиально патриархальный, а не феодальный характер. Как постоянно подчеркивалось, безграничное почтение детей перед родителями[357]357
В том числе по отношению к матери. В 1882 году сын, находившийся в состоянии опьянения, избил бранившую его мать. Она обратилась за помощью к мужчинам, приказав им связать и заживо похоронить сына, несмотря на настоятельные просьбы всех участников. Ее сообщники были наказаны за формально неправильное поведение, но тут же помилованы. О наказании матери речь вообще не шла (рескрипт опубликован в «Peking Gazette» от 13 марта 1882 года).
[Закрыть] – абсолютно первичная из всех добродетелей. В случае конфликта приоритет оставался за отцом.[358]358
Даже перед подчинением правителю. В феодальную эпоху один чиновник по приказу правителя должен был схватить и арестовать собственного сына за измену. Он отказался сделать это, как и чиновник, который должен был арестовать отца за его неподчинение. После этого отец совершил самоубийство, и вину за этот грех традиция возложила на правителя (Tscheре P. А. а. а. О. Р. 217).
[Закрыть] В одном из изречений Учителя содержится похвала высокопоставленному чиновнику, который продолжал допускать явные злоупотребления из почтения к отцу, допускавшему их на той же должности, чтобы не выдать его, – в отличие от одного места в «Шу цзин», где император передает должность отца сыну, чтобы он смог исправить отцовские упущения.[359]359
Ср. с напечатанным в «Peking Gazette» от 8 июня 1896 года докладом о ходатайстве сына командира, отправленного за трусость в войне с Японией на принудительные работы в западную часть страны: он просил разрешения взять на себя отбывание наказания вместо заболевшего от тягот и лишений отца или выкупить его за 4000 таэлей. Доклад был передан императору с указанием на похвальную почтительность просителя.
[Закрыть] Для Учителя никакое действие мужа не подтверждало [его добродетельность] так, как его скорбь по своим родителям. Совершенно понятно, что в патримониальном государстве для чиновника – а Конфуций был некоторое время министром – детская почтительность, перенесенная на все отношения подчинения, была той добродетелью, из которой вытекали все остальные; ее наличие было проверкой и гарантией исполнения высшего сословного долга бюрократии – безоговорочной дисциплины. В военной области в Китае уже в доисторические времена сражающихся героев сменила дисциплинированная армия, что имело огромное социологическое значение. Вера в силу дисциплины во всех сферах, зафиксированная в очень древних анекдотах, полностью утвердилась уже у современников Конфуция. «Непочтительность хуже низменных нравов», поэтому «экстравагантность» – под которой имелось в виду хвастливое расточительство – хуже бережливости. С другой стороны, у образованного человека бережливость ведет к «низменным», т. е. плебейским нравам, поэтому тоже не может оцениваться положительно. Очевидно, что, как и в любой сословной этике, отношение к экономическому является здесь проблемой потребления, а не проблемой труда. Для «высшего» человека не имеет смысла изучать ведение хозяйства, собственно, это даже не приличествует ему. Но не из-за принципиального неприятия богатства как такового. Напротив, в хорошо управляемом государстве стыдятся своей бедности, а в плохо управляемом – своего богатства (нечестно приобретенного благодаря занимаемой должности). Оговорки касались лишь озабоченности обогащением. Экономическая литература была литературой мандаринов. Как и всякая чиновническая мораль, конфуцианская мораль также прямо и косвенно осуждала участие чиновников в получении доходов как этически сомнительное и противоречащее сословной этике. И это осуждение усиливалось в той мере, в какой чиновник – жалованье которого не только было небольшим, но к тому же, как и в античности, преимущественно состояло из натуральных выплат – фактически был вынужден использовать свое служебное положение. Однако в рамках этой утилитаристской этики, которая не ориентировалась ни на феодализм, ни на аскезу, так и не возникло каких-либо принципиально антихрематистических теорий. Напротив: конфуцианство создало очень по-современному звучащие теории спроса и предложения, спекуляции и прибыли. В отличие от Запада, рентабельность денег (ссудный процент по-китайски, как и по-гречески, означает «ребенок» капитала) считалась чем-то само собой разумеющимся, а теория, видимо, ничего не знала об ограничении процентной ставки (хотя в императорских статутах осуждались определенные виды «ростовщичества»). Главное – чтобы капиталист как частный интересант не становился чиновником. Человек, получивший книжное образование, должен был лично держаться подальше от хрематистики. А социальные сомнения, которые вызывало стремление к наживе как таковое, в основном имели политическую природу.
Жажда наживы рассматривалась Учителем в качестве источника социальных беспорядков. Здесь явно имелся в виду типичный докапиталистический классовый конфликт между интересами скупщиков и монополистов и интересами потребителей. При этом конфуцианство, естественно, преимущественно ориентировалось на защиту потребления. Однако ему была совершенно чужда враждебность к экономической выгоде. Так же обстояло дело с народными представлениями. Несправедливых чиновников-вымогателей, особенно сборщиков налогов и иных низших чиновников, жестко бичевали в драмах. Однако обвинения и высмеивания купцов и ростовщиков, видимо, встречались (относительно) редко. Яростная враждебность конфуцианства к буддийским монастырям, приведшая в 844 году к истребительному походу императора У-цзуна, в первую очередь обосновывалась тем, что монастыри отвлекают народ от полезного труда (при этом в действительности свою роль здесь сыграла «монетарная политика»). Во всей ортодоксальной литературе очень высоко оценивается экономическая активность. Конфуций так же стремился бы к богатству – «даже в качестве слуги с плеткой в руке», – если бы это стремление имело какую-нибудь гарантию успеха. А поскольку таковой не имелось, то отсюда следовала единственная действительно очень важная оговорка в отношении хозяйственной деятельности: связанные с получением дохода риски нарушают равновесие и гармонию души. Тем самым этически восхвалялось положение обладателя кормления. Служба – единственно достойное высшего человека занятие, поскольку только она позволяет личности совершенствоваться. Без приличного дохода, считает Мэн-цзы, образованному человеку очень сложно, а простому народу и вовсе невозможно иметь приличные нравы. Хозяйственная, врачебная, жреческая деятельность – это «малый путь», ведь она ведет к профессиональной специализации – этот крайне важный момент тесно связан с предыдущим. А благородный человек стремится к всесторонности, которую дает только образование (в конфуцианском духе). Этой всесторонности от мужа требует его должность, что характерно для патримониального государства, в котором отсутствовала рациональная профессиональная специализация. Впрочем, как в политике (в проекте реформ Ван Аньши), так и в литературе встречаются намеки на рекомендации приступить к подготовке профессионально компетентных чиновников по типу современной бюрократии вместо традиционной всесторонности при исполнении должности, невозможной для отдельного чиновника. Именно этим деловым требованиям и тем самым рациональному разделению управления на предметы ведения по типу наших европейских механизмов жестко противопоставлялся древний идеал китайского образования. Получивший конфуцианское образование кандидат, связанный с древней традицией, вряд ли мог считать профессиональное образование европейского образца чем-то иным, нежели обучением самым низменным и пошлым вещам.[360]360
Записка, лежавшая в основе рескрипта от 2 сентября 1905 года об отмене древних экзаменов по «культуре», довольно пуста с точки зрения содержания и, в сущности, подчеркивает лишь одно: рвение к распространению народного образования (в реальных школах) сдерживалось тем, что с помощью экзамена каждый рассчитывал на степень, необходимую для получения кормления.
[Закрыть] Несомненно, в этом заключался один из важнейших моментов сопротивления всем «реформам» в западном духе. Основополагающий принцип «Благородный не является инструментом» означает, что он был самоцелью, а не просто средством достижения какой-то специфической пользы. Это прямо противоречило социально ориентированному платоновскому идеалу, который возник на почве полиса и исходил из убеждения, что человек может достигнуть своего предназначения, лишь занимаясь одним делом. В еще большей мере сословный идеал благородства всесторонне образованного конфуцианского «джентльмена» (уже Дворжак переводил так выражение цзюнь цзы, «княжеский муж») противоречил понятию профессионального призвания в аскетическом протестантизме. Эта «добродетель» всесторонности, т. е. самосовершенствование, была важнее богатства, которого можно было достичь лишь посредством односторонности. Даже занимая влиятельное положение, в мире ничего невозможно совершить без добродетели, которую дает образование. Но и наоборот: даже имея множество добродетелей, ничего невозможно достичь без влиятельного положения. Поэтому «высший человек» стремился именно к нему, а не к обогащению.
Здесь кратко представлены основные конфуцианские тезисы, связанные с профессиональной жизнью и владением имуществом, чаще всего приписываемые самому Учителю. Они противоречат и феодальной радости от расточительства, проявляющейся в древнем исламе в высказываниях самого пророка, и буддийскому отказу от привязанности к мирским благам, и строго традиционалистской индуистской профессиональной этике, и пуританскому прославлению мирского труда в рамках рациональной профессиональной специализации. Если отвлечься от этого основополагающего противоречия, у конфуцианства есть некоторое сходство в деталях с трезвым рационализмом пуритан. «Княжеский человек» избегает искушений красоты. Ведь, как верно говорит Учитель: «Никто не любит добродетель так, как любят красивую женщину».[361]361
См. биографию Конфуция, написанную Сыма Цянем, под редакцией Шаванна, с. 336.
[Закрыть] Согласно преданию, Учитель лишился своего положения при дворе правителя государства Лу из-за того, что завистливый правитель соседнего государства подарил его господину коллекцию красивых девушек, которая доставила морально неподготовленному князю больше удовольствия, чем поучения его политического наставника. В любом случае сам Конфуций считал женщину абсолютно иррациональным существом, иметь дело с которым так же сложно, как и со слугами.[362]362
Уже в древних хрониках в качестве неизлечимой рассматривалась «чувственность», этот враг всех добродетелей. См.: Кип Yu. Discours des Royaumes. P. 163, где содержится высказывание одного лейб-медика о больном правителе. Конфликт между любовью и государственным интересом разрешается начисто в пользу второго: в поэзии как минимум однажды затрагивается «трагичность» этого положения.
[Закрыть] Снисходительность к ним приводит к потере дистанции, а строгость – к их плохому настроению. Страх перед женщиной в буддизме, обусловленный уходом от мира, нашел свою противоположность в презрении к женщине в конфуцианстве, обусловленном его рациональной трезвостью. И конечно, конфуцианство никогда принципиально не выступало против существования – наряду с законной женой – конкубин, которые неизбежно допускались уже в интересах продолжения рода. Неоднократно упомянутый картель феодальных правителей выступал лишь против уравнивания детей конкубин в правах наследников; при этом борьба с нелегитимным влиянием гарема выдавалась за борьбу с опасным перевесом женской субстанции инь над мужской ян. В конфуцианстве высоко ценилась дружеская верность. Считалось, что друзья необходимы, однако их следовало искать среди равных. В отношении нижестоящих в иерархии было достаточно дружелюбного расположения. В остальном вся этика сводилась здесь к изначальному принципу взаимности в крестьянском соседском союзе: как ты относишься ко мне, так и я к тебе, т. е. к «реципрокности», которую Учитель в одном из ответов на вопрос объявил основой всякой социальной этики. А идея радикальных мистиков (Лао-цзы, Мо-цзы) о любви к врагу решительно отвергалась как противоречащая основополагающему государственному принципу справедливого воздаяния: справедливость к врагам, любовь к друзьям; что можно предложить друзьям, если врагам предлагается любовь? В целом благородный муж конфуцианства соединял в себе «благожелательность» с «энергией», а «знание» – с «честностью». И все это – в рамках «осторожности», отсутствие которой закрывает обычному человеку путь к «правильной середине». Но прежде всего – в рамках общественного приличия, придававшего данной этике специфический характер, ведь именно чувство приличия превращает «княжеского мужа» в «личность» в конфуцианском смысле. Поэтому даже главнейшая добродетель честности была ограничена заповедями соблюдения приличия. Так что безусловный приоритет над ней имел не только долг почтительности (необходимость лгать из почтения), но и обязанность соблюдать общественные приличия – согласно традиции, так поступал сам Учитель. Конфуцию приписывается высказывание: «Среди нас троих найдется учитель для меня». Это означает, что я присоединяюсь к большинству. Исходя из подобного понимания «приличия», им были отобраны и классические сочинения. Так, Сыма Цянь считал, что якобы из 3000 од из «Ши цзин» Конфуций отобрал 306.
Никакого совершенства было невозможно достичь иначе, нежели путем постоянного учения, т. е. путем изучения литературы. «Княжеский человек» постоянно размышляет обо всех вещах, «изучая» их заново. И действительно на официальных государственных экзаменах далеко не редкостью были якобы девяностолетние кандидаты. Однако это непрерывное изучение заключалось исключительно в освоении уже имеющихся идей. По приписываемому самому Учителю высказыванию, даже будучи в возрасте, он тщетно пытался создать что-то свое, надеясь продвинуться вперед с помощью одного мышления, но после этого вновь набрасывался на чтение, без которого, по его мнению, дух работает, так сказать, «на холостом ходу». Вместо принципа «Понятия пусты без созерцания» здесь действовал принцип «Мышление стерильно без плодов чтения». Без обучения жажда знания только растрачивает дух, доброжелательность делает нас глупыми, честность приводит к необдуманности, энергия – к грубости, дерзость – к неподчинению, а сила характера – к экстравагантности. И тогда невозможно достичь «правильной середины», высшего блага в данной этике общественного приспособления, в рамках которой существовала лишь одна действительно абсолютная обязанность – почтительность как основа всякой дисциплины и лишь одно универсальное средство самосовершенствования – книжное обучение. При этом мудрость княжеского правления заключалась в выборе «правильных» (в классическом смысле) министров, о чем Конфуций якобы сказал Ай-гуну, правителю государства Лу.
Образование состояло исключительно в изучении древних классиков, каноничность которых в очищенной ортодоксией форме стала чем-то само собой разумеющимся. Правда, иногда приводится высказывание, что муж, который для решения проблем настоящего обращается к древности, может легко накликать несчастья. Однако его можно истолковать как неприятие древних феодальных отношений, но не как проявление антитрадиционализма, как считает Легг, ведь все конфуцианство превратилось в безоговорочную канонизацию традиционного. Действительно антитрадиционалистской была знаменитая реляция министра Ли Сы, прямо направленная против конфуцианства и приведшая к величайшей катастрофе – к сожжению книг после создания единого бюрократического государства (213 год до н. э.). В ней говорилось, что цех книжников восхваляет древность за счет настоящего, т. е. призывает не уважать законы императора, о которых он судит по меркам своих книжных авторитетов. Полезными в ней объявлялись лишь книги по экономике, медицине и гаданию – характерное переворачивание конфуцианских ценностей. Очевидно, что с помощью этого совершенно утилитарного рационализма разрушитель феодальной системы ради укрепления собственной власти ослаблял привязанность к традиции, которая повсюду ограничивала конфуцианский рационализм. Но тем самым он нарушил устойчивость того умного компромисса между властными интересами господствующего слоя, с одной стороны, и его заинтересованностью в легитимности – с другой, на котором держался государственный интерес этой системы. И потому несомненно, что именно стремление к собственной безопасности очень быстро вынудило династию Хань полностью вернуться к конфуцианству. Патримониальное чиновничество, обладавшее абсолютной властью и при этом монополизировавшее функции официального жречества, могло быть настроено лишь традиционалистски, поскольку только священный характер литературы гарантировал легитимность порядка, который поддерживал его собственное положение. Оно было вынуждено ограничить свой рационализм в этом моменте, как и в отношении религиозных верований народа, сохранение которых гарантировало приручение масс и ограничивало критику системы правления. Отдельный правитель мог быть плохим, т. е. лишенным харизмы. В таком случае он не был угоден богу и подлежал замене, как любой неспособный чиновник. Но основанием системы как таковой продолжала оставаться почтительность, для которой любой удар по традиции представлял угрозу.
По этим причинам конфуцианство не предпринимало ни малейшей попытки этически рационализировать существующие религиозные верования. Отправляемый императором и чиновниками официальный культ и отправляемый отцами семейств культ предков рассматривались в нем в качестве элементов существующего мирового порядка. Согласно «Шу цзин», монарх принимает свои решения не только после консультаций с великими представителями империи и «народа» (что тогда, несомненно, означало войско), но и после двух традиционных видов гадания. Как следовало поступать в случае несовпадения результатов, полученных из этих двух источников познания, объяснялось исключительно казуистически. А потребности частной жизни в духовных советах и религиозном наставничестве застыли – прежде всего вследствие подобной позиции образованного слоя – на уровне магического анимизма и почитания функциональных богов, как это было повсюду до появления пророчеств, которые в Китае так и не возникли.
Этот магический анимизм был встроен китайским мышлением в систему, названную де Гроотом «универсизмом». Однако в ее создании участвовало не только конфуцианство, и потому мы должны рассмотреть те вовлеченные в этот процесс силы, которые само оно считало еретическими. Но прежде следует прояснить, что хотя книжниками в конечном счете было воспринято только конфуцианство, тем не менее оно не всегда было единственно воспринятым учением.
Конфуцианство далеко не всегда являлось единственной утвержденной государством философией Китая, которая технически обозначалась понятием хун фань («великий план»). Чем глубже в прошлое, тем меньше книжность тождественна конфуцианской идеологии. В эпоху раздробленности существовала конкуренция философских школ, которая вовсе не исчезла с объединением империи, – их борьба особенно обострялась в периоды ослабления императорской власти. Конфуцианство победило лишь примерно в VIII веке нашей эры. Мы не будем рассматривать здесь историю китайской философии, но тем не менее проиллюстрируем развитие в направлении ортодоксии с помощью следующих фактов.
Положение Лао-цзы и его школы оставалось совершенно маргинальным. После Конфуция еще встречаются такие философы, как эпикурейский фаталист Ян Чжу, в отличие от конфуцианцев отрицавший значение воспитания, поскольку своеобразие человека есть его неизбежная «судьба», и Мо-цзы, в значительной мере стоявший вне традиций. До и во время эпохи Мэн-цзы (IV век до н. э. – пик ослабления императорской власти) друг другу противостояли Сюнь Куан, являвшийся действующим чиновником одного из государств и отстаивавший с антиконфуцианских позиций идею порочности человеческой природы; диалектики; аскеты (Чжуан Чжоу); чистые физиократы (Сюй Син), выступавшие с самыми различными экономико-политическими программами; и еще во II веке н. э. Цуй Ши в «Чжэн лунь», придерживавшийся строго антипацифистской позиции: нравы портятся во время долгого мира, что приводит к распутству и чувственным удовольствиям.[363]363
Kuhn Fr. Abh. der Berl. Ak. 1914, 4.
[Закрыть]
Все это были неклассические ереси, с которыми в свое время боролся Мэн-цзы. Ему противостояли его современник Сюнь-цзы, который (по-конфуциански) считал благо человека искусственным продуктом – но не бога, а самого человека, – что в приложении к политике означало: «бог есть выражение народного сердца»; и абсолютный пессимист Ян Чжу, который претерпевание жизни и преодоление страха смерти почитал за последнюю истину. В качестве причины страдания благочестивых людей часто называлось непостоянство божьей воли. Сыма Цянь, отец которого, видимо, был даосом,[364]364
См. предисловие к изданию: Chavannes Ê. P. XIII.
[Закрыть] приводит систематику антагонистических школ книжников своего времени. Он различает шесть школ: 1. Метафизики с их спекуляциями относительно инь и ян на основе астрономии; 2. Мо-цзы и его школа, находившаяся под влиянием мистики и выступавшая за ведение простой жизни, в том числе императором, включая церемонии погребения; 3. Филологическая школа с ее интерпретацией слов и реализмом понятий (относительно аполитичная, сохранившаяся со времен софистов); 4. Школа законов – представители теории устрашения (позже к ней относился Цуй Ши); 5. Даосы; 6. «Школа книжников» – конфуцианцы, к которым Сыма Цянь причислял и себя. Однако отстаивавшиеся им конфуцианские взгляды позже во многих отношениях считались бы неклассическими. Он высоко оценивал знаменитого императора Хуан-ди, ставшего отшельником (даосские реминисценции).[365]365
Edkins J. The place of Hwang Ti in early Taoism, China Rev. XV. P. 233 f.
[Закрыть] Его космогония (учение о пяти элементах) имеет явно астрологическое происхождение. А почитание им богатства вполне одобрили бы и ортодоксальные конфуцианцы, особенно его обоснование: лишь богатый правильно исполняет обряды. Но вот его совет заниматься торговлей в качестве средства заработка они сочли бы непристойным.[366]366
См. у Бань Бяо: Chavannes É. App. И.
[Закрыть] Некоторые из них не стали бы оспаривать его сомнение в абсолютно детерминирующем «провидении», поскольку добродетельные люди тоже умирают от голода. Об этом говорят и памятники эпохи Хань,[367]367
Надпись на могильной плите эпохи Хань (около 25 года до н. э.), сделанная в память о преждевременно умершем мужчине: «Издавна были люди, которые прошли через все перемены безукоризненно и не получили за этого вознаграждения» (приводится пример). «Память о нем сохраняется» (см. у Сыма Цяня). «Он облагородит своих потомков» (древнее представление о наследственной харизме, отличное от нового). «Он отправился в холодное царство теней» (Journ. As. X Ser. 14. 1909 / Ed. É. Chavannes. P. 33).
Надпись, сделанная в 405 году н. э.: «Все живущее должно умереть». Совершенный человек не имеет индивидуальных признаков (соединен с дао; влияние Чжуан-цзы?).
Восхваляется равнодушие к повышению и утрате должности (р. 36). Повышение обосновывается с помощью понятий «прямота», «детская почтительность», «почтение к мертвым».
Однако в целом:
«Небо не знает пощады, он заболел и умер». «Бог» никогда не называется. В целом взгляды и настроения близки к Сыма Цяню. Нет обязательного оптимизма более позднего времени.
[Закрыть] хотя это не было бесспорным. Представление о бесполезности героизма соответствовало более позднему учению, восходящему к самому Учителю. Но учение кастрата Сыма Цяня о том, что самое главное – известность, что добродетель есть «самоцель» и что, с другой стороны, необходимо оказывать непосредственное дидактическое воздействие на правителя, опять-таки вряд ли могло считаться классическим. В то же время виртуозно воспроизведенная Сыма Цянем абсолютная невозмутимость тона хроник превосходно подходила к практике самого Конфуция. Наиболее ортодоксально-конфуцианским выглядит письмо Сыма Цяня – кастрированного[368]368
Страшное несчастье для китайцев с их культом предков.
[Закрыть] из-за политических подозрений, но затем вновь принятого на службу, – которое он написал своему другу Жэнь Аню. Тот находился в тюрьме и (безуспешно) просил его о помощи.[369]369
См.: Chavannes É. Vol. I. App. I. P. CCXXVI f.
[Закрыть]
Реально помочь другу Сыма Цянь не может (или не хочет) – потому что это подвергнет риску его самого. Но поскольку душа того, «кому предстоит долгий путь»,[370]370
Вера в бессмертие являлась бы неклассической. Речь идет лишь о вере в духов.
[Закрыть] может разгневаться на него (т. е. навредить ему), он хочет разъяснить свои мотивы, ведь «значимый человек прилагает усилия ради того, кто ценит его» (очень по-конфуциански). Однако вместо участия в судьбе несчастного следует лишь сообщение о собственном несчастье – кастрации. Как сочинитель выпутался из этой ситуации? Он пишет о четырех важнейших пунктах: не обесчестить собственных предков; не опорочить себя; не оскорбить разум и достоинство; и, наконец, не нарушить никаких существующих правил. А свой позор он, сочинитель, смоет своей книгой.
Все письмо немного напоминает нам о поражающих своей холодной поучительностью письмах Абеляра Элоизе (вероятно, по схожим причинам!), и эта холодная сдержанность в отношениях между людьми является подлинно конфуцианской. И не следует забывать, что процитированные в конце предыдущей главы великолепные и величественные документы также относятся к конфуцианскому духу. Приводя высказывание Шихуан-ди,[371]371
См.: ed. É. Chavannes. P. 166.
[Закрыть] в котором действия вопреки «разуму» назывались недостойными, Сыма Цянь (и другие конфуцианцы) интерпретировал его следующим образом: научиться действовать разумно можно лишь посредством обучения[372]372
Обучение восхвалялось в только что процитированной надписи эпохи Хань.
[Закрыть] и получения знаний. «Знания», т. е. ознакомление с традицией и классической нормой в процессе книжного обучения, остаются для конфуцианства последним словом, и в этом его расхождение с остальными китайскими системами отношения к миру.
«Разумность» конфуцианства являлась рационализмом порядка: «Лучше быть собакой и жить в мире, чем быть человеком и жить в анархии», – говорил Чэнь Цзитун.[373]373
China und die Chinesen / Deutsch von A. Schultze. 1896. P. 222.
[Закрыть]
Именно поэтому оно носило сущностно пацифистский характер.[374]374
Даже сам Конфуций якобы называл себя несведущим в военных делах.
[Закрыть] В ходе истории эта его особенность усилилась настолько, что император Цяньлун в своей истории династии Мин мог позволить себе следующее высказывание: «Лишь тот, кто стремится не допустить кровопролития, может сохранить единство империи», ведь «пути неба изменчивы, и лишь разум помогает нам».[375]375
Yu tsiuan tung kian kang mu / Tr. par M. l’abbé Delamarre. Paris, 1865. P 20. Можно привести множество подобных высказываний.
[Закрыть] Это и стало конечным продуктом развития единой империи – тогда как еще сам Конфуций считал долгом мужчины месть за убийство родителей, старших братьев и друзей. Таким образом, эта этика была пацифистской, мирской и ориентировалась лишь на страх перед духами.
При этом существовала нравственная квалификация духов. Как и в Египте, иррациональная юстиция в Китае опиралась на – возникшую самое позднее при династии Хань из идеализированной проекции на небо бюрократии и права подачи жалоб – устойчивую веру в то, что вопли угнетенного неизбежно вызовут месть духов, особенно в отношении того, чья жертва погибла в результате самоубийства или из-за горя и отчаяния. Ею объяснялась огромная власть рыдающих масс, сопровождавших реально или мнимо обиженного. Она принуждала всякого чиновника к сговорчивости – особенно из-за угрозы самоубийств, вызванных массовой истерией. Так, в 1882 году под давлением толпы был приговорен к смерти мандарин, ударивший своего поваренка, в результате чего тот скончался.[376]376
Giles Н. A. China and the Chinese. New York, 1912. P. 105.
[Закрыть] В этой своей функции вера в духов была единственной, но очень действенной официальной Magna Charta для китайских масс. Духи также следили за выполнением договоров любого рода. При этом они отказывали в своей защите навязанным или аморальным контрактам.[377]377
Уже в древности считалось, что «навязанные договоры не имеют силы, поскольку их не защищают духи»: Parker Е. Н. Ancient China simplified. London, 1908. P. 99.
[Закрыть] Таким образом, легальность как добродетель поддерживалась анимизмом не только как целостный габитус, но и in concreto.[378]378
Конкретно, в частности (лат.). – Примеч. перев.
[Закрыть] Однако здесь отсутствовала центральная сила религии спасения, дающая методическую жизненную ориентацию. Дальше мы узнаем, к каким последствиям это привело.