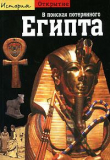Текст книги "Хозяйственная этика мировых религий: Опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм"
Автор книги: Макс Вебер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Введение [17]17
Книга впервые была опубликована отдельными частями в журнале Э. Яффе: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Band 41—46.1915—1919; первые части вышли в том виде, в каком они двумя годами ранее были написаны и прочитаны друзьям. Призыв на военную службу не позволил добавить научный аппарат; вместо этого в начале каждого раздела приводятся краткие ссылки на важнейшую литературу. С этим связана и различная степень проработанности отдельных сфер. И все же эти статьи были напечатаны, поскольку после войны, означавшей целую эпоху в жизни каждого, было невозможно вернуться к ходу мысли предшествующего периода. Предполагалось, что они выйдут в рамках «Очерков социальной экономики» вместе с сочинением «Хозяйство и общество» – в качестве интерпретации и дополнения к его разделу по социологии религии, а также для того, чтобы во многих моментах получить интерпретацию в нем. Казалось, что статьи способны выполнить эту задачу даже в их прежнем виде. Их недостатки вроде вынужденно эскизного характера и неравномерности изложения, скорее, могут восполнить работы других авторов, чем это смог бы сделать я. Ведь даже в законченной форме сочинения, зависящие от переводных источников, не могут считаться «завершенными» в каком-либо смысле. Но даже в нынешней форме эти статьи могут быть полезны, поскольку дополняют постановку проблемы как в области социологии религии, так и социологии хозяйства. Помимо устранения небольших ошибок, я также попытался восполнить пробелы, особенно в изображении китайской ситуации, насколько доступный материал позволяет это сделать неспециалисту, а также несколько дополнил цитируемые источники.
[Закрыть]
Под «мировыми религиями» здесь без всякой оценки понимаются те пять религиозных или религиозно обусловленных систем регламентации жизни, которым удалось объединить вокруг себя особенно большое число последователей: конфуцианская, индуистская, буддистская, христианская и исламская религиозные этики. В качестве шестой религии к ним следует добавить иудаизм: и из-за того, что в нем содержатся важные исторические предпосылки для понимания двух последних из названных мировых религий, и из-за его – отчасти действительного, отчасти мнимого – собственного исторического значения для развития современной хозяйственной этики Запада, что многократно обсуждалось в последнее время. Остальные религии затрагиваются лишь в той мере, в какой это необходимо для исторической взаимосвязи. Применительно к христианству мы отсылаем к ранее вышедшим статьям, помещенным в этом сборнике сочинений, и предполагаем, что читатель ознакомлен с ними.
Что понимается под «хозяйственной этикой» религии, надеюсь, будет прояснено в ходе самого изложения. Здесь нами рассматриваются не этические теории теологических компендиумов, которые служат лишь средством познания (иногда важным), а практические стимулы к действию, заложенные в психологических и прагматических взаимосвязях религий. Несмотря на эскизность последующего изложения, из него все же можно понять, насколько сложным образованием является конкретная хозяйственная этика и сколь многосторонне она обусловлена. Далее будет также показано, что внешне схожие формы хозяйственной организации могут быть совместимы с различными хозяйственными этиками и что они – в зависимости от своей специфики – оказывают различное историческое воздействие. Хозяйственная этика – это не простая «функция» форм хозяйственной организации. И наоборот: сама она не может прямо формировать их.
Ни одна хозяйственная этика не была детерминирована лишь религиозно. Она обладает некой – в основном определяемой экономико-географическими и историческими данностями – степенью автономии по отношению ко всем установкам к миру, обусловленным религиозными и иными «внутренними» моментами. Тем не менее одной из детерминант хозяйственной этики, но именно одной из них, является религиозная обусловленность способа ведения жизни (Lebensführung). А сама она, – конечно, опять-таки внутри существующих географических, политических, социальных и национальных границ – испытывает сильное влияние экономических и политических факторов. Перечислять эти зависимости во всех их подробностях можно бесконечно. Здесь речь идет лишь о попытке выделить основополагающие элементы способа ведения жизни тех социальных слоев, которые сильнее всего повлияли на практическую этику соответствующей религии и придали ей характерные черты, т. е. отличающие ее от других религий и важные для хозяйственной этики. Не всегда это один-единственный слой. К тому же в ходе истории определяющие в указанном смысле слои могли сменять друг друга, и никогда влияние какого-то одного слоя не было исключительным. Однако применительно к отдельной религии чаще всего все же можно назвать слои, способ ведения жизни которых был по крайней мере особенно значимым. В качестве примера можно привести конфуцианство – сословную этику книжно образованных светски-рациональных держателей кормлений. Кто не относился к этому образованному слою, тот не принимался во внимание. Религиозная (или, если угодно, нерелигиозная) сословная этика именно этого слоя определила способ ведения жизни китайцев.
Древний индуизм, напротив, опирался на наследственную касту книжно образованных людей, которые вне всяких должностей действовали как ритуалистические духовные наставники индивидов и сообществ и формировали социальный порядок, выступая в качестве надежного ориентира сословного деления. Лишь ведически образованные брахманы как носители традиции были полноценным религиозным сословием. Гораздо позже с ними стало конкурировать небрахманическое сословие аскетов, и еще позднее, во время индийского средневековья, в индуизме среди низших слоев возникла религия священного спасения во главе с плебейскими мистагогами.
Буддизм распространяли странствующие нищенствующие монахи, отказавшиеся от мира и предававшиеся исключительно созерцанию. Лишь они образовывали общину в полном смысле этого слова, а все остальные были религиозно неполноценными мирянами: объектами, а не субъектами религиозности.
Ислам первое время был религией воинов-завоевателей, рыцарского ордена дисциплинированных борцов за веру, только без сексуальной аскезы, как у христианских подражаний ему, возникших в эпоху крестовых походов. Однако в исламское средневековье как минимум такой же значимости добился созерцательно-мистический суфизм и выросшие из него братства низших слоев горожан, напоминавшие христианских терциариев, но только получившие гораздо большее распространение; во главе этих братств стояли плебейские знатоки оргиастических техник.
Иудаизм после вавилонского пленения был религией буржуазного «народа-парии» – в свое время мы узнаем точное значение этого выражения; в Средневековье во главе его оказался слой литературно-ритуалистически образованных интеллектуалов, который все больше представлял пролетароидную, рационалистическую мелкобуржуазную интеллигенцию.
Наконец, христианство возникло как учение странствующих учеников ремесленников. Во все времена своего внешнего и внутреннего расцвета оно было и оставалось специфически городской, прежде всего буржуазной религией – в античности, в Средние века и в пуританизме. Главной ареной для него был западный город во всем его своеобразии, отличавшем его от иных городов, и буржуазия в том смысле, в каком она вообще возникла только там; это касается как античных общин благочестивых пневматиков, так и нищенствующих орденов высокого Средневековья и сект эпохи Реформации вплоть до пиетизма и методизма.
Наш тезис вовсе не в том, что своеобразие религиозности является простой функцией социального положения слоя, выступающего ее характерным носителем, т. е. просто его «идеологией» или «отражением» его материальных или идейных интересов. Подобное толкование стало бы полным искажением основного тезиса данных размышлений. Каким бы глубоким ни было в отдельных случаях экономически и политически обусловленное социальное влияние на религиозную этику, в первую очередь свой отпечаток на нее накладывали религиозные источники, прежде всего – содержание предсказаний и откровений. Даже если их часто радикально перетолковывали уже в следующем поколении, приспосабливая к потребностям общины, как правило, это опять-таки были религиозные потребности. Интересы, касавшиеся других сфер, могли оказывать лишь вторичное воздействие, иногда заметное и даже значительное. Смена определяющего социального слоя обычно имела серьезные последствия для каждой религии. С другой стороны, однажды сложившийся тип религии оказывал сильное влияние на способ ведения жизни разных слоев.
Предпринимались различные попытки интерпретировать взаимосвязь между религиозной этикой и интересами таким образом, что первая представала лишь «функцией» последних, причем не только в духе так называемого «исторического материализма», – который мы здесь не затрагиваем, – но и чисто психологически.
Самую общую, в некотором смысле абстрактную, классовую обусловленность религиозной этики можно было бы вывести из ставшей известной после блестящего эссе Ф. Ницше теории «ресентимента», которую обсуждали даже крупные психологи. Если бы этическое прославление милосердия и братства являлось этическим «восстанием рабов» со стороны тех, кто обделен природными данными или лишен судьбой жизненных шансов, а этика «долга» – соответственно продуктом «вытесненных», беспомощных мстительных чувств обывателей, вынужденных своим трудом зарабатывать на жизнь, к способу ведения жизни свободного от обязательств господского сословия, то важнейшие проблемы типологии религиозной этики получили бы очень простое решение. Но каким бы удачным и плодотворным ни было открытие психологического значения ресентимента, оценивать его социально-этическое воздействие все же следует с большой осторожностью.
Далее я буду часто говорить о мотивах, которые определяли различные виды этической «рационализации» способа ведения жизни. В большинстве своем они не имеют ничего общего с ресентиментом.
Что касается оценки страдания в религиозной этике, то она, несомненно, претерпела изменение, которое при правильном понимании подтверждает теорию, впервые высказанную Ницше. Изначальное отношение к страданию наглядно проявлялось во время религиозных праздников сообщества в обращении с теми, кого преследовали болезни или иные несчастья. Кто долгое время страдал, скорбел, болел или был подвержен иным несчастьям, тот в зависимости от своего страдания считался или одержимым демоном, или прогневившим бога. Его присутствие могло нанести вред этому культовому сообществу. В любом случае он не имел права участвовать в культовых трапезах и жертвоприношениях, поскольку его присутствие огорчало богов и могло навлечь их гнев. Жертвенные трапезы были местом для радости – даже в Иерусалиме во время осады.
Относясь к страданию как симптому божественного проклятья и тайной вины, религия шла навстречу распространенной психологической потребности. Счастливый человек редко довольствуется фактом своего счастья, его потребность идет еще дальше: он хочет иметь право на это счастье, хочет быть уверенным в том, что «заслуживает» его – в отличие от других, хочет убедиться, что менее удачливые лишены такого счастья заслуженно. Счастье стремится быть «легитимным». Если под понятием «счастье» понимать все блага: почести, власть, богатство и наслаждение, то самой общей формулой легитимности, которую религия должна была придавать внешним и внутренним интересам всех властителей, богачей, победителей, здоровых, одним словом – счастливых, будет теодицея счастья. Она укоренена в чрезвычайно устойчивых («фарисейских») потребностях людей и потому очень понятна, хотя ее воздействие часто недооценивается.
Более сложны пути, ведущие к противоположной точке зрения – к религиозному прославлению страдания. Здесь первично то, что харизма экстатических, визионерских, истерических, короче говоря, всех тех внеобыденных состояний, которые признавались «святыми» и потому являлись предметом магической аскезы, пробуждалась или по крайней мере усиливалась с помощью многочисленных видов самоистязаний и воздержаний от нормального питания, сна и половых сношений. Значимость самоистязаний вытекала из представления, что определенные виды страданий и вызванные умерщвлением плоти ненормальные состояния наделяют сверхчеловеческими, магическими силами. То же воздействие приписывалось древним табу и воздержаниям с целью достижения культовой чистоты – вследствие веры в демонов. Затем в качестве самостоятельного и нового момента к этому добавились культы «спасения», занимавшие принципиально новую позицию по отношению к индивидуальному страданию. В изначальном общинном культе и особенно в культах политических союзов игнорировались все индивидуальные интересы. Бог племени, местности, города или царства заботился лишь о тех интересах, которые затрагивали всех – о дожде, солнце, добыче на охоте и победе над врагами. В его культе участвовало сообщество как таковое. Чтобы предотвратить или устранить постигшее индивида зло, прежде всего – болезни, тот обращался не к общему божеству, а к колдуну, этому древнейшему личному «духовнику». Престиж отдельных магов и духов или богов, от имени которых они совершали свои чудеса, обеспечивал им приток обращений, независимо от территориальной или племенной принадлежности, что при благоприятных обстоятельствах приводило к образованию «общины», независимой от этнических союзов. Некоторые – хотя и не все – «мистерии» пошли по этому пути. Они предсказывали индивидам индивидуальное избавление от болезни, бедности, нужды и опасностей. Маг превращался в мистагога: возникали наследственные династии мистагогов или организация с обученным персоналом, глава которой определялся по определенным правилам и мог считаться либо воплощением сверхчеловеческой сущности, либо провозвестником и исполнителем воли своего бога, т. е. пророком. Так возникло религиозное сообщество для собственно индивидуального «страдания» и «избавления» от него. Теперь предсказания и пророчества естественным образом обращались к тем, кто нуждался в спасении. Они сами и их интересы находились в центре профессиональной деятельности, осуществлявшей «заботу о душе», которая, собственно, тогда и возникла. Теперь типичным занятием магов и жрецов становится выявление посредством исповеди причины страданий – «грехов», т. е. нарушений ритуальных предписаний, и наставление по поводу того, какое поведение позволит их устранить. Их материальные и идейные интересы отныне действительно были поставлены на службу специфически плебейским мотивам. Следующим шагом в этом направлении было возникновение – под воздействием типичных и постоянно повторяющихся бедствий – религиозной веры в «спасителя». Ее предпосылкой был миф о спасителе, т. е. (как минимум относительно) рациональное мировоззрение, важнейшим предметом которого опять-таки стало страдание. Отправной точкой часто служила примитивная мифология природы. Духи, отвечавшие за появление и исчезновение вегетации и движение связанных со сменой времен года созвездий, стали основой мифов о страдающем, умирающем и воскресающем боге, который возвращал посюстороннее или гарантировал потустороннее счастье. Предметом страстного культа спасителя также становился образ популярного в народе героя саги, дополненный мифами о его детстве, любви и борьбе – как в случае Кришны в Индии. У политически угнетенного народа – такого, как израильтяне, – имя спасителя (машиах) сначала связывалось с описанными в героической саге избавителями от политических страданий (с Гедеоном, Йеффаем), что предопределило появление «мессианских» пророчеств. Из-за особенных условий у этого народа – и так последовательно только у него – религиозные надежды на спасение были вызваны страданием всего народа, а не индивида. Как правило, спаситель носил одновременно и индивидуальный, и универсальный характер: он гарантировал спасение каждому обращавшемуся к нему индивиду.
Образ спасителя мог принимать различный вид. В поздней форме зороастрийской религии с ее многочисленными абстракциями в роли посредника и спасителя в экономике спасения выступала чисто сконструированная фигура. Или наоборот: до статуса спасителя возвышалось историческое лицо, легитимированное посредством чуда и предсказанного воскрешения. Реализация тех или иных возможностей зависела от чисто исторических моментов.
Но почти всегда из надежды на спасение возникала какая-либо теодицея страдания.
Сначала пророчества религий спасения были привязаны не к этическим, а к ритуальным условиям: например, посюсторонние и потусторонние блага в элевсинских мистериях – к ритуальной чистоте и участию в элевсинской службе. Однако по мере того как с ростом значения права усилилась роль богов, покровительствовавших правосудию, на них была возложена задача защиты традиционного порядка: наказывать за беззаконие и вознаграждать праведных. И там, где влияние пророчеств на религиозное развитие было определяющим, причиной всякого рода несчастий естественным образом становился «грех» – уже не как магическое нарушение, но прежде всего как неверие в пророка и его заповеди. При этом сам пророк вовсе не обязательно являлся выходцем или представителем угнетенных классов. Мы увидим, что почти правилом было обратное. Содержание его учения также преимущественно не было привязано к кругу распространенных среди них представлений. Но в спасителе и пророке нуждались, как правило, не счастливые, богатые и господствующие, а угнетенные или по крайней мере живущие под угрозой нужды. Поэтому возвещаемая пророками вера в спасителя длительное время распространялась в основном в менее благополучных социальных слоях, для которых она либо почти полностью заменяла магию, либо рационально дополняла ее. Если предсказания пророка или самого спасителя недостаточно соответствовали потребностям социально менее благополучных слоев, на их основе внутри официального учения регулярно возникала вторичная массовая религия спасения. Именно рациональное мировоззрение, зачаточно присутствующее в мифе о спасителе, как правило, сталкивалось с проблемой рациональной теодицеи несчастья. Нередко страдание наделялось изначально совершенно чуждыми для него положительными свойствами.
С развитием этических, карающих и вознаграждающих божеств добровольное страдание посредством самоистязания поменяло свой смысл. Изначально магическое заклинание духов посредством молитвенной формулы усиливали самоистязанием, являвшимся источником харизматических состояний, что сохранилось в молитвенной аскезе и культовых предписаниях воздержания даже после того, как магическая формула заклинания духов превратилась в просьбу к богу услышать обратившегося к нему. К этому добавилось смиренное умерщвление плоти как средство раскаянием унять гнев богов и самонаказанием предотвратить заслуженную кару. Многочисленные виды воздержания во время траура, которые изначально (особенно в Китае) должны были предотвратить зависть и гнев умершего, легко переносились на отношения с богами вообще. В результате самоистязание и даже вынужденные лишения стали рассматриваться в качестве более богоугодных, нежели непринужденное наслаждение земными благами, ограничивавшее влияние пророка или жреца.
Значимость этих моментов резко возросла, когда вместе с усиливающейся рационализацией мировоззрения увеличилась потребность в понимании этического «смысла» распределения благ. По мере усиления рационализации религиозно-этического мышления и вытеснения примитивных магических представлений теодицея сталкивалась с все большими трудностями. Слишком часто индивидуальное страдание было «незаслуженным». Причем не только с точки зрения «рабской морали», но и по меркам самого господствующего слоя слишком часто в наиболее выгодном положении оказывались не лучшие, а «худшие». Страдания и несправедливость объяснялись ранее совершенными личными грехами в прошлой жизни (переселение душ), виной предков, искупаемой вплоть до третьего или четвертого поколения, или – наиболее принципиально – порочностью всего тварного как такового. Предсказания уравновешивали это надеждой на будущую лучшую жизнь для самого индивида в этом мире (переселение душ), для его потомков (царство мессии) или в потустороннем мире (рай). В рамках метафизического представления о боге и мире, вызывавшем неискоренимую потребность в теодицее, было создано очень небольшое число – как мы увидим, всего лишь три – мыслительных систем, дававших рационально удовлетворительные ответы на вопрос о причине несоответствия судеб людей их заслугам: индийское учение о карме, зороастрийский дуализм и доктрина о предопределении (Deus absconditus).[18]18
Сокрытый Бог (лат.). – Примеч. перев.
[Закрыть] Однако подобные рационально целостные решения лишь в исключительных случаях проявлялись в чистой форме.
Рациональная потребность в теодицее страдания – и смерти – имела чрезвычайно сильное влияние. Она оказала прямое воздействие на важные характерные черты таких религий, как индуизм, зороастризм, иудаизм, а также в известной мере на учение апостола Павла и более позднее христианство. Даже в 1906 году лишь меньшинство (из довольно значительного числа) пролетариев в качестве причины своего неверия назвало знакомство с современными теориями естествознания, тогда как большинство указало на «несправедливость» посюстороннего миропорядка, – видимо, в основном из-за того, что они верили в возможность революционным путем достичь равенства в этом мире.
Теодицея страдания могла носить оттенок ресентимента. Однако потребность восполнить неудовлетворительную посюстороннюю судьбу далеко не всегда принимала такую окраску, как правило, не это было ее определяющей чертой. Вера в то, что у неправедного человека дела в посюстороннем мире идут хорошо именно из-за того, что ему предуготовлен ад, а благочестивым людям – вечное блаженство, и потому совершенные грехи следует искупить в этом мире, конечно, очень близка жажде мести. Но легко убедиться, что даже эти представления далеко не всегда были обусловлены ресентиментом и далеко не всегда являлись продуктом социально угнетенных слоев. Было лишь несколько примеров, когда сущностные черты религиозности действительно определялись ресентиментом, и лишь в одном случае это было ярко выражено. Верно лишь то, что ресентимент в качестве одного из оттенков (наряду с другими) мог и часто действительно оказывал влияние на религиозно обусловленный рационализм непривилегированных слоев. Это влияние было различным, часто ничтожным – в зависимости от природы предсказаний конкретных религий. В любом случае, было бы совершенно неправильно выводить «аскезу» целиком из этого источника. Естественная причина недоверия к богатству и власти в подлинных религиях спасения прежде всего в том, что спасители, пророки и жрецы по собственному опыту знали, что благополучные и «сытые» слои в целом испытывали лишь незначительную потребность в спасении – неважно какого характера – и потому считались этими религиями менее «благочестивыми». Развитие рациональной религиозной этики именно среди социально менее значимых слоев также коренилось в их положении. Слои, прочно обеспечившие себе социальный почет и власть, обычно выстраивают свою сословную легенду, исходя из якобы присущих им особых качеств, чаще всего – особого качества крови: их бытие (действительное или мнимое) питает их чувство собственного достоинства. Напротив, социально угнетенным слоям, негативно или хотя бы не позитивно оцениваемым сословиям проще всего черпать чувство собственного достоинства из веры в возложенную на них «миссию»: их долженствование или (функциональные) действия гарантируют или конституируют их собственную ценность, которая тем самым сдвигается в потусторонний мир, превращаясь в «задачу», поставленную им богом. Уже в этом коренился источник идейной власти этических пророчеств, прежде всего среди непривилегированных, и для этого не требовался ресентимент в качестве рычага. Было вполне достаточно рационального интереса к достижению материального и идейного равенства. Не вызывает сомнений, что наряду с ним в пропаганде пророков и жрецов – намеренно или ненамеренно – также использовался ресентимент масс, но это не было универсальным явлением. Насколько известно, эта в значительной мере негативная сила нигде не была источником тех метафизических по своей сущности концепций, которые придавали своеобразие каждой религии спасения. Характер религиозного пророчества вовсе не обязательно целиком или хотя бы преимущественно выражал классовые интересы внешнего или внутреннего рода. Как мы увидим, сами по себе массы повсюду оставались верны исконной магии, если только какое-нибудь пророчество не вовлекало их своими обещаниями в религиозное движение этического характера. В остальном своеобразие крупных религиозно-этических систем гораздо сильнее определялось специфическими общественными условиями, чем просто противоположностью господствующих и угнетенных слоев.
Чтобы больше не повторяться, сделаем еще несколько замечаний по поводу этих отношений. Блага спасения, которые обещались и предлагались этими религиями, вовсе не должны пониматься эмпирическим исследователем исключительно или преимущественно как «потусторонние», не говоря уже о том, что не каждая и тем более не каждая мировая религия считала местом осуществления своих пророчеств потусторонний мир. За исключением христианства и некоторых иных аскетических верований, блага спасения во всех религиях – изначальных и создававшихся осознано, пророческих и непророческих – были в первую очередь грубо посюсторонними: здоровье, долголетие и богатство обещались в китайской, ведической, зороастрийской, древнееврейской, исламской религиях точно так же, как в финикийской, египетской, вавилонской и древнегерманской, подобно обещаниям благочестивым мирянам в индуизме и буддизме. Только религиозный виртуоз – аскет, монах, суфий, дервиш – стремился к благу спасения, «внемирскому» в сравнении с грубыми посюсторонними благами. Но и это внемирское благо спасения вовсе не было исключительно потусторонним, даже если понималось в качестве такового. Психологически для ищущих спасения скорее было важно именно их нынешнее, посюстороннее переживание. Пуританская certitudo salutis[19]19
Уверенность в спасении (лат.). – Примеч. перев.
[Закрыть] – неотъемлемое, чувственно подтверждаемое состояние собственной избранности было единственным психологически ощутимым благом спасения этой аскетической религиозности. Акосмическое чувство любви буддийского монаха, уверенного в достижении нирваны, бхакти (глубокая любовь к богу) или апатический экстаз благочестивого индуиста, оргиастический экстаз в радениях хлыстов и танцующего дервиша, одержимость богом и обладание богом, любовь к Марии и Спасителю, иезуитский культ Сердца Иисуса, квиетистское благоговение, пиестистская нежность к младенцу Иисусу и его «ранам», сексуальные и полусексуальные оргии в культе Кришны, изысканные культовые трапезы у почитателей Валлабхи, гностические онанистические культовые обряды, различные формы unio mystica[20]20
Мистическое единение (лат.). – Примеч. перев.
[Закрыть] и созерцательного погружения во Всеединое – всех этих состояний стремились достичь прежде всего ради тех чувств, которые они непосредственно вызывали у верующего. В этом отношении они вполне тождественны религиозному опьянению в дионисийском культе или в культе сомы, тотемным оргиям, трапезам каннибалов, древнему религиозно освященному потреблению гашиша, опия и никотина и вообще всем видам магического опьянения. Из-за своей психической внеобыденности и обусловленной этим особой самоценности данные состояния считались специфически священными и божественными. И хотя только рационализированные религии, помимо непосредственного обладания благом спасения, привнесли в эти специфически религиозные действия еще и метафизическое значение, тем самым сублимировав оргию в «таинство», даже самая примитивная оргия не могла полностью обходиться без толкования смысла. Просто в ней толкование носило чисто магически-анимистический характер и не было или лишь в зачаточном виде было включено в универсальную космическую прагматику спасения, свойственную всякому религиозному рационализму. Однако и в дальнейшем благо спасения психологически переживалось благочестивым человеком в настоящем. Т. е. оно выражалось прежде всего в самом состоянии, в самом чувственном переживании, непосредственно вызываемом специфически религиозным (или магическим) актом, методической аскезой или созерцанием.
По своему смыслу и по внешнему проявлению это состояние могло быть лишь внеобыденным переживанием и носить временный характер. Изначально так было повсюду. Различие между «религиозным» и «профанным» состоянием – лишь во внеобыденности первого. Однако достигнутое средствами религии особое состояние могло превратиться в постоянное «состояние спасенности», охватывающее судьбу человека. Переход был постепенным. Из двух высших концепций сублимированного религиозного учения о спасении – «перерождения» и «искупления» – первое являлось древнейшим достоянием магии. Оно означало обретение новой души посредством оргиастического акта или планомерной аскезы. Ее обретали на время в экстазе, но к ней также могли стремиться как к постоянному состоянию, достигаемому средствами магической аскезы. Новой душой должен был обладать юноша, желавший вступить в качестве героя в сообщество воинов, участвовать в качестве члена культового сообщества в магических танцах и оргиях или в культовой трапезе с богами. Поэтому издревле существовала аскеза героев и магов, инициация юношей и священные обряды нового рождения на важных этапах жизни индивида и сообщества. Однако, помимо применяемых средств, прежде всего различались цели этих действий, т. е. ответы на вопрос, «во что» нужно было переродиться.
Можно по-разному систематизировать религиозно (или магически) значимые состояния, которые придавали религии определенный психологический характер. Здесь мы не будем предпринимать подобных попыток. В связи с вышесказанным важно лишь показать в самом общем виде, что характер (посюстороннего) состояния блаженства или нового рождения, почитаемого в определенной религии в качестве высшего блага, должен был неизбежно отличаться в зависимости от характера слоя, являвшегося важнейшим носителем данной религиозности. Воинственные рыцарские сословия, крестьяне, ремесленники, книжно образованные интеллектуалы, конечно, имели различные устремления; и хотя последние сами по себе, – как мы еще увидим, – были очень далеки от того, чтобы однозначно детерминировать психологический характер религии, тем не менее они оказывали на него длительное воздействие. В частности, особо важна противоположность двух первых и двух последних слоев. Ведь интеллектуалы всегда являлись носителями рационализма, а занятые промыслами (купцы, ремесленники) – по крайней мере могли ими стать; в первом случае это был более теоретический, во втором – более практический рационализм, который мог принимать различные формы, но всегда оказывал значимое воздействие на религиозные взгляды. При этом важнейшее значение имело своеобразие интеллектуальных слоев. Насколько для религиозного развития в настоящее время безразлично, испытывают ли современные интеллектуалы наряду с иными ощущениями еще и потребность в наслаждении «религиозным» состоянием как «переживанием», как бы стильно обставляя свой интерьер гарантированно подлинными старинными предметами, – а из этого источника еще нигде не возникало религиозного обновления, – настолько важным для религий в прошлом было своеобразие интеллектуальных слоев. Их задача заключалась в том, чтобы сублимировать религиозное обладание спасением в веру в «избавление». Сама по себе концепция избавления является очень древней, если под этим понимать освобождение от нужды, голода, засухи, болезней и – в конечном счете – от страдания и смерти. Но свое специфическое значение избавление впервые получило там, где оно стало выражением систематически-рационализированной «картины мира» и отношения к ней. Именно от картины мира и отношения к ней зависело, что означало и могло означать спасение по своему смыслу и своим психологическим свойствам. Интересы (материальные и духовные), а не идеи непосредственно господствуют над действиями людей. Однако «картины мира», созданные посредством «идей», очень часто в качестве вех определяли те пути, по которым развивалась динамика интересов. Ведь от картины мира зависело то, «от чего» и «в чем» искали и – не следует забывать – находили «спасение»: от политического и социального рабства в посюстороннем мессианском царстве будущего; от осквернения ритуально нечистым или вообще от нечистого заточения в плоти в чистоте душевно-телесного-прекрасного или чисто духовно бытия; от вечной бессмысленной игры человеческих страстей и вожделений в тихом покое чистого созерцания божественного; от радикального зла и рабства во грехе в вечном свободном блаженстве в лоне отеческого бога; от астрологической зависимости от расположения созвездий в достойной жизни в свободе и единении с сущностью сокрытого божества; от проявляющихся в страданиях, нужде и смерти внешних ограничений конечного существования и от грозящих адских кар в вечном блаженстве в будущей, земной или райской, жизни; от круговорота перерождений с их жестокой расплатой за действия в прошлых жизнях в вечном покое; от бессмысленности мыслей и поступков во сне без сновидений. Вариантов было еще больше. За ними всегда стояло отношение к чему-то в реальном мире, что воспринималось как специфически «бессмысленное», и требование того, чтобы мироустройство в своей целостности было так или иначе осмысленным «космосом» или же могло и должно было им стать. Носителями этого желания, являвшегося основным продуктом собственно религиозного рационализма, были именно интеллектуальные слои. Пути и результаты этой метафизической потребности, а также мера ее действенности, сильно различались. Тем не менее, об этом можно высказать несколько общих замечаний.