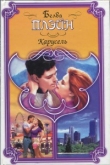Текст книги "Комната по имени Земля"
Автор книги: Маделин Райан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
24
Парень, кстати, ушел, только я не уверена, легче мне стало от этого или, наоборот, еще страшнее. Вдруг он прячется где-то? За живой изгородью, например, или чьим-то забором, или на подъездной дорожке? Вообще-то стремно идти дальше. Ладно, дорогое мироздание. Но я отказываюсь верить в то, что тема этого урока «Не гуляй по ночам в одиночестве» или «Не гуляй по ночам в одиночестве, когда никто не знает, где ты». Потому что необходимость сообщать о своем местонахождении я-даже-не-знаю-кому сводит на нет многомерную природу моего существования и помещает меня в гораздо более мрачную реальность, чем та, в которой я хотела бы обитать. В смысле, вот тот парень точно знал, где находится его девушка, однако это никак не повлияло на то, что с ней случилось.
25
Теперь, миновав главные ворота вечеринки, я наконец почувствовала облегчение. Как будто оказалась под защитой после долгого и полного опасностей путешествия. Мне и вправду хочется поделиться с кем-то только что пережитым, полутравматичным и глубоко личным опытом. Только вот не с кем. В смысле, тут целая куча людей, которым можно обо всем этом рассказать, но все же некому. Я лавирую между ними, избегаю зрительного контакта, потому что, стоит мне встретиться взглядом с кем-нибудь, он бы сразу понял, что мне есть о чем рассказать, и возникла бы некоторая неловкость, потому что говорить я не собиралась.
Эта прогулка принесла мне столько хорошего. И часть страхов превратилась в радость, любовь, чудеса и неоновые огоньки. Когда меня спрашивают, чем я «занимаюсь», отвечаю частенько, что я алхимик – это единственно честное обозначение для всех моих занятий, в отличие от тех ярлыков, что навешивают на меня. И для меня это важно. А вот для моего отца нет, не было бы таким. Я всегда хорошо знаю, что имело смысл для моего отца, а что нет. Он точно внедренная в меня судейская система, которая управляет каждым моим движением, мыслью, чувством и выбором.
Используя слово «алхимик», чтобы описать себя, я осознаю, что папа посчитал бы это «умным» и даже «милым», но лишь отчасти, поскольку оно указывает на то, что я опираюсь на мировоззрение своей психологини. Папа же предпочел бы, чтобы я опиралась на его мировоззрение и на его философию. Так что ему было немного неловко за то, каким человеком я становилась под влиянием тех, к кому прислушивалась, хоть он и поощрял мое стремление к открытости ума и желание стать самой собой.
Он считал, что слова и названия должны делать вещи более ясными и четкими, а не сложными и расплывчатыми. Слова и названия, на его взгляд, существовали для того, чтобы организовывать, классифицировать и служить объективной реальности, среди которой мы все живем и которую ощущаем. Мне же, наоборот, всегда казалось, что если объективная реальность и существует, то слова для нее не нужны.
На самом деле у каждого из нас свои собственные отношения со словами и с обозначениями. И неважно, насколько «конвенционален», «традиционен» или «общепринят» наш выбор слов и определений, интерпретации все равно субъективны. И если я вдруг представляюсь стриптизершей, художницей, биржевым маклером или алхимиком, у каждого открывается целый калейдоскоп переживаний и впечатлений, который не принадлежит мне и не имеет ко мне никакого отношения и который я не могу контролировать. Кто-то любит стиптизерш, а кто-то осуждает. Кто-то в восторге от биржевых маклеров, а кому-то они жизнь сломали.
Я пыталась обсудить это с папой, но он сказал, что, прежде чем излагать все это, мне надо изучить лингвистику. Сам он ее не изучал, но считал, что мне это необходимо. И сомневаюсь, что потом он бы захотел, чтобы я обучала лингвистике его. Просто он думал, что, прежде чем поднимать эту тему с ним, я должна изучить лингвистику.
26
Я иду в гостиную и молюсь за свое «я», которое было так напугано, молюсь за парня, который, как мне казалось, следил за мной. Я тебя прощаю и отпускаю. Я тебя прощаю и отпускаю. Я тебя прощаю и отпускаю. Молитвы доступны не только тем, кто регулярно ходит в церковь, синагогу, мечеть или куда-то еще. Молитвы доступны любому. Как, собственно, и проклятия, и заклинания. Они тоже доступны каждому, а не только тем, у кого есть котел, метла и хрустальный шар. Мы ежедневно и круглосуточно произносим молитвы и заклинания – каждым своим словом, мыслями, указующими перстами.
Я поняла это, когда работала в одном волшебном магазинчике. Его хозяйка сорок лет крутилась в страховой сфере, но потом вдруг стала ведьмой и начала вляпываться во всякое волшебное дерьмо. Как только у нее случалось что-то плохое, она предполагала, что ее кто-то околдовал. Паранойя и подозрительность развились вполне естественно. Наверное, это необходимые качества для работы в страховой компании, но уж точно не для человека, который называет себя целителем и эмпатом.
У нее были безукоризненные ухоженные длинные белые волосы и кроваво-алые ногти. Она была загадочна во всем: во всех своих мыслях, чувствах и намерениях. Свои зелья, ингредиенты которых были окутаны тайной, она продавала в маленьких коричневых флакончиках. Помню, я однажды сказала ей, что, возможно, покупатели были бы рады узнать, что входит в ее «Приворотное зелье» или «Масло изобилия», она же в ответ расхохоталась и заявила, что да, наверняка им хочется «украсть ее магию». Она не то что никогда никому не доверяла, но постоянно доказывала, что у нее нет никаких оснований доверять людям.
На нашей улице тем временем открылся еще один эзотерический магазин, и она была твердо уверена, что они пришли за ней. Ее не убеждали никакие доказательства того, что это не так. Она на чем свет костерила хозяев этого магазинчика. Должно быть, она не читала ничего об этом в своих ведьмовских книгах. Потому что я нашла время почитать, и там везде говорится, что все произнесенное вами возвращается стократ. Вот цитата из одной такой книги: «Не налагай проклятий и заклятий на других, не думай о них худого и не желай им его, ибо ты налагаешь проклятия и заклятия, а также и желаешь худое самому себе».
Однажды она попросила меня начистить все до единой руны и всякие другие штуки, заполнявшие бесчисленные стеклянные шкафы. Чтобы было удобнее, мне пришлось сесть на колени на пол. И мимо проходила она. Остановившись на полпути, она задумалась на секунду, повернулась и вдруг сказала: «О, ты можешь не падать ниц передо мной, это совсем не обязательно!» Тогда я встала, вышла и больше никогда сюда не возвращалась.
Подозреваю, она была в ярости. Уход кого-то или потеря чего-то не всегда бывают понятны, и это вызывает в людях взрыв обиды и гнева, потому что нужно сильно потрудиться, чтобы объяснить их себе и запустить процесс отпускания. А они, знаете ли, не слишком хотят брать на себя ответственность и все такое. И просто считают, что те, кто ушел от них, козлы и мудаки.
Чтобы я могла защититься от ее заклятий и черной магии, все феи, прорицатели, шаманты-хироманты, кто работал вместе со мной, научили меня ритуалу перерезания пуповины и визуализации белого света, исходящего из земли и через мое тело вырывающегося в космос. Правда, осталась небольшая проблема: научив меня этому, они все равно продолжали бояться ее и вовлекали в это меня.
Но я не позволила этой друидке-язычнице-ведьме-леди-прорицательнице, или как там она теперь себя называет, напитаться моим страхом. Я смотрела «Звездные войны» и поэтому знала, что я сама сила и моя сила со мной, все мысли и слова – только мои, их никогда не подчинит эта злобная дама, называющая себя ведьмой.
Каким бы злобным ни был человек и как бы он ни пугал нас, не стоит от него «защищаться». Пока мы можем превратить переживания в любовь и свет, не стоит тратить ни время, не энергию на страх, на попытки удержать возле себя кого-то или что-то. Нужно всегда быть готовым учиться и расти.
27
Рождественская вечеринка оказалась какой-то инфернальной. Окно гостиной было слишком маленьким и выходило на деревянный забор. Льдисто-голубая пластиковая елка блестела гирляндами где-то в углу. Огромный телевизор не работал, как и музыкальный центр. Колонки возвышались в полутьме, точно обелиски. Куча людей двигалась под музыку в стиле электро. Несколько обкуренных парней развалились на диванах, тупо глядя на танцующих, к которым могла бы присоединиться и я.
Возле дверей стояла небольшая компания. Все как один были ровно закопченные, напоминая жареных цыплят, которых готовил мой отец, обмазывавший их предварительно веджимайтом. На всех обрезанные джинсы, короткие жилетки, купальники, перья, пирсинг, глиттер, повязки, цветочные венки и банданы. Я не могу ничего накручивать вокруг своей головы: мне всегда не хватает воздуха и кажется, будто я уже умерла.
Иду дальше, чтобы отыскать себе местечко, где можно расслабиться и не сталкиваться ни с кем лбом. Мне нравится просто танцевать. Для того, например, чтобы избегать вербального взаимодействия, которое всегда сводится к объяснению всякой хрени, доказательству хрени, разъяснению хрени, спорам о хрени, критике хрени, хвастовства всякой хренью, избегания хрени, драматизации хрени, хреновым шуточкам ниже пояса, отказа от хрени, защите хрени и нападении на нее, лжи и убеждению, что с хренью будет «все в порядке», – в общем, всему тому, что включает взаимодействие людей друг с другом, когда они много болтают ни о чем.
Своих собратьев я люблю, только когда у них захлопнуты рты. Так что танцы на вечеринке предоставляют возможность оставаться среди людей, но не говорить с ними.
Здесь довольно жарко, я устремляюсь к окну, но оно закрыто. Тщетно пытаюсь открыть его. Оно залито краской намертво. Давайте-ка притворимся, будто я ничего такого не делала. Потому что если кто-то заметит это, то обязательно спросит, а что эта чика тут делает, если ей нужно на воздух. И тогда я отвечу ему, что сама задаю себе точно такой же вопрос.
Люди в этой части комнаты оказались адептами БДСМ. На них сапоги-чулки на платформе, кожаные ремни с пряжками, парики и черная помада. Танцы их больше напоминали жесткое порево. У двоих были игрушечные пистолеты, стрелявшие пузырями.
По гостиной бродили несколько потных чуваков в огромных полосатых футболках и спортивных штанах, с золотыми цепями на шеях. У одного из них в ухе блестела серьга, а за ухом торчал свернутый косяк. Они пытаются быть незамеченными и при этом ко всем приглядываются. Точь-в-точь как я. Хотя, если серьезно, они, кажется, ищут, у кого бы что-нибудь стибрить. Вот не повезет кому-то, кто забыл закрыть рюкзак или сумку. Девчонки в трикотажных платьицах с психоделическими рисунками и с ожерельями из ракушек тоже выглядят подозрительно. Или, может, они просто хотят понравиться тем чувакам. Трудно сказать.
Двое мальчиков с огромными крыльями за спиной целуются взахлеб в самом центре комнаты. А чуть поодаль, вдоль стены выстроились девочки в кроссовках на массивной подошве, спортивных носках, спортивных шелковых трусах, топ-кропах и коротеньких толстовках с огромными капюшонами. Эти как раз не танцуют. Но когда они пытаются поговорить друг с другом, то вскидывают руки ко рту, и я вижу, как сверкают капельки кристаллов на их флуоресцентных акриловых гигантских ногтях. Девочки выглядят так, будто только что вернулись с пляжа, озера или с рейва, где все должны одеваться и вести себя одинаково, демонстрируя, что они одно племя, единое целое друг с другом, со своими телами, с природой и черт-те с чем еще.
Там они пытались найти тех, с кем пришли, куда-то звонили, выискивали драгдилера, пытались встретить какую-нибудь знаменитость, высмотреть киоск с чипсами подешевле, пытались проникнуть в ВИП-зоны, поставить свой лагерь поближе к сцене, пытались блевать, спать и получить какой-то новый опыт, которого у них еще не было.
Хотя, может, все эти люди, кто оказался сейчас на вечеринке, просто усовершенствовали искусство выглядеть так, будто они только что приехали с пляжа, озера или с рейва, а на самом деле всю последнюю неделю проверяли свою электронную почту и сидели на совещаниях, потому что названия их должностей содержат какие-то слова типа «маркетинг» в начале, «коммуникации» в середине и «консультации» в конце.
Сейчас модно скорее казаться кем-то, чем быть им. Так что любой способен притвориться, что живет более полной жизнью и более независим, хотя на самом деле все не так. Можно же одеваться по последним модным тенденциям, отбивать нужный ритм, таскаться по фестивалям, впахивать как папа карло, постоянно тусоваться среди «смелых» и «оригинальных» только для того, чтобы стать похожим на них и чтобы всем остальным и самому себе тоже казаться «смелым» и «оригинальным».
Только вот проблема в том и состоит: чтобы быть «смелым» и «оригинальным», надо быть «смелым» и «оригинальным», а если ты пыжишься и пытаешься показаться таким, тратишь все силы, всю энергию и кучу времени на это, по-настоящему «смелым» и «оригинальным» не станешь.
28
Я нашла славное местечко возле елки, его, видимо, никто еще не присмотрел. Слева от меня девушка с косичками в пастельно-розовом с кружевами платье, больше похожем на комбинацию. Она двигает бедрами точно так же, как и я, смотрит на мои бедра и как будто фиксирует движения. Ее подруга, немного рассеянная, тоже в шелковом и тоже похожем на комбинацию, но менее кружевном платьице, только оливково-зеленом.
Она не смотрит прямо на меня, исподтишка наблюдает за моими движениями и делает то, что делает, – копирует меня. Наверняка благодаря этому она чувствует себя более непринужденно, я понимаю. Но вот сама не могу делать так, как она, не осознавая этого полностью, иначе обязательно бы подошла к человеку, которого копирую, и сказала бы ему: «Знаю, что подражаю тебе, но так я чувствую себя в безопасности. Мне кажется, у меня круто выходит, правда?»
Я чувствую себя здесь не в своей тарелке. У каждого тут как будто есть двойник, и это заставляет меня нервничать. Мое присутствие нарушает устоявшуюся иерархию. До этого их зеркальные нейроны как будто радостно срабатывали, а теперь все смотрят и одновременно не смотрят на меня, и все это замечают. Что ж. Просто закрою глаза и сама буду наблюдать за всем этим дерьмом.
Итак, что у нас есть. Музыка и комната, и пространство за ее пределами, и разум, и тело, и дыхание, и дух. Потом мое отношение к музыке и к комнате, и к пространству за ее пределами, и к разуму, и к телу, и к дыханию, и к духу. И вот теперь все остается как будто вне этой комнаты и разума, и тела, и дыхания, и духа. А еще луна. Я чувствую луну.
Прошлой ночью я видела сон о какой-то очень влиятельной женщине, которая обходила огромную толпу, и понимала, насколько она влиятельна, по тому, как все реагировали на нее. Они как будто сжимались, становились меньше, таращились на нее, у них перехватывало дыхание, а жесты становились отчаянными, напряженными, суетливыми, и при этом, прежде чем обращаться друг к другу, они внимательно смотрели на ее движения.
Она попросила профессиональных танцоров выйти вперед и станцевать для нее. Я не была профессионалом в этом деле, поэтому не отсвечивала. Но она встала около меня и потребовала, чтобы я станцевала для нее, и неудивительно, что я почувствовала себя униженной и была крайне оскорблена этой просьбой. Я не знала ни верных движений, ни темпа, вообще ничего. Я просто обняла себя за талию обеими руками, вскинула голову и начала покачивать бедрами, ощутив, как кислород разливается по моему телу, появляется даже там, где его никогда не было. Ничто уже не могло остановить меня, да и терять было нечего, потому что я не профессиональная танцовщица. Меня ничему не учили. Никаким правилам. В танце была только я и все, что вырывалось наружу изнутри меня.
Еще чуть-чуть – и я заплачу, так что лучше буду держать глаза закрытыми. Танцевать с незнакомцами – это одно. А вот плакать и танцевать с ними – совсем другое. Большинство людей не осознают того факта, что ради собственного комфорта требуют, чтобы другие не плакали и вообще не делали ничего такого, что выходит за рамки установленного кодексом поведения, естественно кодекса негласного. Однако необходимо придерживаться его во всем и использовать определенные движения и ненеинвазивные формы зрительного контакта, хотя это совсем не в моей природной сущности, и, естественно, плач здесь совершенно ни при чем.
Скорее всего, танцевать я должна сдержанно, время от времени встречаясь взглядами с разными людьми, оставаясь при этом на одном месте, потому что все предпочли бы, чтобы меня здесь попросту не было. Они лишь терпят меня, поэтому не стоит проверять границы дозволенного. Я изгой и должна вести себя так, будто знаю об этом.
На самом деле меня очень утомляет, что, где бы я ни оказалась, мне необходимо доказывать свою полноценность. Иногда просто хочется побыть среди других людей. Вообще не могу припомнить, когда двигала своим телом так, как хотела, смотрела туда, куда хотела, говорила то, что хотела, или плакала тогда, когда хотела плакать в ситуации социального взаимодействия.
Мой отец учил меня приспосабливаться и делать то, что от меня ожидают, всегда говорить «пожалуйста» и «спасибо», здороваться и прощаться, но главное – ставить чужие чувства и желания выше собственных. Ребенка, который уже готов к развитию своей фиксированной идентичности, научить всему этому было бы и полезно. Я уже вижу, как ребенок, который всегда ставит себя на первое место, извлекает пользу из слов и действий отца, который учит его больше заботиться о других. Но так получилось, что я понятия не имею, кто я такая. Где-то даже вычитала, что у женщин вообще нет фиксированной идентичности, поэтому они так много говорят о ней и так отстаивают ее.
Мысленно я постоянно спорю с папой по этому поводу. Основой его личности было четкое понимание, что он «должен» или «не должен» делать. Благодаря католическому воспитанию он объяснял свои и чужие действия только через призму десяти заповедей Господа. Он занимался спортом, потому что «должен» был им заниматься, звонил своей сестре, потому что «должен» был это делать, вовремя оплачивал счета, жил, работал и даже дышал только потому, что «должен».
Но, учитывая то, кем он являлся на самом деле и чего хотел, далеко не все укладывалось в его понятие «должен». Каждый вечер за ужином он читал нам с мамой лекции о том, как следует жить в соответствии с этим понятием, пока она не принимала украдкой диазепам и не ложилась спать. У меня же пропадал аппетит до следующего обеда.
Вся сила его уверенности в том, что правильно и неправильно, вращала нашу реальность, так что чувствам в ней было не место. Они только мешали и постоянно напоминали ему о том, что все-таки есть нечто не поддающееся его контролю.
И всякий раз, когда я спрашивала его, о чем он только что говорил, или молчала в ответ, или пыталась возражать, или плакала, он отвечал мне, что я «не должна» спорить, или что «должна» что-то сказать, или что «не должна» плакать, или «должна» извиниться, но потом он извинялся и говорил, что любит меня. Наверняка потому, что «должен» был это сказать.
29
Возле одной из неработающих колонок стоит женщина, одетая в идеально скроенные по фигуре льняные кремовые брюки, узенький бикини-топ такого же кремового оттенка и мягкие кроссовки, тоже кремовые. Все, кажется, хорошо знают ее. И когда она не смотрит на присутствующих, они не отводят от нее глаз, и когда смотрит, они также глядят на нее. Никакого спасу. Очень глянцевая и очень кремовая особа. По обе стороны ее улыбающегося рта ямочки. И волосы, длинные и волнистые, стекают по спине, будто мягкая карамель.
Она не делает ничего такого, что заслуживало бы пристального внимания. Не кричит, не танцует с излишним энтузиазмом. Просто покачивается из стороны в сторону – и все на нее пялятся. Покачивается – и все следят. Она просто существует, а все остальное люди делают сами.
Она что-то прошептала на ухо стоящему рядом парню и рассмеялась так, что смех разнесся по комнате, точно электрический разряд. Парень же, которому была адресована «шуточка», оказался похуже. Его притворный смех никуда не годится. Он неуверенно и совсем не иронично взглядывает на публику, чтобы оценить реакцию на происходящее. Наверняка оценка реакции у него – всего лишь способ измерения обоснованности ситуации и ее соответствия нравственным критериям. А самому ему непонятно, что именно он должен чувствовать или что заставляет его чувствовать эта женщина, поскольку бесконечно думает о производимом эффекте, свои же чувства ему безразличны – только реакция публики. Именно поэтому он и говорит с этой женщиной. Только с ней он «должен» разговаривать. В культурном плане она полностью соответствует его требованиям. А это уже кое-что: ведь теперь он может ее использовать, чтобы побороться за собственный статус в глазах товарищей.
Он одет в камуфляж и армейские ботинки, темные вьющиеся волосы убраны под узкую черную повязку. Его наряд, по всей видимости, должен показывать весь его авторитаризм и воинственность, но бесполезно. Он не выглядит ни авторитарным, ни воинственным. Скорее потерянным и неуправляемым. Он довольно высокий, неуклюжий, и всякий раз, когда он собирается сказать что-то, его грудь как будто проваливается, а поза рушится. Должно быть, в детстве он был очень крупным, краснощеким, с липкими пальцами, его все дразнили, потом он скачками вырос, но, став взрослым мужчиной, до сих пор не знает, что делать со всеми своими конечностями.
Она постоянно привлекает его внимание к разным частям своего тела. То играет с волосами, то теребит бретельки бикини-топа, наклоняя голову вначале в одну сторону, потом в другую, затем кладет руки на бедра. На спине белые линии от купальника на фоне загара светятся в темноте. Громкая музыка тоже на ее стороне – женщине и этому парню все время приходится наклоняться поближе друг к другу, чтобы расслышать все, что они говорят.
Ах! Она только что показала ему свою татушку. Классика жанра! Чтобы он увидел рисунок, который протянулся вдоль всего бока, она показала и часть груди, и ребра, и живот. Кажется, там изображена луна. Идеально. Он хорошо рассмотрел ее тело сверху вниз, заглянул во все места, куда, по ее представлениям, запретил себе заглядывать. Люди вообще одержимы тем, что не позволяют себе иметь, а потом попадают под власть этого. Запретный плод сладок и желанен для каждого. Я разрешаю себе иметь все, что хочу, чтобы избавиться от такого контроля. Даже папа заметил, мое живое безграничное любопытство – это вызов его личности. Оно разрушало все папины представления о себе самом и о мире.
Есть фотография, где мы с ним вдвоем. Мне тогда было четыре или пять. Мама сняла нас, когда мы остановились в Квинсклиффе, в старом, еще викторианских времен, отеле с пляжем. Мы только что позавтракали во внутреннем дворике и отправились смотреть разные номера. Помню, папа постоянно одергивал меня, чтобы я не трогала мебель, не пачкала ее. Я же недоумевала, каким же это образом я могу ее испачкать. Можно подумать, я успела вся вываляться в песке между глотками свежевыжатого апельсинового сока и откусыванием только что выпеченного круассана. На мне было мое любимое красно-белое платье в горошек, туфельки с перемычкой, носочки с оборками, и вообще я находилась в особом месте вместе с мамой и папой.
На фото я возлежу на розово-золотом шезлонге, демонстративно вскинув маленькие ножки куда-то в небеса, отец же сидит чуть поодаль, аккуратно скрестив ноги и вцепившись в подлокотники кресла так, точно это штурвал мечущегося по морю корабля, а он его капитан.
Однажды на день рождения я сделала из этого фото закладку для книг, но он никогда ею не пользовался. А ведь я украсила ее блестками, но даже они не смогли придать юмора или хотя бы сгладить то, насколько мы с отцом были разные.
Зато моя мать прекрасно умела убедить его в том, что он царь и в нашей семье торжествует его мягкая диктатура. Он же видел в маме святую, и она постепенно превращалась в нее, когда тихонько отключалась, сославшись на мигрень, приняв коктейль из наркотиков и заснув в полутемной комнате, занавешенной тяжелыми шторами.
Жить с мамой было все равно что жить в каком-нибудь хранилище, которое получает удовольствие только от одного щелчка замка, на который закрывается. Она предпочитала, чтобы все окружающие чудесным образом угадывали ее желания и потребности, чтобы ей не нужно было проходить через трудный процесс формулировок или тем более борьбы.
Я видела сны о том, что должна сделать или не сделать для нее, – это-то и подготовило меня к жизни в постоянном напряжении рядом с людьми. Особенно с женщинами. Потому что им, блин, кажется, что все вот-вот произойдет – а оно не происходит, а все, что происходит на самом деле, тоже, по их словам, не то.
Вот, казалось бы, ты говоришь с женщиной на совершенно безобидные темы – о политике, фильмах, друзьях, работе, отношениях, еде, татуировках, погоде, астрологии, домашних животных, аренде, кристаллах, таро и обо всем прочем, но это может быстро спровоцировать конфликт, поскольку в подтексте имеется в виду нечто иное. На самом деле это разговор о соблазнении, конкуренции, секретах, власти, безопасности, приобщении, разъединении, сексе, слабости, силе или зависимости.
Женщинам трудно быть честными и прямыми, потому что на протяжении веков нас сжигали на кострах, преследовали, ссылали, отвергали, отлучали от церкви, бросали, стыдили, исключали из общества за наши мысли и чувства. И мы научились быть прямолинейными и откровенными, когда хитрим и скрываем что-то. Мы научились быть рискованными и свободными, когда не хотим рисковать и не чувствуем свободы. Беспомощными и сломленными, когда на самом деле не беспомощны и не сломлены. Обман укоренился в нас сильнее честности.
Мама всегда отлично ладила с женщинами, которые умело манипулировали, играя роль жертвы. Ее ближайшие подруги страдали различными болезнями, у них вечно тянулись какие-то суды, была низкая самооценка, проблемы с психоактивными веществами, работодатели строили им козни, а подчиненные и родственники воспринимали их жертвы как нечто само собой разумеющееся.
Женщины эти утверждали, что на самом деле сами сговорчивы и легко приспосабливаются ко всему, но это было не так. Не совсем так. Однако маме нравилось. Она всегда говорила: «О, такая-то никогда ни о чем не попросит, она очень милая, но было бы здорово, если бы вы сделали для нее то-то, то-то и еще вот это».
Все ее подружки были «прекрасными», «милыми», «трогательными». Только потому, что они такие: о, нет, ты первая; о, нет, я поменяю планы; о, нет, это тебе; о, нет, не беспокойся! Хотя на самом деле втайне надеялись, что она и пропустит их вперед, и сама изменит свои планы, и будет беспокоиться, и отдаст им все. А когда она не беспокоилась и не отдавала, они ее попросту ненавидели. С такой силой, что эта ненависть могла навредить. И вредила всем нам.
Мама стыдилась моей честности и прямоты. Никогда не считала их ни великолепными, ни милыми, ни трогательными. Наоборот – только сбивающими всех с толку и вводящими в ступор. Она откидывалась в своем кресле и, прихлебывая мартини с водкой, хвалила меня за «амбиции» и «целеустремленность». Но я не была ни амбициозной, ни целеустремленной. Просто знала, чего хочу, и не боялась просить об этом.
Хотя, конечно же, всегда понимала, что нужно сказать или сделать для того, чтобы умело манипулировать кем-то и получать именно то, что мне нужно, причем безо всякой просьбы. Это же как шестое чувство.
Однажды мне пришлось порвать с парнем только потому, что я поняла: он со мной, когда я требовательна и супербдительна по отношению к нему. В принципе, наши не слишком радужные отношения можно было бы продолжать неизвестно сколько времени, если бы я была страшно одинока и совершенно бы отчаялась. Ведь это у него работало с целой кучей других женщин. Его бывшая подружка постоянно названивала ему и заваливалась к нему домой без предупреждения. Он же ездил по заграницам с пожилой дамой, которая сама оплачивала эти путешествия, и нет, она ничего не знала ни обо мне, ни о его бывшей, причем не была его подругой в прямом смысле этого слова, потому что его подруга каждый день приезжала к нему на работу с термосом, полным свежеприготовленного тыквенного супа. А он вообще отказался брать на себя какую бы то ни было ответственность за свою собственную жизнь. Ведь, к его счастью, за него это сделали другие.