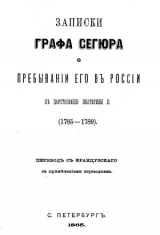
Текст книги "Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. 1785-1789"
Автор книги: Людовик-Филипп де Сегюр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Императрица в это время сделала поездку в Царское Село и позволила мне следовать за нею. Приятные известия, полученные ею, возвратили ей веселость. Император выздоравливает, Каменский одержал победу над довольно значительным турецким корпусом, а Михельсон разбил шведскую дивизию; Румянцев, разделив армию свою на три корпуса, двинул один из них на Яссы, другой в Валахию, третий на Бендеры. Скоро узнали мы, что Каменский, преследуя неприятеля, напал под Галацом на пашу Ибрагима, захватил его в плен и забрал его лагерь. Что я предвидел, то и сбылось; Потемкин и некоторые другие сановники хотели уговорить императрицу сблизиться с Англиею. Чтобы достигнуть этой цели, они уверяли ее, что Шуазель сообщил туркам план компании, довольно искусно составленный; далее, что посол наш, ложно обвиняя в кознях Англию и Пруссию, сам возбуждает турок к продолжению войны. Екатерина, слишком поспешно доверяя этой басне, передала ее с упреком принцу Нассау-Зигену. «Французский двор, – говорила она ему, – поступает со мною недобросовестно, или приказания короля дурно исполняются его поверенными. Меня даже уверяли – и это мне очень неприятно – что Сегюр сообщает моим министрам неточные извлечения из депеш, которые он получает от Шуазеля. Король выплатил недавно субсидии Густаву III; под разными мнимыми предлогами он отказывается заключить с нами союз. Вся эта политика, далеко не откровенная, мне кажется даже враждебна нам!.. Я не хочу выводить дело наружу, потому что не опасаюсь того вреда, какой могла бы мне нанести Франция. Однако я не хочу, чтобы думали, что я очаровываюсь ложными уверениями. Вы, надеюсь, уже достаточно стали русским, и потому я желаю, чтобы вы написали конфиденциально Монморену и дали бы ему понять, что отказ в союзе и поведение его посла в Константинополе не дают мне более возможности доверяться ему».
Нассау тотчас же передал мне этот разговор, и я без труда увидел в этом происки Потемкина, надеявшегося таким путем отдалить императрицу от нас. Он сперва и успел в этом. Возвратившись в столицу, Екатерина перестала обращаться со мною так приветливо, как было прежде, и приглашать меня на частные эрмитажные собрания, а когда я являлся ко двору со всем дипломатическим корпусом, она не только не подзывала меня к себе, но даже оказывала холодность и часто весьма любезно относилась к министрам английскому и прусскому. Соперники наши торжествовали, и люди, соразмерявшие свое поведение с переменою обстоятельств, стали мало-помалу удаляться от меня, видя во мне посла, вышедшего из милости. Меня озадачил успех этих происков, и так как они скоро могли разрушить влияние Франции, которое я добыл с таким усилием, то я всячески старался рассеять интриги вельмож и министров английского и прусского.
Между тем я получил длинную депешу от Шуазеля. Нельзя было написать ничего удачнее по тогдашним обстоятельствам. Посланник наш сообщил мне подробный отчет о действиях послов прусского и английского в Константинополе и о происках их, чтобы отвлечь турок от всякого расположения к миру. Он не только передал содержание записок и нот, представленных им Порте, но даже выписал целиком некоторые их выражения, особенно неприязненные против России. Если бы я мог известить об этом государыню, она бы, разумеется, сильно рассердилась, увидев, как ее обманывают. Но депеша Шуазеля была написана шифрами, а императрицу, как я уже сказал, заставили заподозрить мою искренность и уверили, что я сообщаю депеши нашего посла неточно. Однако мне надо было воспользоваться таким удобным случаем, который, может быть, нескоро вновь представился бы. Итак, я прибегнул к решительному средству: оно было так ново и смело, что я не счел нужным извещать о нем мой двор. Даже сам Монморен узнал об этом по возвращении моем из Франции. Если бы моя выдумка не удалась, она обратилась бы мне в вину, потому что я мог выдать ключ к нашей тайнописи. Рассказывая теперь о моем смелом поступке, я считаю долгом предупредить моих молодых соотечественников, вступающих на дипломатическое поприще, и посоветовать им не следовать моему примеру. В самом деле, чтобы решиться на такой поступок, нужно было знать душу и характер государыни, внушившей мне полное доверие к ней, так близко, как я ее знал. Один только успех мог извинить меня, и я достиг его. Я попросил принца Нассау прийти ко мне. «Вы видите, как шатко наше положение, и какими средствами стараются нас уронить. Вам известно также, что императрица чистосердечна и великодушна, и что ее обманывают. Она сочувствует всему возвышенному, благородному и прекрасному. Слушайте же, на что я решился, чтобы раскрыть ей все интриги и рассеять их. Вот шифрованная депеша Шуазеля, я только что получил ее и переписал буквами. Чтение этой депеши рассеет в императрице всякое сомнение на счет нашей искренности и откроет ей козни наших врагов. Я сложу ее и надпишу на конверте, что отсылаю ее не государыне, а Екатерине. Возьмите, выпросите себе аудиенцию и отдайте эту бумагу от моего имени. Если она оставит вас и выйдет хоть на минуту из кабинета, то я ошибся в ней: могут списать несколько строк, узнают ключ нашего шифра, и я делаюсь виновен. Но я уверен, что она этого не сделает и тотчас же отдаст вам депешу. Поезжайте и скорее возвращайтесь».
Нассау согласился, поспешил во дворец и получил желаемую аудиенцию. Когда он остался с глазу на глаз с государыней и произнес мое имя, она с сердцем сказала: «Что нужно Сегюру от меня?» Нассау, не отвечая, вручил ей письмо. Екатерина взяла его, с удивлением прочитала надпись, быстро развернула его и начала читать. В это время Нассау стал отступать, будто желая удалиться. Тогда императрица подходит к нему, останавливает его и говорит: «Принц, не уходите, не оставляйте меня ни на минуту».
Она продолжает чтение и, окончив его, быстро складывает депешу и отдает ее Нассау-Зигену, сказав при этом с чувством: «Скорее отправьтесь к Сегюру и скажите ему, что никогда в жизни я не забуду этого благородного поступка; он доказал мне свое уважение и доверие ко мне; я заслужила его, он меня понял».
Не без волнения ожидал я возвращения моего посла, и можно себе представить мое удовольствие, когда он известил меня о счастливом и скором исполнении моего поручения. На другой день двор собрался в эрмитаже. Только что я вошел, как императрица подозвала меня, посадила возле себя, почти не слушала актеров и во все время спектакля тихонько проговорила со мною. Чрезвычайное удивление выразилось на лицах министров. Наши соперники, торжествовавшие вчера, едва могли скрыть свое недоумение. Положение действующих лиц переменилось: императрица стала еще ласковее и милостивее ко мне и с презрением слушала наветы на нас. Не смотря на смуты, которые возникли во Франции, наше правительство не потеряло своего значения и влияния в России, пока я оставался в Петербурге. Государыня так крепко сохранила тайну моего поведения, что ни Потемкин, ни другие министры не могли узнать каким образом я так скоро восстановил ее доверие к себе.
Так как пылкий нрав султана Селима и честолюбие Густава III, а с другой стороны враждебные происки пруссаков и англичан удаляли всякую возможность скорого мира, то с обеих сторон спешили вооружаться. Принц Нассау-Зиген снаряжал свою флотилию в Кронштадте. Через три недели ему приказано было отправиться с тридцатью галерами, десятью шебеками, тремя судами с орудиями тяжелого калибра, с множеством канонерских лодок и 14 000 войска для высадки. Флотилия имела грозный вид, но не доставало хороших штурманов и искусных моряков, а войско состояло из новобранцев.
Извещая Монморена о невыгодном обороте наших сношений, я не мог удержаться от жалоб: «Как нехорошо, – писал я ему в начале июня, – что сближением нашим с императорскими дворами возбудили мы против себя турок, англичан и пруссаков, а теперь восстановляем императрицу и императора отказом согласиться на предлагаемый нам союз! Мы испытываем все неприятности нашего положения, не пользуясь его выгодами, которые в другое время уже не представятся нам. Екатерина еще занята этим союзом. Она так ревностно желает мира, что если Шуазель не будет действовать скоро и успешно, то она примет посредничество Англии и Пруссии, лишь бы окончить войну». Мои опасения были основательны. Я знал из тайного и верного источника, что Потемкин перед своим отъездом вот что говорил английскому министру: «Мы недолго думали о союзе с Франциею. Мы увлеклись уверениями Сегюра, по скоро увидели, что нельзя рассчитывать на французское правительство, между тем как по многим причинам сближение с Англиею нам кажется полезным. Торговля между нами сильная, купцов ваших в Петербурге целая колония. По всему видно, что нам надо подружиться: обстоятельства удобны, надобно спешить пользоваться ими». Однако некоторые случаи, происшедшие после этого разговора, встревожили Потемкина и возбудили государыню против явных и тайных врагов ее. Ей донесли, что один шведский моряк потихоньку забрался с брандером между русскими судами в копенгагенском рейде, был преследуем и пойман в доме шведского министра, который дал ему убежище. В то же время лондонский кабинет угрожал войною Дании, если она, согласно договору, будет оказывать содействие России в войне со Швециею. Между тем я сообщил государыне о благородном поступке нашего правительства: оно объявило лондонскому кабинету, что не потерпит нападения англичан на берега и флот Дании. Русский кабинет, довольный этим твердым и благородным шагом, прислал мне официальную ноту, сверх моего ожидания, весьма дружелюбную. Это был ответ на подробную депешу нашего кабинета относительно четвертного союза; императрица возобновляла уверения своего дружелюбного расположения к нам, но, вместо того, чтобы утвердить статью за статьею в проекте Монморена, писала, что до рассмотрения проекта желает посоветоваться с императором, также как мы хотели переговорить с испанским королем. Это было с обеих сторон честное отступление и вежливый способ отложить переговоры, не отказываясь от них.
В то время князь Потемкин, всегда старавшийся вредить нам, запретил нашим купеческим судам вход в русские порты Черного моря под тем предлогом, что должно скрыть от нас приготовления и вооружения, которые там производились. Я жаловался на это нарушение нашего торгового трактата и подал русскому правительству об этом подробную записку, которую нельзя было опровергнуть. Мне дали даже почувствовать, что разделяют мое мнение; но нельзя было противиться влиянию Потемкина, а он долго не соглашался на требуемые уступки. Когда я настаивал, императрица, отклоняя прямой ответ, жаловалась на поступки врагов и бездействие своих союзников.
В это время она принуждена была подчинить свою гордость благоразумию: она вывела войска свои из Польши, чтобы предупредить их столкновение с Пруссиею. Вместе с тем ей хотелось знать, может ли она рассчитывать на вас в том случае, если Фридрих-Вильгельм, не смотря на эту уступку, начнет войну, что, по словам ее, он обещал полякам и шведам. Понятно, что я в то время мог ограничиться неопределенным ответом. Это было в январе 1789 года: королевская власть во Франции была в опасности; финансы расстроились; дефицит увеличивался; вместо того, чтобы поправить положение дел, государственные чины разделились на партии. Прежде все сословия соединялись против произвола власти и закоренелых злоупотреблений; но теперь положение дел изменилось. Толковали не только об экономии и свободе, но и о равенстве. Нужно было решить, как подавать голоса – по сословиям или поголовно, или, лучше сказать, приходилось решить – останутся ли сословия отдельными, сохранятся или падут их преимущества, изменятся или рушатся наши старинные установления; наконец приступим ли мы к благоразумной реформе, или к бурной революции. Между тем возникла борьба между аристократиею и демократиею; первые вспышки ее взволновали умы, возбудили страсти; довольно сильная партия упрямо защищала старый порядок вещей и привилегии. Народное большинство желало и требовало преобразований и на стороне его было много дворян, одушевленных желанием свободы. После долгого покоя ни у кого не было опытности, которая бывает грустным и запоздалым плодом заблуждений, ошибок и несчастий. Правительство слабое и беспечное ничего не приготовило, ни на что не решилось; давно уже сила его истощилась; оно очаровывалось остатками ложного блеска; в короткое время оно двадцать раз изменяло систему и министров, и общество лишило его своего доверия. Трон походил на колесницу с надломившейся осью, уносимую конями, которые закусили удила. Последнюю неосторожность сделали, собрав выборных народа близ столицы, у источника неудержимых страстей огромного населения, так что королевская власть была предоставлена всем ужасам этой бури и всем переменам и превратностям судьбы. Неудивительно ли было, что в такую пору иностранные державы просили и ожидали помощи нашего оружия? Из этого видно, как несправедливо теперь обвинять французов в бедствиях, насилиях и пороках революции, которые подготовлялись временем, которые нельзя приписать только известным лицам, и которые наконец ни у нас, ни в других странах не были ни ожидаемы, ни предвидены. Дело в том, что с одного конца Европы до другого просвещение, философия и разум так далеко шагнули в последние два века, что идеи права, порядка и свободы распространились повсюду, начала нравственности и справедливости торжествовали над предрассудками, и умы были расположены к замене произвола и насилия законным порядком. Поэтому сначала приговоры наших парламентов, оппозиция их, проекты Тюрго, действия и сочинения Неккера, речи Мальзерба, слова, произносимые в академиях, возбудили всеобщее одобрение и удивление. Это сочувствие было естественно; это была жажда разумной свободы. Но когда стремление к равенству взяло верх, и частные интересы пришли в столкновение, то все переменилось, и везде высшие, владычествующие классы были или считали себя в неприязненном положении к народу. Таковы были настоящие причины долгих бурь, теперь еще едва утихнувших; можно ли было ожидать их или отвратить? Точно ли можно указать тех, которые их возбудили или усилили своими пылкими страстями, своим неразумным сопротивлением? Пристрастие отвечает утвердительно, но разум говорит: нет. При всем том, неудовольствие государыни по случаю застоя южной армии, смуты в Польше, угрозы Англии датчанам, происки и враждебные замыслы Пруссии, наконец наше безучастие и бездействие, все это не так тревожило государыню, как успехи шведов в Финляндии. Так как она лично распоряжалась военными действиями на севере, то неудачи и успехи военачальников в крае, близком от столицы, сильно озабочивали ее. К тому же гордость ее страдала при виде слабого короля, вредящего ее могуществу и славе. К несчастью, она поставила во главе армии двух генералов: Мусина-Пушкина и Михельсона, из которых первый был недовольно деятелен, а второй недовольно благоразумен. Михельсон сначала смелым натиском и с малыми силами разбил шведов под Кюри[130]130
Кюри — деревня, в пяти верстах от тогдашней нашей границы. Дело это было 31 мая. Другое неудачное дело было 1-го июня, по выступлении Михельсона из Христины, близ Сен-Михеля, который он однако скоро занял. Императрица по этому случаю сказала, как пишет Храповицкий; «Двадцать семь лет такого известия не получала».
[Закрыть], но после того был отбит с уроном и ранен. Между тем как Мусин-Пушкин послал отряд для занятия области Саволакс, Густав с 10 000 войска вступил в русские пределы. Пушкин отступил, ожидая, чтобы флотилия принца Нассау-Зигена, стоявшая уже под Выборгом, подошла к Фридрихсгаму.
В это время при дворе совершилась свадьба графа Мамонова и он женился на княжне Щербатовой. Вслед за тем, прежде чем молодые выехали из Царского Села, императрица возобновила свой веселый образ жизни. Во дворце заметна была одна только перемена: придворные, русские и иностранцы, которые прежде каждый вечер толпились у Мамонова, совершенно его покинули, когда он впал в немилость. Так как и мне он не раз доказывал свое расположение, то я при этом случае счел долгом показать ему, что я это помню. Я пошел к нему, и в первый раз, во все наше знакомство, мне случилось быть с ним наедине. Императрица узнала об этом и, при всем дворе одобряя мой поступок, высказалась презрительно о подлости людей, удаляющихся от человека, которого еще недавно восхваляли и величали. Не должно ли снисходительно смотреть на некоторые недостатки этой женщины, которую де-Линь назвал Екатериною Великим, когда она выказывала столько гордости, доброты и великодушия?
Удаление всех от Мамонова после того, как его так окружали почетом, не может быть удивительно при тех общественных условиях, в которых находилась Россия… Я могу привести еще случай, возбудивший во мне грустные мысли и тем самым еще более укрепивший во мне любовь к свободе, несмотря на все беды, которыми окружают ее и враги, а иногда и друзья ее. Поль Джонс, разделявший победы с Нассау-Зигеном, возвратился в Петербург. Враги его завидовали человеку, которого они считали бродягой, бунтовщиком и корсаром, и решились погубить его. Клевета была возведена на него подлыми завистниками, и, конечно, напрасно, приписывали ее английским офицерам русского флота и купцам из их соотечественников. Хотя англичане и не скрывали своего нерасположения к Джонсу, но не следует всех их заподозревать в низкой интриге, которая была делом двух или трех людей, оставшихся неизвестными. Американский контр-адмирал был хорошо принят при дворе, часто бывал на обедах у императрицы и вошел в лучшее общество столицы. Вдруг он получает от императрицы приказание не являться более ко двору. Он узнает, что его обвиняют в бесчестном оскорблении невинности четырнадцатилетней девушки, над которою он употребил дерзкое насилие, и что, судя по предварительным справкам, он будет судим в адмиралтействе, где служат несколько английских офицеров, сильно не расположенных к нему. Только что это приказание сделалось известно, все покинули несчастного американца, – перестали с ним говорить и кланяться и отказывались принимать его. Кто вчера еще ласково встречал его, теперь избегает его, как зачумленного; никто не хочет защищать его, ни один чиновник не хочет его слушать, даже слуга отходит от него. Поль-Джонс, которого подвиги восхваляли, дружбы которого заискивали, вдруг стоит один посреди огромного общества; Петербург, столичный город, для него пустыня. Я отправился к нему; он был тронут до слез моим посещением. «Я не хотел, – сказал он мне, – постучаться у вашей двери; я мог ожидать новой обиды, а она была бы мне чувствительнее всех других. Тысячу раз я рисковал жизнью: теперь я желаю смерти». Его взгляд и оружие на столе указывали на его печальную решимость.
«Успокойтесь и прибодритесь, – сказал я ему, – ведь вы знаете, что в жизни, как на море, бывают бури, а счастие переменчиво, как ветер. Если, как я полагаю, вы невинны, выдержите эту грозу: если же, к несчастью, вы виноваты, то поговорите со мною откровенно, и я готов сделать, что могу, чтобы помочь вам избавиться беды».
«Клянусь вам честью, – отвечал он, – что я невинен; это подлая клевета. Вот как было дело: несколько дней тому назад, утром, ко мне пришла молодая девушка, с просьбою дать ей шить белье или починить что нибудь, и при этом стала довольно явно напрашиваться на мои ласки. Мне было жалко видеть такую дерзость в ее лета, и я стал уговаривать ее бросить ее гадкие намерения, дал ей денег и отпустил ее; но она не хотела уходить. Меня это рассердило я взял ее за руку и вывел вон. Но в ту минуту, как я растворил дверь, эта дрянная девчонка разорвала себе рукава и платок, стала ужасно кричать и жаловаться, что я ее обесчестил, и бросилась в объятия старухи, будто бы ее матери, которая уже конечно явилась тут неслучайно. Мать с дочерью разревелись на весь дом, ушли и пожаловались на меня; остальное вам известно».
«Хорошо, – сказал я; – но знаете ли вы имена этих мошенниц?»
«Мой дворник знает их, вот их имена, но я не знаю, где они живут. Я хотел подать записку об этой забавной проделке, сперва министру, потом императрице; но меня не допускают к ним».
«Дайте-ка мне эту бумагу, – сказал я; – будьте покойны, я все улажу, и мы скоро увидимся».
По возвращении домой, я тотчас же поручил ловкому и верному человеку, преданному мне, навести справки об этих подозрительных женщинах и узнать их образ жизни. Я скоро узнал, что старуха занимается известным ремеслом и выдает молодых девушек за своих дочерей. Получив на все это письменные доказательства, я отправился к Поль-Джонсу. «Вам теперь нечего бояться, – сказал я ему, – обманщицы открыты. Теперь надо только раскрыть глаза императрице и показать ей, как ее обманывали; но это не так-то легко. Правду очень часто останавливают на пороге дворца, а письма в таком случае легче всего перехватить. Однако я знаю, что государыня, под страхом строжайшего наказания, запретила удерживать и вскрывать письма, посланные на ее имя по почте. Я написал длинное письмо к ней от вашего имени: туг все подробности, даже не совсем приличные. Что же делать? Государыня выслушала клевету; надо, чтобы она терпеливо прочитала оправдание. Перепишите и подпишите это письмо. Я кого-нибудь пошлю отдать его на почту в ближайший город. Не унывайте, поверьте мне, что вы будете оправданы».
В самом деле письмо было послано, и государыня получила его. Прочитав его вместе с приложенными документами она страшно рассердилась на доносчиков, отменила свое приказание, снова пригласила Джонса ко двору и приняла его с обычною благосклонностью. Храбрый воин скромно и гордо встретил должное ему удовлетворение, не очень то очаровывался уверениями людей, которые чуждались его во время невзгоды и скоро, недовольный страною, где можно было подвергнуться таким унижениям, выпросил себе у императрицы под предлогом болезни, отпуск, который и был дан ему вместе с орденом и приличной пенсией. Он уехал, выразив мне признательность за услугу и уважение к государыне, которую можно было обмануть, по которая умела блистательно исправлять ошибки и несправедливости.
Императрица тогда назначила нового флигель-адъютанта на место Мамонова; это был гвардейский офицер Зубов[131]131
Платон Александрович Зубов, род. 1767 г., ум. 1822 г.; пожалован в полковники и назначен флигель-адъютантом 4-го июля, впоследствии граф и князь.
[Закрыть]. Новый любимец вышел в люди без помощи Потемкина; всякому любопытно было знать – станет ли он в ряд его приверженцев или осмелится противиться его власти. Не зная еще его, я жалел об удалении Мамонова, всегда преданного интересам Франции. Но скоро я заметил, что в этом отношении ничего не изменилось: Зубов усердно искал моей дружбы и не скрывал от меня, что действует так согласно желаниям государыни.
Получены были дурные вести из Финляндии. Шведский генерал Стединг разбил наголову генерала Шульца близ Помалы и захватил русские пушки. Эта неудача скорее рассердила, чем обеспокоила государыню.
Государыня с участием говорила мне о ходе дел во Франции: «Ваше среднее сословие, – говорила она, – слишком многого требует; оно возбудит неудовольствие других сословий, и это разъединение может повести к дурным последствиям. Я боюсь, что короля принудят к большим жертвам, а страсти все таки не утихнут».
Я отвечал, что, не будучи совершенно покойным на этот счет, я однако сохраняю еще надежду, потому что король любим народом и желает только его блага, и что вообще брожение общества становится сильным и упорным, когда оно сдерживается и возбуждается бесправным злоупотреблением силы.
Через несколько дней после этого разговора вице-канцлер, пригласив меня немедленно явиться к нему, известил меня о происшествиях в Париже 14 июля. Он объявил мне, что все население столицы восстало и взяло Бастилию, что короля заставили войти в городскую ратушу и надеть революционную кокарду, что беспорядок дошел до нельзя: везде нарушают законы, ругаются над дворянами, грабят замки.
По очень предосудительной привычке, которой следуют многие, министры, из боязни гласности, мне ничего не написали, и я не мог дать дельного ответа и отличить в этих известиях правду от прикрас. Слухи эти скоро разнеслись и были принимаемы различно, сообразно с личностью и чувствами слушавших. При дворе тревога была сильная, неудовольствие общее.
Скоро внимание отвратилось от этих далеких происшествий и поглощено было сражениями, происходившими вблизи столицы. Так как утаили победу Стединга и подробности дела, то оно, как и всегда бывает, разгласилось, наперекор утайке, с прибавлениями. Правительство обеспокоилось и запретило говорить в публичных местах о шведской войне. Вскоре однако счастие снова улыбнулось русским. Императрица приказала соединиться эскадрам Чичагова и Козлянинова; шведский флот противился этому. Два часа бились с одинаковым уроном с обеих сторон, но русские справедливо приписывают себе победу, потому что эскадрам удалось сойтись[132]132
15-го июля было удачное сражение с шведами и с 19-го на 20-е Чичагов соединился с Козляниновым, и шведский флот удалился в Карлскрону. – Чичагов, Василий Яковлевич, адмирал, род. 1726 г., ум. 1809 г. – Козлянинов, Тимофей Гаврилович, вице-адмирал.
[Закрыть]. Принц Нассау разбил и прогнал двадцать судов шведских и, пройдя мимо всех укрепленных шхер, вышел в море. Мы также узнали, что Суворов с принцем Кобургским (7-го августа) разбили 30 000 турецкий корпус, захватили Фокшаны, двенадцать знамен и весь лагерь.
Со всех сторон получались самые дурные вести об смутах во Франции; я все еще полагал, что согласие уладит всю эту борьбу, но императрица сказала мне: «Я этого желаю более, нежели кто-либо; но я только тогда этому поверю, когда народ ваш не будет более предаваться возмутительным поступкам. Впрочем я вас предупреждаю, что англичане думают выместить на вас свои неудачи в Америке; если они вас затронут, то окажут услугу, потому что отвлекут наружу пыл, вас губящий».
В конце разговора императрица выразила свое удовольствие, вспомнив, что при короле находятся Сен-При и Монморен: она полагалась на их благоразумие.
Почти тогда же узнал я тайным, но верным образом, что Потемкин снова подкапывался под меня. Он написал государыне, что несогласно с здравою политикою – приближать к себе одних только министров Австрии и Франции, что это предпочтение обидно для других дворов, и что при слабости нашей в годину смут благоразумнее обратиться к Англии. Но Екатерина, не внимая этим предложениям и твердая в своих намерениях, не хотела сближаться с Витвортом. В это время одно странное обстоятельство послужило поводом к неудовольствию нашего двора. Шуазель добился от Порты, чтобы она выдала ему Булгакова, но русский посол не хотел получить свободу от него; он требовал, чтобы его освобождение было полным и прямым удовлетворением для России. По-моему это было благородно. Монморен, видя в этом поступке оскорбление для Франции и для нашего посла, думал, что я выражу русскому кабинету мнение и негодование министра. Но я не мог действовать в этом смысле: мне слишком было бы трудно осуждать человека, которого поведение оправдывал.
Императрица вновь могла убедиться, что имела основания довериться принцу Нассау. Он одерживал на морях севера такие же блистательные победы, как и на Черном море. Искусно воспользовавшись неосторожностью шведского короля, который подвигался все вперед, не обеспечив себе отступления и сообщений, принц атаковал шведский флот в устье Кюмени и разбил его. Сражение (13-го августа) длилось четырнадцать часов, с утра до часу пополуночи. Шведы были прогнаны. Нассау захватил адмиральское судно, еще четыре судна сорокапушечные, куттер и три галеры. В плен попалось сорок офицеров, тринадцать матросов или солдат, и кроме того потоплено было несколько судов у берегов. Шведский адмирал принужден был спасаться на яхте. В этом славном деле особенно отличалась гвардия и в рядах ее кавалер Литта. Нассау, сделав высадку с 6000 человек, быстро двинулся вперед в надежде, что отрежет королю отступление. Но король, уже угрожаемый двумя русскими корпусами, которые наступали на него с фронта и с флангов, поспешил покинуть свою позицию в Эгфорте. Нассау преследовал его, настиг его арьергард и захватил в плен 600 человек, часть запасов и багажа. Между тем флотилия его, пользуясь своим положением, истребила еще до сорока шведских судов. В эти счастливые для принца дни его постигло горе. Вараж, отличный офицер французского флота, своими умными советами направлял пылкую отвагу адмирала. Храбрый моряк, высадившись на берег и преследуя шведов, попался башкирам, этим дикарям, нисколько неполезным, но безобразящим русскую армию, и был убит: варвары приняли его за шведа. Нассау, вернувшись на галеры, хотел преследовать короля до Ловизы, но ветер помешал движению флотилии, возвратившейся счастливо в Кронштадт с огромною добычею и славными трофеями. Густав, действовавший всегда по-рыцарски, вспомнил, что не раз встречал принца Нассау во Франции и в Спа, и будучи поражен его воинственностью и честолюбием, написал к нему, в начале компании, прелюбезное письмо. «Я думал, – писал он, – судя по последним нашим беседам, что вы меня осчастливите предложением служить мне мечем вашим, но так как, к сожалению моему, вы выступили против меня, то надеюсь, по крайней мере, заслужить на поле битвы уважение такого противника, как вы». Судьба разрушила эти надежды. Когда до короля дошла достоверная реляция битвы, обнародованная императрицею, он, в порыве оскорбленного самолюбия, вышел из себя и отвечал другою реляциею, в которой силился умалить свои потери и выставить свои преимущества. По этому случаю принц Нассау написал к нему письмо, которое так любопытно, что нельзя не привести его здесь.
Письмо принца Нассау-Зигена к Густаву III, королю Швеции.
Петербург, 20 сентября 1789 года.
Государь!
Когда ваше величество удостоили меня последним письмом своим, вы сказали мне, что обращаетесь к воину, который ищет славы и чести. Конечно, всю жизнь мою я старался оправдать это мнение вашего величества. Но когда любишь честь, то не терпишь ничего противного ей и стоишь за правду, которую можешь подтвердить и доказать пред целым светом. Вот почему я с чувством негодования встретил в гамбургских газетах какую-то реляцию о битве, которую имел честь выдержать с флотом вашего величества. Эта реляция, по видимому, опровергает мои показания. Она во многих случаях совершенно противна истине, и я удивляюсь, как осмелились выставить такое почтенное имя, каково ваше, под рассказом, полным ошибок и лжи. Я надеюсь, что ваше величество также оскорбились этим, как я, и что вы позволите мне опровергнуть это сочинение и восстановить истину. Если же – что невероятно – ваше величество дозволили издание такой неверной реляции, то я полагаю, что вы преступным образом обмануты полученными вами донесениями, и долг чести, первейшей добродетели королей, без сомнения заставит вас осудить и наказать начальников, доставивших вам ложные донесения. При этом письме я посылаю опровержение этой непостижимой реляции с указанием всех ее неверностей. Честь моя – порукою истины моих показаний. Свидетели мои – пленные корабли, которые я захватил, и флот, которым командовал, и который далеко не расстроен и стоял на море восемнадцать дней после битвы, крейсировал без помехи в двенадцати верстах от Ловизы и удалился только после бури 12 сентября. Часть эскадры этой и теперь еще в море и готова снова сразиться, но не встречает более противника. Я уверен, что вашему величеству слишком хорошо известны правила чести, чтобы не оправдать горячность, с которою я защищаюсь. Я почту себя обиженным, если хотя на минуту заподозрят истину донесения, которое императрица дозволила напечатать. Причины, побудившие меня написать это возражение, заставляют меня также обнародовать его. Ответ, которого я ожидаю, даст мне, без сомнения, повод гласно повторить уверения моего глубочайшего уважения, которое приношу вашему величеству и с которым имею честь быть








