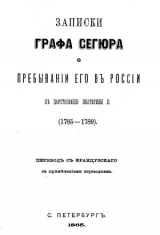
Текст книги "Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. 1785-1789"
Автор книги: Людовик-Филипп де Сегюр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Как бы то ни было, но Екатерина, при первом свидании с Потемкиным, с такою живостью укоряла его за поспешность, что он счел за должное извиниться передо мною. «Я согласен, – сказал он мне, – что, при первом известии о переговорах турок с Ираклием и о набеге татар, которые побили до 300 наших казаков, – я, может быть, увлекся в минуту негодования и ввел Булгакова в ошибку, послав ему слишком решительные предписания. Впрочем, могу вас уверить, что наш посланник, не уведомив о своих действиях г-на Шуазеля, поступил несообразно с моими наставлениями, и я уже писал ему, чтобы он поправил свою ошибку и не утаивал бы ничего от вашего посланника».
Я немедленно уведомил Шуазеля об этих заявлениях; вместе с тем я известил его о деятельных вооружениях русских войск в Херсоне и Севастополе. «Несмотря на склонность к миру, в чем меня уверяют, – писал я ему, – опасности, грозящие Оттоманской империи, увеличиваются. Кажется, нельзя ей предвещать спокойствия более году. Действуя политично и справедливо, мы должны рассеять недоверчивость, внушенную туркам нашими врагами. Нам не следует успокаивать их в то время, когда русские так грозно укрепляются в их соседстве на Черном море, но должно посоветовать им также стать в оборонительное положение и принять грозный вид».
С некоторого времени в политике императора (Иосифа II) заметна была видимая перемена. Вовсе не отвечая видам Екатерины II, его союзницы, он приказал графу Кобенцелю соединиться со мною и помогать мне в моих попытках отдалить русское правительство от опасного намерения его вторгнуться в пределы Турции. Император поступил в этом случае чистосердечно. Впрочем, по многим причинам я полагал, что если он не соглашался на совершенное изгнание турок и взятие Константинополя, он однако же не воспрепятствовал бы Екатерине занять Очаков и Аккерман и таким образом без затруднения овладеть торговлею Черного моря и устьями Днепра и Днестра.
Мнение Шуазеля на этот счет совершенно сходилось с моим, и он старался оживить сонливых турок, побуждал их снаряжать флот, усилить крепости, послать войска к Дунаю и наконец советовал им ответить на угрозы Булгакова в умеренных, но прямых и решительных выражениях.
Переговоры по поводу фирмана, татар и запорожцев шли своим чередом. Императрица, вновь сообщив мне свои жалобы на Порту, объявила мне, что, жертвуя всем для достижения мира, она намерена оставить в покое турок за их переговоры с Ираклием и будет терпеливо ждать, пока Порта сама сознает неприличие и несправедливость ее отказа исполнить договор, заключенный и скрепленный при посредничестве Франции.
Все эти уверения, равно как и действия Австрии, могли бы совершенно успокоить меня при других обстоятельствах. Но нельзя было полагаться на будущее в государстве, где первый министр имел столько силы и смелости, что мог предписывать враждебный образ действий послу, мог подвигать войска в Польшу и снова возвращать их по своему усмотрению, не дожидаясь разрешения государыни и не извещая о том других министров.
Между тем я получил от моего двора депешу, в которой мне предписывался именно тот образ действия, какой я употребил по случаю турецких дел. Вскоре после того Монморен по приказанию короля выразил мне его благоволение за то, что я отгадал их намерения в таких щекотливых обстоятельствах.
Князь Потемкин, которому не нравилось поведение мое и Кобенцеля, не мог более удержаться и высказал мне свое неудовольствие. «Стало быть, решено, – сказал он, – что ваша нация, самая образованная в мире, будет всегда защитницею изуверов и невежд. И все это под предлогом торговых выгод, которые могли бы быть вполне заменены для вас приобретениями в Архипелаге. Вся Европа вправе обвинить Францию, которая упорно охраняет в недрах ее варварство и чуму».
Я всегда затруднялся опровергать это мнение, которое не мог не оправдывать внутренне. Но, чтобы исполнить долг свой, я отвечал, что Потемкин, как человек просвещенный, может лучше другого понять и оценить причины, по которым французский король, видя свое государство цветущим, спокойным и сильным, не может не желать сохранения всеобщего мира Европы. «Надежды на приобретения, – продолжал я, – которых выгоды более мнимые, нежели действительные, не заставят его решиться возмутить благоденствие его подданных и общественное спокойствие, захватить владения давнего своего союзника, наконец, возобновить времена крестовых походов, и все это для того, чтобы произвести дележ, который возбудил бы честолюбие, алчность и зависть прочих держав. Европа сделалась бы тогда позорищем всеобщей войны, которая, подобно Тридцатилетней, длилась бы долго и разрушительно».
Почти в это же время Фитц-Герберт получил депеши от лондонского кабинета, который отказывался подписать окончательный договорный акт, посланный русским правительством. С тех пор переговоры о возобновлении торгового договора между Англиею и Россиею были окончательно прерваны. Между тем произошел обмен подписанных обоими государями актов договора, который я заключил незадолго пред тем. Каждый из русских уполномоченных получил от короля по 40 000 франков и портрет его величества, осыпанный бриллиантами и стоивший почти то же; русская и французская канцелярии получили каждая по 1000 червонцев. Мне императрица тоже подарила свой портрет, осыпанный бриллиантами, прекрасные меха и 40 000 франков. Так как вскоре после того ее написали в охотничьем наряде, она мне дала другой портрет, отличавшийся большим сходством.
Сообразно с полученными мною приказаниями, я выразил императрице удовольствие короля по случаю заключения дружественных связей с ее величеством. «Король, – сказал я, – желает усилить и утвердить доверенность, залогом которой служит этот договор, желает скрепить более и более этот союз, столь полезный для спокойствия Европы, в уверенности, что равновесие ее удобно может быть поддержано двумя великими державами, которые в настоящих обстоятельствах должны быть руководимы одинаковыми целями».
Ответ императрицы был любезен, обязателен и совершенно сообразен моим миролюбивым ожиданиям. Но недостаточно было утверждения торгового договора. Нужно было привести его в действие. Я советовал Монморену условиться с государственным контролером, какими способами можно было бы поощрить водворение французских торговых домов в русских портах. Это было дело необходимое, без которого весь договор становился бесполезным. При этом я напомнил Монморену о благоразумном устройстве английских факторий. Для поощрения нашего мореплавания на Черном море я предлагал сбавить некоторые взыскания и пошлины, которым подлежат и наши суда, тогда как ими следовало обложить только суда иностранные. Я требовал также заведения в наших портовых городах школ для обучения языкам английскому и немецкому, чтобы наши купцы не были принуждены предпочитать наемные арматорские суда англичан, голландцев и гамбургцев своим. Эти предостережения и советы были однако напрасны. Волнение во Франции было тогда уже слишком сильно, и наши министры исключительно занялись мерами предупреждения переворота, которого приближение они предчувствовали. Чем более страшились смут внутренних, тем более старались отклонить всякий повод к войне. Поэтому наш министр снова писал ко мне, чтобы я изведал обстоятельно настоящие намерения двух императорских дворов. Для этого и мне надо было преодолеть множество препятствий. Лица, годные для того, мелкие чиновники, чрез которых я узнавал многое, были в отсутствии. Я был окружен придворными, ничего не знавшими. Политические тайны того времени оставались в ведении Екатерины, Потемкина и Безбородка. Никогда я не был так близок к особе государыни и так удален от дел.
Однако, наблюдая новое и двуличное направление австрийской дипломатии, нетрудно было понять, что император, хотя наружно и принял вид искреннего друга императрицы, чувствовавшего такую же, как и она, ненависть к туркам, однако готов был поддержать нас в старании предупредить несогласие с Портою. Основываясь на этом, я надеялся, что граф Кобенцель, по приезде императора, объяснит мне многое, так как политическое согласие, водворившееся между императором и императрицею, могло давать ему возможность узнавать тайны, мне неизвестные. Воображение Екатерины не могло оставаться в покое; оттого ее предначертания были более смелы, нежели обдуманны. Эта быстрота ума, казалось, нередко подавляла в зародыше некоторые из ее творческих замыслов. Она в одно и то же время хотела образовать среднее сословие, привлечь иностранную торговлю, заводить фабрики, распространить земледелие, утвердить кредит, умножить ассигнации, возвысить курс монеты и уменьшить лаж, строить города, основывать академии, населять степи, покрыть Черное море обширным флотом, обессилить татар, вторгнуться в Персию, расширить свои завоевания в Турции, обуздать Польшу и распространить свое влияние на всю Европу. Все это были огромные предприятия, и хотя много дела предстояло в едва просвещенном государстве однако было бы полезнее ограничить предметы преобразований или, по крайней мере, отказавшись от замыслов завоеваний, заняться внутренним благосостоянием, которое одно лишь доставляет истинную славу монархам. Впрочем Екатерина уже пользовалась некоторыми плодами своих забот. Кроткое правление ее способствовало быстрому умножению населения; многие фабрики шли успешно; земледелие усиливалось быстро; вновь основанные школы постепенно смягчали нравы и разливали свет просвещения; суды решали справедливее и сообразнее с законами все дела, если только они не касались сильных особ; крепостная зависимость смягчилась; пожалование дворянству прав собираться, выбирать предводителей и судей и приносить жалобы монарху оживило деятельность помещиков, приучало их к занятиям и приготовляло, таким образом, правительству полезных деятелей, а вместе с тем предотвращало вредное влияние обеих столиц, изнурявших Россию сосредоточением всей промышленности, всего богатства и всей производительности империи.
Несмотря на то что мне высказывали желание сохранить мир, я замечал, однако, какую-то мнительность и беспокойство, не согласные с этими миролюбивыми намерениями. Так, например, всем иностранцам, желавшим ехать в Херсон, Крым и вообще в области, подведомые управлению Потемкина, отказывали в выдаче паспортов и лошадей. Ламет изъявил намерение ехать в Константинополь через Херсон. Ему не дали решительного отказа, но князь просил, чтобы я уговорил его отложить это предприятие. «При нынешних обстоятельствах, – сказал он мне, – эта поездка может не понравиться императрице. Она поверила бы тогда ложным подозрениям, которые ей внушают насчет французов, и это повредит нашим стараниям склонить ее к дружбе с вашим двором. Между Портой и нами по-настоящему нет разрыва; но так как обе стороны вооружаются, то императрице было бы неприятно знать, что французский полковник, которого она обласкала, проехал через все наши военные посты прямо в турецкий лагерь. Разумеется, в качестве министра я готов выдать вам нужные бумаги, если вы непременно этого потребуете; но как друг я советую вам избегать всего, что может повредить взаимному согласию, только что утвержденному».
Я отвечал, что думать так – значит, уже слишком много придавать значения поездке молодого француза, путешествующего для удовольствия и из любознательности; я уверял князя, что если бы нам грозила война с Англиею, и какой нибудь русский генерал случился тогда во Франции, то мы без всякого опасения пустили бы его из Бреста в Портсмут. Я однако исполнил его желание, потому что всегда старался водворять согласие и предотвращать ссоры. Хотя Ламета поразила такая недоверчивость, но он из дружбы ко мне решился снести эту неприятность. Мне казалось странным, что Шуазель не переставал тревожиться и жаловаться и усердно побуждал турок к вооружению, между тем как я уже послал ему депеши, чтобы успокоить его. Граф Безбородко объяснил мне – в чем дело: он сказал что курьер, посланный месяц тому назад с его депешами к Булгакову и с моими к Шуазелю, был захвачен и ограблен на границе. Впоследствии будет объяснено, каким образом этот случай помешал успеху наших стараний успокоить Порту и предотвратить разрыв.
Через несколько дней после этого князь Потемкин намекнул мне о союзе, который, по его мнению, можно и должно было заключить между Россиею и Франциею. Пользуясь этим случаем, я сказал ему: «Прежде всего нужно бы увериться в настоящих намерениях русского двора и узнать, откажется ли он искренно от мысли о разрушении государства, которого безопасность важна для многих значительных держав».
«Пусть так, – отвечал Потемкин, – если уж вы непременно хотите сохранить чуму и полагаете, что христианское государство или греческие республики будут менее благоприятны для вашей торговли, нежели гордые, своевольные и высокомерные мусульмане. Но, по крайней мере, вы бы должны были согласиться на то, что турок должно стеснить в более естественных, приличных им границах для избежания беспрестанно ожидаемых войн».
«Понимаю, – отвечал я. – Вам нужен Очаков и Аккерман: это почти то же, что требовать Константинополь. Это значит – объявить войну будто бы для того, чтобы доказать, что вы желаете сохранить мир».
«Вовсе нет, – возразил он; – но если на нас нападут, мы возьмем вознаграждение такое, какое захотим. Если бы вы только захотели, есть возможность без всякой войны объявить Молдавию и Валахию независимыми и освободить эти христианские страны от меча злодеев и от грабежей разбойников».
«Без войны? – воскликнул я, – никогда! Турки не согласятся на такую уступку, пока не будут побеждены».
Разговор тем и кончился, и послужил мне доказательством, что если могущественный министр так думает, то графу Безбородку трудно поддержать в императрице мирное расположение, к которому она склонялась, и которое тогда, по-видимому, было чистосердечно и непритворно. Курьер из Константинополя привез Потемкину известия, которые возбудили негодование императрицы. Булгаков писал, что несколько французских офицеров, назвавшись купцами, отправились в Очаков. Я сказал князю, что так как границы Турции в опасности, то пусть он не удивляется, что Франция, ее союзница, употребляет для ее защиты офицеров, посланных нашим правительством в Константинополь, но что я не понимаю, для чего они скрывались под видом купцов, потому что мы действуем прямо и открыто. Англичане воспользовались этим случаем, чтобы возбудить подозрение императрицы, и в продолжении некоторого времени расположение ее ко мне изменилось в явную холодность.
В это время оппозиционная польская партия старалась воспользоваться пребыванием императрицы в Киеве, чтобы унизить в ее мнении короля Станислава. Потоцкий, своим доносом, и генерал Браницкий, чрез свою жену, племянницу Потемкина, уверяли князя, что король не соглашается на уступки, которые русские хотели приобресть в Польше. Но принц Нассау и граф Штакельберг уничтожили их проделки и помирили короля с первым министром. Князь де-Линь писал по этому случаю: «Знаете ли, что делают здесь эти паны Великой и Малой Польши? Они обманываются, их обманывают, и они в свою очередь обманывают. Жены их льстят императрице и полагают, что она не знает, как ее осуждали под шумок последнего сейма. Все ловят взгляд Потемкина, а взгляд этот нелегко поймать, потому что князь не то близорук, не то кос. Прекрасные полячки добиваются Екатерининской ленты, чтобы кокетничать ею и возбуждать зависть своих родственниц и знакомых. Императрица недовольна посланниками английским и прусским за то, что они подстрекают турок, между тем как сама не дает им покою. Здесь желают и боятся войны; Сегюр всячески старается предотвратить ее. Я ничем не рискую, а скорее могу достигнуть славы, и потому искренно желаю войны; а приятель мой ставит мне в укор такое опасное желание, и я отказываюсь от него; но иногда вновь взволнуется кровь, и я опять возвращаюсь к моей мечте». Из этого видно, что этот друг, хотя и пользовался доверием Екатерины, не мог содействовать мне, чтобы утвердить в уме государыни мысль о мире.
Станислав предложил императрице вспомогательное войско: она не приняла его. Дела шли благоприятно для короля, но он не умел ими пользоваться. Глава буйного народа, легкомысленный, добродушный и роскошный, тогда как нужно было выказывать твердость и благоразумие, Станислав не снес легкий венец свой; его притесняли соседи и презирали подданные.
Зима миновала. Днепр освободился из ледяных оков своих; природа, сбросив траурный покров и засияв блеском весны, подавала Екатерине знак к отъезду. Мы отпраздновали день ее рождения. Помолясь усердно в Печерском монастыре, императрица раздала много наград, лент, бриллиантов и жемчугу. Де-Линь сказал: «Киевская Клеопатра не глотает жемчугов, а раздает их во множестве». Наконец. 22 апреля императрица пустилась в путь на галере[85]85
Галера императрицы называлась «Днепр».
[Закрыть], в сопровождении великолепнейшей флотилии, которая когда-либо шла по широкой реке. Она состояла из 80 судов с 3000 человек матросов и солдат. Впереди шли семь нарядных галер огромной величины, искусно расписанных, с множеством ловких матросов в одинаковой одежде. Комнаты, устроенные на палубах, блистали золотом и шелками. Одна из тех галер, которые следовали за царскою, была назначена Кобенцелю и Фитц-Герберту; другая де-Линю и мне; прочие были отданы князю Потемкину и его племянницам, обер-камергеру, шталмейстеру, министрам и сановникам, которые удостоились чести сопровождать императрицу. На остальных судах поместились разные служители, пожитки, провизия. Г-жа Протасова и каждый из нас имел комнату и еще нарядный и роскошный кабинет, с покойными диванами, с чудесною кроватью под штофною занавесью и с письменным столом красного дерева. На каждой из галер была своя музыка. Множество лодок и шлюпок носилось впереди и вокруг этой эскадры, которая, казалось, создана была волшебством.
Мы подвигались медленно, часто останавливались и, пользуясь остановками, садились на легкие суда и катались вдоль берега, вокруг зеленеющих островков, которыми усеяна река. Множество народа громкими кликами приветствовало императрицу, когда, при громе пушек, матросы мерно ударяли по волнам Борисфена своими блестящими, расписанными веслами. По берегам появлялись толпы любопытных, которые беспрестанно менялись и стекались со всех сторон, чтобы видеть торжественный поезд и поднести в дар императрице произведения различных местностей. Порою на береговых равнинах Днепра маневрировали легкие отряды казаков. Города, деревни, усадьбы, а иногда простые хижины так были изукрашены цветами, расписанными декорациями и триумфальными воротами, что вид их обманывал взор, и они представлялись какими-то дивными городами, волшебно созданными замками, великолепными садами. Снег стаял; земля покрылась яркою зеленью; луга запестрели цветами; солнечные лучи оживляли, одушевляли и украшали все предметы. Гармонические звуки музыки с наших галер, различные наряды побережных зрителей разнообразили эту роскошную и живую картину. Когда мы подъезжали к большим городам, то перед нами на определенных местах выравнивались строем превосходные полки, блиставшие красивым оружием и богатым нарядом. Противоположность их щегольского вида с наружностью румянцевских солдат уже доказывала нам, что мы оставляем области этого маститого, знаменитого воина и вступаем в места, которые судьба подчинила власти Потемкина. Стихии, весна, природа и искусство, казалось, соединились для торжества этого могучего любимца. Окружая императрицу такими дивами, когда она проезжала страны, недавно покоренные его оружием, он надеялся возбудить ее самолюбие и внушить ей желание и смелость решиться на новые завоевания.
Мы были свободны только по утрам и приятно проводили их в чтении и разговорах, в переходах с одной галеры на другие и в прогулках по берегам. В час мы отправлялись на царскую галеру и обедали с императрицей. Стол ее, как всегда, был накрыт на десять приборов. Только раз в неделю она сзывала всю свиту, имевшую честь сопровождать ее. Тогда стол устраивался на огромном судне, где помещалось до 60 человек.
Чрез пять дней (апреля 25-го) по отъезде нашем мы остановились в Каневе, где нас ожидал польский король. Здесь было назначено свидание Станислава с Екатериною. Оба они за 25 лет пред тем блистали любезностью и красотою и с тех пор немало изменились и в наружности, и в чувствах своих. Станислав, с нетвердою короною на голове своей, выпросил из страха и расчета краткое свидание у своей высокой покровительницы; согласие на это дипломатическое свидание было дано, как уступка приличиям.
Я никогда не видал императрицы более любезною, как в первый день нашего плавания: за обедом было очень весело; мы все рады были, что выехали из скучного Киева, где льды держали нас целые три месяца. Весна молодила наши умы. Прекрасная погода, великолепие нашего флота, величественная река, движение, радость зрителей, толпившихся на берегу, азиатская или воинственная пестрота в разнообразных нарядах тридцати различных народов, наконец уверенность видеть каждый день новые, любопытные предметы, все это возбуждало и подстрекало воображение, которое в стремлении своем опережало нас самих. Не останавливаясь долго на одном предмете, мы в разговорах наших беспрестанно переходили от одного к другому. Мы сравнивали прежние времена с новыми, Францию с Грецией, Англию с Карфагеном, Пруссию с Македониею, империю Екатерины с Кировою, рассказывали анекдоты старые и новые; императрица сообщила нам несколько случаев из жизни Петра Великого и Елисаветы. Когда мы дивились скорости, с какою она успела смягчить нравы, недавно еще столь грубые и суровые, она сказала нам: «Правда, наши старики должны находить различие при сравнении их времени с нынешним. Я не могу без ужаса думать о положении народа в правление императрицы Анны или, лучше сказать, ее министра Бирона; этот жестокий человек, которому она доверялась, лишил жизни и сослал более семидесяти тысяч человек».
Мы говорили о диких племенах, населявших отдаленные края ее империи: «Поток времени еще не коснулся до этих кочующих народов, – сказала государыня; – они издавна сохраняют первоначальную простоту нравов: живут под шатрами, питаются мясом и скопами своих стад, подчинены начальникам, которые скорее отцы их, нежели владыки. Можно считать их счастливыми, потому что нужды их ограниченны и легко удовлетворимы. Если бы по прежним намерениям моим я их образовала, то это, может быть, послужило бы к их развращению. Небольшая дань мехами их не обременяет, потому что они охотятся по привычке и по страсти».
В одном только отношении эти древние орды гуннов, киргизов, татар, известные прежде под многими названиями, значительно изменились. Долго они наводили страх своими кочеваньем, набегами и грабежами, но теперь образованные народы лишили их возможности делать новые завоевания, и эти племена потеряли прежний воинственный дух свой. Когда зашел разговор о их вере, шаманах, или волхвах, и идолах, императрица сказала нам, что иные из этих племен придерживаются каких-то непонятных верований, что жрецы их сохранили древнейший сборник молитв, притч и духовных песней, писанных на языке, совершенно неизвестном, и которые они читают по преданию, не понимая смысла их. «Это возбудило мое любопытство, – сказала она. – Я обратилась с запросами к ученым, но они об этом предмете, как и о многих иных, казались ничего не знающими. Я, однако, приказала навести основательные справки. Наконец недавно уже открыли, впрочем еще не наверно, что эти молитвы писаны на древнем, священном языке индусов – на санскритском».
Так как в продолжение этой беседы императрица в беглом очерке изобразила учения законодателей Греции, Азии, Рима и Аравии, то я заметил ей, что она после этого, кажется, потеряла право смеяться над учеными по старой своей привычке.
«Точно, – прибавил де Линь. – После всего, что мы слышали, мы, по совести, принуждены включить вас в число тех ученых, на которых вы так нападаете».
«Да, я знаю, – сказала императрица. – Я вообще вам нравлюсь, и вы хвалите меня «целиком», но, разбирая меня поподробнее, осуждаете во мне многое. Я беспрестанно делаю ошибки против языка и правописания. Сегюр знает, что у меня иногда претупая голова, потому что ему не удалось заставить меня сочинить шесть стихов. Без шуток, я думаю, несмотря на ваши похвалы, что если бы я была частною женщиною во Франции, то ваши милые парижские дамы не нашли бы меня довольно любезною для того, чтобы отужинать с ними».
«Прошу вас вспомнить, государыня, – возразил я, – что я здесь представитель Франции и не должен допускать клевет на ее счет».
Но императрица, бывшая в духе, продолжала в том же тоне:
«Как вы полагаете, чем бы я была, если бы родилась мужчиною и частным человеком?»
В ответ на это Фитц-Герберт сказал, что она была бы мудрым законоведцем, Кобенцель полагал, что она бы сделалась великим министром, а я уверял ее, что она сделалась бы знаменитым полководцем.
«На этот раз вы ошибаетесь, – возразила она. – Я знаю свою горячую голову; я бы отважилась на все для славы и в чине поручика в первую кампанию не снесла бы головы».
В другой раз мы говорили о предположениях, которые тогда делались в Европе по поводу ее путешествия. Мы все были одинакового мнения и уверяли, что везде будут думать, будто она с императором хочет завоевать Турцию, Персию, даже, может быть, Индию и Японию, наконец, что странствующий кабинет Екатерины занимает и тревожит все прочие.
«Стало быть, этот петербургский кабинет, находящийся теперь на волнах Днепра, кажется весьма значительным, если так тревожит другие?»
«Точно так, государыня, – сказал тогда де-Линь, – а между тем я не знаю ни одного, который был бы так мал; он и весь-то в несколько дюймов, потому что простирается от одного виска до другого и от переносицы до волос».
Нам предстояло проплыть 446 верст от Киева до Кайдака, где начинаются пороги и где мы должны были пересесть в кареты и ехать до Херсона.
Флот наш остановился под Каневым, в котором выставлены были польские войска в богатых мундирах, с блестящим оружием. Пушки с кораблей и из города возвестили прибытие обоих монархов. Екатерина послала на красивой шлюпке несколько генералов встретить короля польского. Король, чтобы избавиться от затруднительного этикета, хотел сохранить инкогнито, несообразное, впрочем, с торжественностию встречи, и сказал посланным, которые его сопровождали: «Господа, король польский поручил мне представить вам графа Понятовского».
Когда он вступил на императрицыну галеру, мы окружили его, желая заметить первые впечатления и слышать первые слова двух державных особ, которые находились в положении, далеко несходном с тем, в каком они были некогда. Но мы обманулись в наших ожиданиях, потому что, после взаимного поклона важного, гордого и холодного, Екатерина подала руку королю, и они вошли в кабинет, в котором пробыли с полчаса. Они вышли, и так как мы не могли слышать их разговор, то старались прочитать в чертах их лиц помыслы их; но в них ничего не высказалось ясно. Черты императрицы выражали какое-то необыкновенное беспокойство и принужденность, а в глазах короля виднелся отпечаток грусти, которую не скрыла его принужденная улыбка.
Монарх обращался к тем из нас, которых знал; прочих представила ему императрица. Со мною он был очень любезен. Все было расчислено, чтобы наполнить день, который с обеих сторон желали провести скорее. Все пересели в красивые шлюпки, чтобы переправиться на галеру, где должен был происходить обед. Трудно было представить себе судно великолепнее, изящнее и роскошнее этого. За столом по правую руку возле императрицы сидел король, по левую – Кобенцель; князь Потемкин, Фитц-Герберт и я поместились против их величеств.
За обедом мало ели, мало говорили, только смотрели друг на друга, слушали прекрасную музыку и пили за здравие короля, при грохоте пушечного залпа. По выходе из-за стола, король взял из рук пажа перчатки и веер императрицы и подал ей. После того он стал искать и никак не мог найти своей шляпы; императрица, заметив это, велела принести шляпу и подала ее королю. Принимая ее, Станислав сказал: «Когда-то, ваше величество, вы пожаловали мне другую шляпу, которая была гораздо лучше этой».
Мы возвратились на царскую галеру. Король пробыл еще немного времени и в восемь часов уехал в Канев.
Когда наступила ночная темнота, каневская гора зарделась огнями; по уступам ее была прорыта канава, наполненная горючим веществом; его зажгли, и оно казалось лавою, текущею с огнедышащей горы; сходство было тем разительнее, что на вершине горы взрыв более 100 000 ракет озарил воздух и удвоил свет, отразившись в водах Днепра. Флот наш тоже был великолепно освещен, так что на этот раз для нас не было ночи. Король пригласил нас к себе, и мы отправились. Он дал великолепный бал, но императрица отказалась участвовать в нем. Напрасно Станислав упрашивал ее остаться еще хоть сутки: пора милостей для него миновала! Екатерина сказала ему, что боится опоздать и заставить ждать императора, который должен был съехаться с нею в Херсоне. Мы уехали на другое утро; так минуло это свидание, которое, несмотря на пышную торжественность, займет место скорее в истории, нежели в романе… В некотором отношении оно было выгодно для короля: он успел разрушить замыслы партии, вредившей ему. Князь Потемкин даже пытался помирить с ним племянника своего генерала Браницкого, но Браницкий так неохотно склонился к тому и вел себя так неприлично гордо, что они расстались, еще более недовольные друг другом, чем прежде. Так как король выразил совершенную покорность воле императрицы, то она, во уважение этого, решилась защищать его от врагов. Она пожаловала ему Андреевскую ленту, и с ее дозволения король надел орден Белого Орла на генерала Энгельгардта, племянника Потемкина. По отъезде из Канева Станислав-Август поспешил на встречу с императором Иосифом II, надеясь снискать его расположение и отвратить опасность, грозившую ему со стороны могучего и честолюбивого соседа, уже обнаружившего желание свое распространить пределы Галиции. Император принял его ласково и уверял, что не только не замышляет гибели Польши, но что будет противиться другим державам, в случае покушений их на эту страну. Тщетные обещания! В глазах самых строгих к себе государей политика редко подчиняется нравственным законам; польза руководит их действиями. Станислав, на время успокоенный, не замечал опасностей своего положения. Одна лишь сила упрочивает независимость; она уже потеряна, когда вся надежда возложена на чуждое покровительство. Только в случае готовности к борьбе можно внушить уважение к себе и найти союзников, вместо покровителей.








