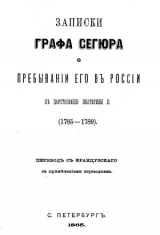
Текст книги "Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. 1785-1789"
Автор книги: Людовик-Филипп де Сегюр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Этот спектакль не позабавил меня, а напротив, опечалил, и императрица, наслушавшись разных неловких и пошлых комплиментов по этому случаю, могла заметить по моему молчанию и виду, что я страдал за великую, благородную государыню[116]116
Записки Храповицкого обличают неправду слов Сегюра в этом случае: и он не воздержался от комплиментов императрице; вот что пишет Храповицкий: «30 января. С удовольствием отзываться изволила (государыня) о представления «Горе-богатыря» (бывшем накануне); я заявил трусость свою, когда увидел в театре Кобенцеля и Сегюра. – «Нет, им граф А. М. Дмитриев-Мамонов сказал, что спектакли в эрмитаже одинаковы, и они приехать могут; Кобенцель заводил к разным уподоблениям, но я будто не примечал, и когда спрошен был Сегюр, то отвечал искренно: «qui se sent morveux, se mouche, et que c'est bien délicat de répondre par des plaisanteries à des manifestes et déclarations impertinentes (y кого насморк, тот и сморкается; очень любезно – шутками отвечать на невежливые манифесты и декларации) (См. Зап. Храповицкого, стр. 168).
[Закрыть].
Вскоре объяснилась причина колебаний Густава. Пользуясь недовольным духом финляндской и даже шведской армии, несколько беспокойных и пылких голов возмутили их: они не хотели идти на войну наступательную и начатую одним королем, без согласия нации. Агитаторы уверили их даже, что казаки, будто бы начавшие боевые стычки, были никто иные, как шведские же солдаты, которых король переодел казаками в платья, взятые из стокгольмского театра. Постоянные сношения между Финляндиею русскою и Финляндиею шведскою усилили доверие к этим внушениям: везде узнали, что на северо-западной границе России мало войска, что в Петербурге все озадачены неожиданною войною; тогда стало ясно, что король – явный зачинщик.
Напрасно Густав надеялся, что появление его флота у берегов Лифляндии возбудит в этой провинции, некогда шведской, движение в его пользу. Сшибка на море то же была безуспешна для него, и ничто не пробуждало мужественного духа в его войсках. Неудовольствие росло: шведские и финские войска, без всякого распоряжения начальства, отступили на 25 верст за Фридрихсгам. Шведский король, озадаченный, удалился после бесполезной попытки высадиться на финляндском берегу, и с двенадцатью тысячами преданного войска заперся в укрепленном лагере под Кюменгардом, где защищен был озерами, рекою, лесом, морем и флотилиею галер – положение его было недоступное, но довольно странное для короля, который выступил с притязаниями завоевателя. Два письма короля к искреннейшему из его друзей, барону Армфельду, докажут лучше всякого рассказа, как он был уверен в себе, выезжая из Стокгольма, и как приуныл, когда несчастье и беспорядки в армии разочаровали его.
Письмо Густава III к барону Армфельду.
С корабля Амфион, на якоре под Фидельгормерна (Fiedelhormerna)
24 июня, 1788 г.
Наконец мы вышли в море, милый друг, и хоть мы не далеко ушли, но нам нужен только порядочный попутный ветер, чтобы достигнуть Финляндии. Мой выезд великолепен. Я сказал тебе, что буду спокоен и одолею природу, которая брала свое в минуту моего отъезда… И что же, милый друг? Оказалось, что это обойдется еще легче, нежели я думал! Мысль о великом предприятии, которое я затеял, весь этот народ, собравшийся на берег, чтобы проводить меня, и за который я выступал мстителем, уверенность, что я защищу Оттоманскую империю, и что мое имя сделается известным в Азии и Африке, все эти мысли, которые возникли в моем уме, до того овладели моим духом, что я никогда не был так равнодушен при разлуке, как теперь, когда иду на грозящую гибель.
Вот как прошел день: в шесть часов я отправился в сенат и назначил правителями государства графов Дибена и Розена. Графу Дибену поручены, покуда, иностранные дела, за отсутствием Оксенштирна. Потом я отдал им мои инструкции. Я сказал им несколько слов, и сенат выразил мне свою благодарность. Сенаторы встали и поцеловали мою руку. Между тем, мой церемониймейстер, г-н Бедуар (Badoire), отправился к русскому посланнику, который был предупрежден о его посещении запискою Оксенштирна, но не знал о причине посещения и полагал, что цель его, вероятно, назначить час аудиенции, которую он желал получить, чтобы вручить мне письма с известиями о рождении дочери великой княгини. Бедуар объявил ему, что я очень оскорблен выражениями его министерской ноты, представленной им в прошлую середу, и в которой он меня как бы отчуждает от государства; но что так как я не полагаю, чтобы императрица могла внушить мне этот образ выражений, то и приписываю его одному ему, тем более, что тон этот согласен вообще с поступками посланника в продолжении зимы; что с этой минуты я не признаю его более посланником и приказываю ему выехать из Стокгольма через восемь дней; что я велел приготовить корабль, на котором его перевезут в Петербург, и что на ноту, которую он мне представил, я буду отвечать через моего министра в Петербурге, когда приму начальство над моим войском. Рубикон перейден. Я объявил сенату это решение и всем девяти иностранным министрам была об этом разослана подробная нота. После заседания я вошел в залу, где собраны были кавалеры и командоры всех орденов; я сделал распоряжение о ведении дел каждого ордена в моем отсутствии… После того я объявил, что учреждаю новую степень ордена Меча, которая будет раздаваться только в военное время и в случае войны в самой Швеции. Статут его будет издан. Вместе с тем я объявил, что я и братья мои наденем этот знак воинской доблести только тогда, когда заслужим его по приговору армии. Из капитула я возвратился к себе и передал совету на хранение коронные и мои бриллианты. Вечером, в девять было у меня собрание. Все лица, имеющие вход в белый зал, были представлены мною королеве. После того я обошел общество и простился со всеми дамами. Тогда двери открылись, и мы вышли в галерею, где было обыкновенное собрание; после того я вышел в сопровождении оруженосцев, пажей, двора и сената, ведя королеву за правую руку, между тем, как с другой стороны шел принц Остроготский; жена его шла с моим сыном; прочие дамы со всем двором шли без порядка между двух рядов многочисленной публики из разных сословий и лет. Таким образом мы спустились на берег, где нас ожидала шлюпка. Королева остановилась на площадке лестницы, и я поцеловал ее, сына и невестку: эта минута была тяжела для меня. Я раскланялся со всеми дамами и, взяв брата под руку, спустился по лестнице, на которой стояли сенаторы: председатель на верхней ступени и прочие за ним; они подошли к руке моей. Потом я вступил на шлюпку, с братом, тремя капитанами гвардии, тремя старшими камергерами, старшим шталмейстером, полковником гвардии и маленьким Вреде, и отъехал от берега при всеобщих кликах народа; когда они раздались, я остановил шлюпку и отвечал троекратным: ура!
Таким образом я проехал гавань до Амфиона, который стоял у Корабельнаго острова. Я дал сигнал к отъезду; но так как было очень тихо, и цепь двадцати восьми галер была длинная, то я оставался на месте, покуда они проходили, ожидая вместе с тем мою сестру, которая спешила ко мне. По случаю штиля, я простоял до пяти часов утра, когда приехала сестра. Таким образом я имел удовольствие ее видеть.
Другое письмо от того-же к тому-же.
5 августа 1788, из Гусуллы.
Не буду говорить вам о моем горе и отчаянии; вы их разделяете со мною. Пусть слабодушные жалуются: другие скрывают горести в глубине души и ищут средств ободриться. Я еще не нахожу способов к отвращению зла и прекращению войны; но найду их для поддержки нашей славы. Когда заготовлены будут магазины в Ангеле, надо будет идти к Вильманстранду с остатком верного войска, сразиться и победить генерала Михельсона. Если мы будем разбиты, все кончено; но за нами останется слава храбрых воинов. Если же я буду победителем, то могу предложить мир и явиться без стыда в Швецию. Сегодня, в три часа пополудни, мы вступаем в Сумму и ожидаем вас. Там мы остановимся, если будет нужно, чтобы не расставаться с вами, и потом расположимся под Югфортом и Кюменгардом. Сдерживайте ваше усердие, милый друг; подумайте, что надо с достоинством переносить неудачи и с умеренностью пользоваться счастием. Служа с преданностью мне и отечеству, вы не можете без сожаления смотреть на наше положение; но, как частный человек, вы должны быть довольны, что вы одни во всей армии имели успех, устояли на своем месте и нанесли вред неприятелю. Прощайте; надеюсь увидеть вас сегодня вечером. Мне легче, когда я излил свое горе в преданное сердце; милосердое небо дало мне эту возможность: оно разит, но порою и утешает.
Таким образом я передал все, что в моем положении мог узнать о неожиданной войне, так самонадеянно начатой шведским королем. Но из уважения к знаменитому монарху и по беспристрастию, которому не хочу изменить, я, при воспоминании об отважности Густава, внушенной ему рыцарским характером и жаждой славы, не должен изобразить его только таким, каким его описывали мне враги его. Немного нужно слов, чтобы оправдать короля, который, оправившись после первых ударов, твердостью духа поборол неудачи, козни и возмущение, спас свою славу, ободрил унывавших, восстановил преданность к себе, храбро сражался, заслужил похвалы среди невзгод и честным миром окончил войну, неблагоразумно начатую. Густав III в наше время играл такую важную роль в Европе, что после упреков, высказанных врагами, не мог не заслужить справедливых похвал за свой ум, великодушие, любовь к отечеству и многие достоинства, которыми он привязал к Себе почетнейших людей Швеции. Как автор записок, а не историк, я не буду распространяться и постараюсь только повить его таким, каким мне изобразили его друг и любимец его барон Армфельд и г. Ернштром, один из его генералов, который по смерти короля сохранил любовь к нему.
Нельзя говорить о нем, не сказав ни слова о его отечестве, которое он обожал, и о некоторых героях Швеции, по следам которых он хотел идти с увлечением, мешавшим ему рассудить, что он был поставлен в другие времена и обстоятельства. При своей пылкости он забыл умный совет, данный ему Фридрихом II. Великий герой, поздравляя его с успехом переворота, утвердившим власть его, писал к нему: «Пользуйтесь вашим успехом. Заботьтесь о восстановлении мира и порядка в вашем отечестве. Но не забудьте, что теперь, когда существует три или четыре большие державы, которые могут выставить по триста и четыреста тысяч войска, шведский король уже не может иметь притязаний на славу, побед и завоеваний». Если бы Густав его послушался, то, управляя страною, отчасти покрытою песками и снегом и имеющею только два с половиною миллиона жителей, он не отважился бы дерзко напасть на империю в тридцать миллионов жителей и пятьсот тысяч войска. Но шведский король, отвращая взор свой от окружавшей его действительности, обращал его к ликам Густава Вазы и Густава Адольфа. В особенности последний служил ему образцом: он с восторгом вспоминал славные победы этого героя, который завоевателем прошел Германию с 15 000 шведов и мечем доказал императору Фердинанду, что великий человек пользуется обстоятельствами, устраняет препятствия и побеждает силу. Фердинанд осмелился произнести на счет Густава Адольфа дерзкое слово: «Этот снежный король скоро растает, потому что осмелился мериться с Юпитером Европы». Лишние и смешные слова! снежный король потряс до оснований престол Германского Юпитера. Густав III, одушевленный этим примером, забывал великие перемены, происшедшие в духе его народа после деспотического правления Карла XI, после утомления, в которое приведена была Швеция безумной воинственностью Карла XII, и лишений, которые она потерпела от честолюбия и самовластия этого монарха. Густав III даже не обратил внимания на те затруднения, через которые должен был перешагнуть, чтобы утвердить свою власть, совершенно ослабленную честолюбивой аристократиею.
Известно, что после 1720 года, когда представители государственных сословий захватили в свои руки правление государством, власть королевская ослабела, и король должен был подписывать все распоряжения сейма и его председателя, будучи в зависимости от них. Таким образом царствовали: Ульрика-Элеонора, ее муж Фридрих Гессенский и избранный их наследником Адольф-Фридрих, принц Гольштинский, отец Густава III. Правда, что будучи еще ребенком, только что выйдя из пеленок, Густав подавал блистательные надежды приверженцам падшей монархической власти. Он был семи лет, когда один шведский генерал сказал ему в шутку, что он будет другим Густавом-Адольфом. Ребенок отвечал на это: «То, что вы теперь говорите как лесть, когда-нибудь, пожалуй, будет правдою!» Его юное воображение было полно чертами из истории обоих Густавов, Христины, Карла XII, битвами с немцами, русскими, поляками, сражениями под Люденом, Нарвою и Полтавою. Покуда он рос, волнуемый мечтами о славе, в сеймах господствовали смуты, и Швеция разделилась на две партии: шапок и шляп. Первая хотела купить мир подчинением и согласием с Россиею; вторая хотела прежней славы и независимости, хотела при содействии Франции завладеть снова Ливониею и Финляндиею. Шапки были усердные приверженцы республиканской аристократии; шляпы втайне желали восстановления королевской власти. Тогда-то, однажды, молодой Густав со вздохом высказался в следующих словах об отце своем: «Король стал в государстве куклою, на которую только в торжественные дни надевают регалии». Смуты в сейме увеличивались. Обе партии попеременно захватывали власть. Старый король, выведенный наконец из терпения беспрестанными унижениями, отрекся от престола, а сейм, не успев заставить его утвердить некоторые из своих постановлений, решился принять это отречение и чтобы сделать его сопротивление бесполезным, утверждал законы вместо подписи короля приложением его печати. Молодой Густав, в негодовании, взял из государственного совета печать и передал ее отцу. Не имея терпения долее переносить это унижение, он с братом поехал путешествовать. Оба они были в Париже в 1771 году, когда узнали о смерти отца. Густав отправился в Стокгольм и созвал сейм.
Молодой король доказал в это время, что он был достоин сана, который носил. Соображаясь с обстоятельствами, он обнаружил ловкость благоразумного человека, доброту популярного монарха, взгляд глубокого политика и решительность молодого воина. Прежде всего он старался казаться равнодушным к власти, отнятой у престола аристократиею, и в тоже время старался всевозможными средствами привлечь к себе любовь народа. Он в этом успел, так что однажды один из отважных и простодушных крестьян из Далекарлии сказал ему: «Уезжаю довольный тобою и расскажу своим, что я видел: в тебе они найдут доброго отца. А если когда нибудь тебе будет нужда до нас, твоих детей, то обитатели трех долин соберутся к тебе при первом призыве». Со скрытым удовольствием Густав замечал в сейме разномыслие дворянских представителей с прочими. Дворяне, высокомерно желая захватить все высшие должности, возбудили всеобщее неудовольствие. Король скрывал свое восхищение и потихоньку умножал число своих приверженцев. Собрав полтораста молодых офицеров под командою Спренгпортена и под предлогом формирования военной школы, он подготовил себе помощь на случай нужды. Несколько времени спустя, задержав подвоз хлеба, он произвел искусственный голод и возбудил неудовольствие в народе. Между тем собрался новый сейм. Он был составлен из противников его, приверженцев Англии и России, скрепивших связи Швеции с этими державами. Нужно было действовать: приходилось или подчиниться такому сейму, или победить его. Отвращая внимание своих противников от удара, им грозившего, Густав произвел нарочно возмущение в Финляндии и Скании. Между тем Спренгпортен, Геллихиус и многие офицеры, привязанные к королю и его брату, разглашали печатно, что дороговизна хлеба происходит от влияния русских и англичан и от измены сейма. Народ ловил эти слухи. В это время произошло возмущение в Христианштадте. Герцог Зюдерманландский тотчас собрал пять полков и вышел с ними в поход, уверив солдат, что составился заговор, затеянный русскими против жизни короля. Все это движение встревожило сейм. По его распоряжению вооружены были два корпуса, на верность которых можно было положиться. Рудбеку поручено было охранять короля и даже задержать его, если почему либо откроется, что он в сношениях с христианштадтскими бунтовщиками. Густав предвидел это. За ним следили, старались, чтобы он проговорился, но он ничем не обнаружил себя. «Известие, которое вы мне сообщаете, – сказал он Рудбеку, – довольно странно и неправдоподобно». – «И что всего страннее, – сказал тогда граф Риббинг, пристально смотря на короля, – так это то, что офицер, стоявший на карауле у ворот Христианштадта, уверял генерала Рудбека, будто все совершающееся делается по приказанию вашего величества». «Ну, так что же? Он ошибся», – возразил король с холодностью и невозмутимым спокойствием. На другой день Рудбек, войдя к королю без доклада, застал его за рисунком для одной из придворных дам и, уходя, сказал: «Можно наверно сказать, что этот юноша никому на свете не может быть опасен».
Карл, брат его, между тем приближался с своими пятью полками. Испуганный сейм приказывает охранять город и не выпускать короля. Во время этой тревоги Густав, среди блистательного двора, притворяясь беззаботным и легкомысленным, казалось, только и думал, что об удовольствиях; но, между тем, он дал потихоньку знать своим друзьям, что пришло время действовать. Совет хотел принудить его показать письма его брата; он отказался исполнить его требование. Несколько членов хотели его арестовать; тогда король вдруг уходит, садится на лошадь, едет к арсеналу, в котором уже дожидались его агенты, возвращается во дворец, где стояла гвардия, сзывает офицеров и с жаром представляет им народную беду и цепи, скованные золотом иноземцев. «Клянусь вам, говорит он, – что я более всякого шведа ненавижу самовластие. Принужденный защищать мою независимость и свободу отечества от дерзких вельмож, я вас спрашиваю: хотите ли вы присягнуть мне с тою верностью, какою всегда отличался шведский народ при Густаве-Вазе и Густаве-Адольфе? Если вы согласны, я охотно подвергну жизнь мою опасности для блага отечества и вашего». Все, кроме трех, присягнули. В эту минуту комендант войска, охранявшего сейм, хочет говорить с королем. «Пусть он идет в совет, там я с ним объяснюсь». Тогда Густав повязывает руку белым платком; это был условный знак. Офицеры гвардии и артиллерии следуют его примеру. Не теряя времени, он ставит караул к государственному совету и отправляется к собранному войску, чтобы держать речь солдатам. Это была решительная, критическая минута. Собравшись с духом, он проехал по рядам, убеждал, увлекал, воспламенял их преданность, так что все поклялась идти за ним и защищать его. Один только голос отказа нарушил их согласные клики.
Однако в других частях города распускали слухи, что он арестован. Король проехал по городу с обнаженною шпагою, и народ был в восторге. Напрасно в это время Рудбек вне себя мчался по улицам и кричал: «К оружию, братья! к оружию, шведы! погибает ваша свобода!» Густав велел его арестовать вместе с прочими коноводами партии шапок. Король, желая обеспечить безопасность иностранных министров, и вместе с тем разведать их намерения, созвал их во дворец. Там он привел к присяге чиновников и адмиралтейство. Посланники обратились к нему с поздравлениями, но искренни из них были только испанский и французский. Таким образом, в несколько часов, находчивостью одного человека кончился великий государственный переворот, и ни одной капли крови не было пролито. Совершенное спокойствие господствовало в столице и в государстве.
Король приказал брату своему распустить войска. Но он не довольствовался смелым подвигом восстановления королевской власти: он хотел, чтобы народ своим одобрением освятил этот переворот. Сделано было народное собрание на огромном поле: здесь было все земское ополчение с оружием в руках. Явился король и был встречен всеобщим кликом: «Да здравствует Густав! Да здравствует спаситель отечества!»
Король созвал членов и с торжеством явился в собрание. Слух о приближении финляндских войск потревожил было депутатов; но спокойствие и красноречие короля рассеяли тревогу. Простучав три раза серебряным молотком Густава-Адольфа, король потребовал внимания и прочитал акт, состоявший из 57 статей, в которых он обещал поддерживать прежние законы так, как они были при Густаве-Адольфе до 1680 года. Король и представителя народа обменялись клятвами, и все кончилось молебствием. Выказав себя ловким, смелым и твердым, Густав, как король, явился добрым и великодушным. Он никому на мстил; всем была объявлена амнистия. Забывая угрозы и обиды, нанесенные отцу, он говорил: «Я не хочу никакого напитка, кроме вод Леты». Награды достались Геллихиусу, Спренгпортену и другим офицерам, которые первые поддержали его.
Его дружелюбные уверения успокоили некоторых недовольных иностранных дипломатов. Он весь предался исполнению своего долга в отношении к народу. Он поощрял торговлю и земледелие, учреждал фабрики и заводы, раздавал хлеб бедным, освободил от податей всех отцов, имевших четырех детей, рассеял предрассудок относительно оспопрививания и утвердил свободу печати постановлением, в котором напоминал, что этой свободы не существовало в Англии, когда Карл I взошел на эшафот. «Только при этой свободе, – говорил король, – правители узнают свои ошибки; только через нее они слышат жалобы народа, и наконец только посредством нее они могут иногда убедить народ, когда жалобы его неосновательны». Появилась сатира на него. Король велел призвать автора; тот явился со страхом: «Я вижу, – сказал ему Густав, – что вы умный человек, но, вероятно, бедны. Я не хочу, чтобы вы нуждались и назначаю вас своим библиотекарем». Король поощрял разработку руд, и его хозяйственные распоряжения увеличили обращение денег. Свобода подняла общее доверие и кредит. Враг роскоши, он боролся против нее указами, столь убедительными, что они подействовали на народ, вообще небогатый. Он усилил труд уничтожив до двадцати двух праздничных дней в году. Среди королевских трудов и рыцарскими идеями, он, по образцу знаменитого короля Артура, организовал покровительство над сиротами и стариками и надзор за больницами. Как любитель литературы, он был в переписке с несколькими учеными. Он преобразовал упсальский университет, учредил академию (1786), написал несколько театральных пьес, а по случаю открытия памятника Густаву-Вазе сочинил лирическую поэму, которая и была играна в Стокгольме[117]117
Его сочинения и переписку издал секретарь его Déchaux (Stockholm et Paris. 1803. 5 v. in 8°).
[Закрыть]. Часто просыпались в нем романические порывы молодости; несколько раз он устраивал всенародные турниры и карусели.
Девятнадцать лет царствовал он справедливо, великодушно, либерально и умно и основал свою силу и славу на любви народа благородного и свободного. Однако же, между тем, как благоразумие клонило его к миру, излишняя любовь к славе пробуждала в нем тайное желание войны. Исподволь готовился он к ней, строил корабли, собирал запасы, укреплялся, обучал и упражнял свои войска. Все улыбалось его надеждам. Обеспечив спокойствие своего государства, он совершил поездку по Европе и везде был встречен похвалами, хотя и находили иногда, что его достоинствам мешало излишнее тщеславие, подстрекавшее его слишком часто повторять рассказ о совершенном им перевороте. Эта смесь ума с гордостью имела влияние на его судьбу. С умом он прожил счастливо девятнадцать лет; гордость породила бурю, которая, омрачив его царствование, возбудила против него вражду, и он пал под ее ударами.
С 1786 года в шведском дворянстве возникла довольно сильная оппозиция, усиленная еще воинственным настроением короля. Король не мог равнодушно видеть, что Россия владеет Лифляндией и частью Финляндии. В надежде найти случай, чтобы завоевать их обратно, он, по внушениям некоторых держав, составил союз с Портою. Взаимное обязательство состояло в том, что если одна из держав будет атакована Россиею, другая вступится, и обе не положат оружия, покуда не добьются удовлетворения. Мы видели, как он обманулся в своих надеждах, и трудно понять, как мог он не знать о настроении шведского дворянства и о происках, которыми возбуждали войско. Слишком доверчиво полагаясь на беззаботность своих неприятелей, он ожидал своего торжества и увлекся до такой степени, что произнес в государственном совете следующие грозные слова: «Если успех увенчает наше оружие, я между памятниками русской гордыни пощажу только один памятник Петру Великому, чтобы выставить и увековечить на нем имя Густава». Может быть, ему удалось бы хоть очень ненадолго, осуществить эти угрозы в Петербурге, который оставался без защиты. Но несколько потерянных им дней, нерешительная морская битва и возмущение его войска навсегда рассеяли мечты о вторжении и завоевании. В последствии мы увидим, что Густав, принужденный к оборонительному способу действия, в храбрости своей нашел средство поправить свое положение и с некоторою славою сойти с пути, столь опасного.
Между тем, как этот новый враг грозил русской императрице внезапным нападением, недеятельность южной армии истощала ее терпение. Осада Очакова еще не была даже начата, как следует. «Я полагаю, – писал мне князь де-Линь, – что мы начали осаду этой крепости, – по крайней мере, в воображений, потому что соорудили четыре плохие редута в расстоянии 700 туазов и ретраншаменты в расстоянии 900 туазов от городских стен. Неприятель не подумал стрелять на работавших, хотя они трудились светлою лунною ночью. Потемкин как будто заснул и, казалось, не думал ни воевать, ни защищаться. Через нисколько дней две тысячи турок неожиданно аттаковали эти ретраншаменты; бросившись на батарею, защищаемую Ангальтом, они уже готовы были разрушить их. Князь не посылал ни приказаний, ни подкреплений. Он все смеялся над неугомонною деятельностью принца Нассау, который отплатил ему по рыцарски: высадив свои войска и спасши Ангальта с его батареею, он сам привез Потемкину донесение Ангальта, который приписывал в нем спасение свое принцу Нассау. Вместе с тем принц иронически извинился, что осмелился вступить в сражение, не дождавшись приказания главнокомандующего».
В это же время австрийцы потерпели сильную неудачу. Император слишком широко растянул войска свои, турки прорвали их цепь и произвели большие опустошения в Баннате. Среди этих обстоятельств де-Линь писал императору следующее: «Я надеюсь, ваше величество, что сентябрь месяц поправит несчастие в Баннате и неуспех в Боснии. Можно ли было думать, что расстроенная Оттоманская империя может быть так опасна России? План турок был прекрасный. Если бы шведский король сделал свое нападение тремя неделями раньше или позднее, и если бы паша успел, как должно было ожидать, с флотом своим, покрывавшим лиман, разбить рыбачьи лодки и галеры, составлявшие флот наш во время романтической поездки по Борисфену, то король явился бы в Петербург, а паша в Херсон».
Наконец, счастие, которое, казалось, отвернулось от императрицы, снова ей улыбнулось: она получила известие о второй победе, одержанной Нассау-Зигеном в лимане. Так как большие корабли и фрегаты русские, по причине мелей, не могли догнать флотилию, то Поль-Джонс сам вызвался помочь Нассау своею отвагою, удерживая однако его кипучую решительность. «Мы идем на верную гибель, – говорил он ему; – с несколькими галерами и плоскодонными судами никто еще никогда не осмеливался нападать на сильную эскадру и корабли в 74 и 80 пушек это безумная отвага; вы будете уничтожены».
«Ошибаетесь, – отвечал Нассау, – эти громады без души, и артиллерия их неискусна; Турки не умеют целить и стреляют на воздух. Мы пойдем на них под огненным сводом, который нам немного повредит; мы их подожжем и истребим».
Его предсказание сбылось. Он взорвал шесть военных кораблей, захватил еще два и сжег почти весь флот. Капитан-паша спасся на шлюпке; четыре тысячи турок были захвачены в плен. Генерал Суворов береговыми батареями немало способствовал этой победе. Граф Рожер де-Дамас (de-Damas), командуя двенадцатью канонерскими лодками, за свое благоразумие и храбрость заслужил в этом деле справедливые похвалы. Нассау поручил ему отвезти Потемкину адмиральский флаг капитана-паши. Апраксина послали курьером к императрице.
Потемкин тогда расположился на возвышении, называемом Ново-Григорьевским. В радости от победы над турками и увлекаемый набожными мыслями, которые не покидали его с детства, он бросился на шею де-Линю и сказал ему: «Видите ли вы эту церковь? Я ее посвятил моему святому, и победа Нассау случилась на другой день после его праздника. Мы и сегодня возле его церкви, и вот турецкий флот сожжен; это помощь святого, не так-ли? Да, точно, я баловень Божий!»
Это торжество вознаградило императрицу за тревогу, которую причинил ей шведский король. Она приказала отслужить молебен и назначила для этого храм в крепости, находящийся в виду памятника Петру Великому, достойного и его, и ее. Императрица объявила мне, что сорок две губернии предложили ей выставить по батальону, но что она отказалась от этого, потому что солдат, которых собрали в Москве и Петербурге, было довольно для отражения шведов. Когда она спросила меня об новостях из Франции, я сказал ей, что там думают, будто она написала шведскому королю резкое письмо, которое его рассердило: «Я очень рада, – отвечала она мне, – что вы мне сообщили это. Эту басню распускали во многих местах; надеюсь, что вы считаете меня неспособною солгать вам. Итак, положитесь на мои слова: с 1785 года я ни разу не писала шведскому королю». От нее же узнал я, что капитан-паша, собрав остатки своего флота, состоявшего еще из тридцати пяти судов, из которых пятнадцать с 74 и 80 пушками, встретился с контр-адмиралом Войновичем[118]118
Граф Марк Иванович, ум. в начале XIX в.
[Закрыть], который шел на него с 17-ю кораблями. Они вступили в бой, и битва была решительная. Турки потеряли 20-пушечный корабль, а один русский фрегат так пострадал, что его нужно было ввести в Севастопольскую гавань. Капитан-паша отошел к берегу, к Варне, а Войнович остался на море.
На севере адмирал Грейг напрасно искал шведского флота: он встретил только четыре судна и упустил три; только одно, 74 пушечное, разбилось о берег и было сожжено русскими. Пятьсот человек экипажа попали в плен. Екатерина послала Грейгу Андреевскую ленту. «Этот орден, – отвечал он ей, – дается только высокорожденным или отличившимся своими заслугами, а так как я не знатного происхождения и не успел еще отличиться, то, сохраняя орден, не буду однако носить его, покуда не буду достоин».
На суше не происходило ничего замечательного. Армфельд[119]119
Шведский главнокомандующий.
[Закрыть], после нескольких незначительных успехов над русскими, удалился в Питтис. Он отступил храбро и в порядке, между тем как остальная шведская армия внезапно удалилась от Фридрихсгама. В то время мы еще не знали о возмущении финляндской армии, и это быстрое отступление возбудило в Петербурге такое же сильное удивление, как сильна была сначала тревога, произведенная внезапным наступлением шведов. До нас доходили только слухи, что финляндские войска, готовые отразить нападение, не хотели войны, несогласной с условиями конституции[120]120
Т. е. войны наступательной.
[Закрыть].
Между тем Монморен писал мне, что шведский король требует от Франции денежного вспомоществования, обещанного ему прежним договором. Ему отвечали, что так как он зачинщик, то его требование неисполнимо, а что касается обыкновенных субсидий в мирное время, то король желает, чтобы обстоятельства дали ему возможность выплатить их. Этот ответ, сообщенный русским министрам, очень им понравился и снова возбудил надежды на заключение союза между четырьмя державами. Монморен наказывал мне спешить, но между тем не давал мне средств, потому что никак не хотел гарантировать независимость Польши.








