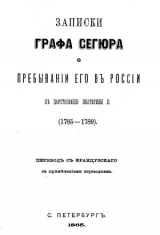
Текст книги "Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. 1785-1789"
Автор книги: Людовик-Филипп де Сегюр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
С тою тревожною радостью, с которой ожидаешь свидания с родиною и семейством после долгой разлуки с ними, я уже готовился к отъезду, когда получил письмо от императрицы. Она меня приглашала к обеду, хотя я уже простился с нею, и просила меня отложить отъезд мой на несколько дней. Я явился на приглашение и, выходя из-за стола, последовал за нею в эрмитаж. По окончании спектакля императрица, отойдя со мною в сторону, сказала мне: «Знаете-ли вы, граф, что я скоро, может быть, нехотя буду вовлечена в войну с Турциею? Моему послу грозили Семибашенным замком, а это обычная выходка этих варваров, когда они хотят объявить войну».
«Я точно знал, – отвечал я государыне, – что некоторые из иностранных министров давали враждебные советы Порте. Но Шуазель полагает, что это минутная неприязнь скоро рассеется твердою и мудрою умеренностию вашего величества и справедливыми предложениями, которые вы сделали визирю; эти предложения усердно поддерживаются императорским интернунцием и нашим послом».
«Правда, – возразила императрица, – что г-н Шуазель старательно действует в этом деле. Мне пишут, что он ужасно сердится на турок, полагает, что они сошли с ума, и всячески хлопочет, чтобы привести их в рассудок».
Я воспользовался этим случаем, чтобы уверить государыню в искреннем расположении к ней короля, который всегда готов употребить свое влияние на Порту, чтобы быть полезным видам императрицы и содействовать к удовлетворению ее жалоб и сохранению мира между обеими державами. «Теперь, – прибавил я, – головы мусульман возбуждены опасными внушениями английского и прусского министров, завладевших великим визирем, и покуда этот визирь не будет удален, до тех пор успех предложений Булгакова, Шуазеля, и Герберта сомнителен».
«Это правда, – сказала государыня; – но не довольно свергнуть визиря. Рейс-еффенди также дурно расположен к нам, как и он. Они столько потратили, на вооружение войск, что боятся вражды народа, который будет думать, что эти деньги пропали, если мир еще будет длиться; поэтому я нисколько не удивляюсь, если первый курьер привезет мне известие об объявлении войны. Я ее не желаю, однако и не боюсь».
«Точно, ваше величество, – отвечал я, – нельзя наверно предвидеть решение такого правительства, каково турецкое. Но время теперь уже позднее, неудобное; может быть, турецкие министры еще одумаются и убедятся, что глупо тратиться вновь для того только, чтобы оправдать прежние траты. Если бы они, подобно мне, видели войска и флот вашего величества, то не торопились бы воевать с вами».
На другой день я виделся с русскими министрами. Они говорили: «Дивану надо совсем потерять голову для того, чтобы, перейдя от робости к отваге, объявить России войну; вероятно, зима пройдет в переговорах». Чтобы уверить меня в искренности императрицы, они прибавили: «Императрица, решаясь доказать королю и Европе свое намерение поддержать мир, постарается забыть неуместное высокомерие в действиях турок и дерзость, с которою они назначили срок для удовлетворения своих неосновательных жалоб; поэтому Булгакову приказано уступать везде, где только это можно, не роняя достоинства имени императрицы, и принять предложения, сделанные Шуазелем для выгоды турок и удаления затруднений».
Таким-то образом мы в Петербурге хлопотали о средствах отвратить бурю, грозившую нам уже четыре года. Но курьер, прибывший двенадцатого сентября, рассеял наши надежды и известил нас, что гроза уже разразилась, и именно с той стороны, с которой ее менее всего ожидали. Не Россия наступала на Турцию, а Турция напала на Россию. Наущения Англии и Пруссии подействовали. Султан приказал заключить Булгакова в Семибашенный замок и объявил императрице войну.
Узнав об этом происшествии, я отложил свой отъезд и послал курьера к Монморену за новыми инструкциями. Я писал ему следующее: «Дела усложнились более, нежели мы могли ожидать. Пруссия и Англия бросили первую искру огня, который может охватить всю Европу. Как ни нужен мне был отпуск, который я испросил и получил, но я им не воспользуюсь и считаю его недействительным. Я остаюсь при своей должности и буду рад, если король примет этот знак моего усердия».
Из писем Шуазеля и депеш австрийского интернунция к графу Кобенцелю я скоро узнал обстоятельства этой внезапной перемены в действиях дивана. Никогда мир не казался более прочным, чем в это время, и вдруг турки решились объявить войну. Верная своему слову, императрица уполномочила Булгакова последовать указаниям нашего посла; она делала уступку по вопросу о фирмане ахалцихскому паше и довольствовалась обещаниями Турции усмирить закубанских татар. На неправое дело о крымской соли и запорожцах смотрели снисходительно. Правда, что отказались выдать туркам Маврокордато; но зато и не требовали от них выдачи русских пленных. Порта получала вознаграждение за убытки, причиненные ей консулами в Архипелаге, с условием, чтобы она возвратила русские суда, захваченные на ее африканском берегу. Вот чего мы с Кобенцелем успели добиться у императрицы. Курьеры должны были уже везти эти удовлетворительные предложения в Константинополь, Версаль и Вену, когда курьер от Герберта известил нас о насильственном поступке султана с русским министром, вопреки представительству французского посланника и императорского интернунция, которые уговаривали турецкое правительство дождаться ответа из Петербурга.
Вице-канцлер, передавая мне, по приказанию императрицы, это известие, выразил мне ее живейшую признательность за посредничество моего двора в этих обстоятельствах. Императрица выражала надежду, что король оценит, как ее старания сохранить мир, так и готовность, с которой она соглашалась на все меры, предложенные королем для предупреждения разрыва. К сожалению, она принуждена была идти с силою против силы; но, по крайней мере, она успела доказать королю, что наступление сделано не с ее стороны. Граф Безбородко, пригласив меня к обеду, повторил мне те же уверения. Он говорил: «Тогда как мы сообща с вами всячески старались сохранить, мир, министры прусский и английский подрывали наши усилия своими кознями и пугали великого визиря и рейсс-еффенди личными для них опасностями. Они указывали на наш торговый трактат, как на акт оборонительного союза, с вами, на наши вооружения на юге, как на признак скорого нападения. Наконец, они пользовались всеми поводами, чтобы вовлечь турок в войну с нами и вместе с тем, уверяли их в счастливом исходе ее, представляя им в преувеличенном виде затруднительные обстоятельства императора в Брабанте и наш неурожай. Поэтому, к нашему удивлению, только что Булгаков приехал из Севастополя в Константинополь, Порта, вместо того, чтобы продолжать переговоры о спорных пунктах, дерзко потребовала возвращения Крыма, угрожая нашему министру заключением, если в самый короткий срок не получится удовлетворительного ответа. Вы видите, что никогда нападение не было так явно и, несмотря на это, я теперь еще могу уверить вас, что императрица, хотя и обижена, однако, не думает о разрушении Оттоманской империи. Она хочет только удовлетворения за нанесенную обиду; чтобы достигнуть этого она полагается на дружбу короля, и если, благодаря его посредничеству. Порта отвергнет злые советы, возвратит свободу Булгакову и извинится в своем поступке, то государыня согласится возобновить переговоры на тех же основаниях, что предложены были до разрыва».
Не зная намерения короля в случае такого оборота дел, я отвечал только, что передам его величеству предложения, мне сделанные, и уверения в постоянном расположении императрицы к сохранению мира. Я объявил графу, что остаюсь в Петербурге, чтобы дождаться решения моего двора. Я сказал ему, что могу предвидеть, как неприятно будет королю узнать о разрыве, который он так желал предупредить, и что он всегда будет готов употребить свои старания для водворения мира и прекращения войны, которая может сделаться опасною для спокойствия Европы.
Ясно было, что оттоманское правительство, обманутое дурными советами, впало в непонятное заблуждение и подвергало себя без всякой нужды бедствиям, которых могло бы избегнуть. Но надо также согласиться, что Англия и Пруссия никогда бы не успели так далеко увлечь невежественных и высокомерных мусульман, если бы Потемкин не напугал их, а потом не рассердил пышною и бесполезною выставкою военных сил, собранных для обстановки торжественного поезда императрицы, и тем, что предписал Булгакову действовать путем угроз. Впрочем, становилось ясно, что Англия, узнав о расстройстве наших домашних дел, сочла время удобным, чтобы унизить нас и восстановить свое влияние в Европе. Поэтому она везде старалась противопоставить нам препятствия и врагов. Она уверена была в победе в том случае, если наши плохие финансы поселят в нас робость, или если мы примем участие во всеобщей войне и тем увеличим свои бедствия. С этою целью, успев привлечь на свою сторону нового прусского короля, она поставила нас в затруднительное положение или разойтись с Портою, если мы ее не поддержим, или разорвать нашу связь с Россиею, если мы будем продолжать покровительствовать туркам. В то же время, по голландским делам, она нас ставила в необходимость или сопротивляться Пруссии, за которую стояла, или оставить Голландию в ее власти. Наконец, она навлекала на нас неприязнь императора мыслью, что мы перестанем девствовать с ним заодно в то время, когда кабинеты лондонский и берлинский сильно заподозрены были в возбуждении смут в Брабанте. Наше положение становилось критическим. Пора было нашему двору сделать решительный шаг. Действия энергические и определенные, вероятно, обезоружили бы наших врагов, успокоили бы Голландию, удержали бы Пруссию, угомонили бы Порту и направили бы за пределы государства то беспокойное движение умов, которое волновало тогда Францию и стремилось найти себе исход вне государства или произвести взрыв внутри его. Тогда легко было заключить четвертной союз между нами, Испаниею и двумя императорскими дворами; интересы их клонились к этому. Мысль об этом пришла на ум королю, равно как моему отцу и де-Кастри, но эти министры не удержались на своих местах. Влияние нового министра, архиепископа тулузского[99]99
Loménie comte de Brienne, архиепископ Тулузы и Санса (Sens), был в 1789 году назначен государственным контролером (controléur général des finances) на место Каллона.
[Закрыть], повело наше правительство к узкому взгляду на дело и ограничило нашу политику интригами….
Война между Россиею и Турциею была объявлена: нужно было знать, какие меры примет каждая из европейских держав. Образ действия императора легко было предвидеть: он определялся фактом нападения со стороны турок и условиями договора его с императрицею. Он должен был соединить свои силы с русскими. Англия возбудила Порту к войне единственно в надежде, что воюющие державы будут искать ее посредничества для примирения, и что этим уничтожится наше влияние в Константинополе и Петербурге. Намерения Пруссии были менее известны. В предыдущем году она лишилась гениального монарха, давшего ей и силу, и славу. Его племянник Фридрих-Вильгельм не успел еще показать – сумеет ли он достойно поддержать тяжелую ношу, имя и наследие великого человека. Можно было видеть только то, что влияние советов лондонского кабинета брало верх в уме его над всеми прочими. Министры его получили приказание действовать согласно с английскими. Поэтому они тоже стремились подорвать в Константинополе наши старания о мире и отрекались от своих действий в Петербурге. Барон Келлер[100]100
Представитель Пруссии в Петербурге.
[Закрыть] повторил уверение, что его монарх желает императрице успеха в войне. Она отвечала на это иронически, что «королю не трудно было бы доказать свое сочувствие, честно исполнив условия прежнего союзного акта, срок которого еще не был кончен». Известно было наперед, что Испания, Неаполь, Дания и Сардиния сохранят строгий нейтралитет, сообразный с их положением и средствами. На счет Швеции никто не беспокоился. Никто не мог ожидать, что Густав III, с 30 000 армиею, скоро нападет на русского великана.
Петербургскому кабинету особенно нужно было узнать, станем мы за или против него, или останемся в нейтралитете. Желали нашего союза, но не рассчитывали на него, зная ваши старинные связи с Портою. Разочарование насчет нас еще не наступало: память об успехах в Америке придавала еще вес нашему могуществу. Но неопределенность наших действий указывала на слабость их. Инструкции мои не давали мне возможности ни внушить страх русским министрам, ни обнадеживать их. Мы даже, не объявили нейтралитета, хотя, конечно, он был необходим, если мы хотим удержать за собою право на посредничество, сохранить ваше влияние и отвратить сближение Англии с Россиею. Находясь в таком ложном положении, я принужден был действовать крайне осторожно и не высказываться решительно. Моя деятельность ограничивалась исполнением, приказания следить за поступками императрицы и влиянием, которое производили на ее политику смелые действия Пруссии, и Англии, умеренность императора, вовлеченного ж войну, против его желания, и наконец труднообъяснимая нерешительность нашего двора…
Я узнал, что англичане просили русское правительство поддержать штатгальтера в Голландии и за это предлагали свое посредничество, чтобы принудить турок к миру, будто бы нарушенному, по их забавным уверениям, нами. Императрица слишком недовольна была их интригами и потому не хотела принять эти предложения. Однако, они отчасти подействовали, потому что через несколько дней после того Безбородко и Морков упрекали меня за то, что я, еще будучи в Киеве, поощрял вооружения турок. «Вот откуда, – говорила они, – начались затруднения, которые, раздражая умы, содействовали разрыву».
«Эти вооружения, – отвечал я, – были чисто оборонительные и возбуждены были приготовлениями с вашей стороны. Если уж нужно обращаться к прошлому, то гораздо естественнее приписать враждебность Турции страху от собрания ваших военных сил на Черном море, от торжественного путешествия императрицы, от энергических выражений Булгакова и той надписи, которую нам показывали в Херсоне: Здесь путь в Византию. И я не понимаю одного, – прибавил я, – каким образом советы Англии и Пруссии в столь короткое время могли так внезапно взволновать Порту и превратить ее страх в смелость».
Скоро узнал я через министров и через депеши Герберта подробности этой неожиданной перемены. Султан был прежде расположен к миру, он хотел заняться делами, присутствовал в совете и тормозил ход переговоров. Вдруг великий визирь пробуждает в нем две страсти, непреодолимые для турка: фанатизм, отуманивающий ум, и страх, вовлекающий в погибель. Августа 13, собравши большой совет или мушаверт, султан предписывает членам его хранить тайну и неосторожным угрожает карою. В следствие совещания, в котором рассудок заглушен был гордостью, яростью и невежеством, Булгаков приглашается на конференцию.
Интернунция встревожило это неожиданное приглашение; он спросил о поводе к тому. Ему отвечали, что это до него не касается. «Не забудьте, – сказал Герберт, – что Булгаков представитель союзницы императора, и что интересы обоих монархов одинаковы». «Олсун (пусть так), – отвечал мусульманский чиновник с презрением; – только сам великий визирь может объяснить свои намерения». Тогда интернунций обратился прямо в великому визирю Юссуф-паше и поехал к нему. Но его не приняли и послали к рейсс-еффендию. Шуазель действовал согласно с интернунцием. Они написали в решительных выражениях рейсс-еффендию, который не удостоил их ответом, и им оставалось только протестовать против этих поступков, заявив о том, к каким дурным последствиям они могли повести.
Булгаков один отправился на аудиенцию. Великий визирь, после сильных упреков, предложил ему немедленно согласиться на возвращение Крыма. Для написания ответа ему даже не дали съездить домой, а отвели только в особую комнату. Русский министр, по долгу своему отказавшись исполнить такое несбыточное предложение, хотел удалиться. Но великий визирь напомнил ему, что прошлою зимою он грозил Турции вторжением 60 000 войска, собранного Потемкиным, и объявил, что теперь все трактаты уничтожены, и что султан решился посадить его в Семибашенный замок с лицами его свиты, по его назначению. Булгаков избрал секретаря, трех драгоманов и двух слуг. Остальная свита возвратилась в Перу. Порта назначила пленному министру содержание, офицера для услуг ему, позволила ему взять свои мебели и пожитки и построила ему изящный киоск, чтобы он мог пользоваться воздухом.
Напрасно Шуазель и Герберт вновь протестовали против этого нарушения народного права. Их хлопоты, настояния и угрозы были бесполезны. Булгакова повезли в тюрьму на богато убранном коне, в сопровождении многочисленного отряда солдат.
Вскоре после этого удавили в Родосе старого крымского хана Сагим-Гирея в наказание за его потворство России. Между тем в Константинополе держали брата его Арслана; он был каким-то призраком хана, и, покровительствуя ему, хотели поддержать надежды и храбрость татар.
Турки, не слушая советов нашего посланника, сделали все, что только могло послужить к их осуждению. Их манифест был бессмыслен; вместо того, чтобы выставить основательные опасения, они выставили поводом к войне небывалые предложения со стороны России об уступке ей Тавриды и Бессарабии. Но первая была уже давно укреплена за нею трактатами, а о второй никогда не было речи. Наконец диван, чтобы напасть на Россию еще решительнее, после заключения Булгакова, велел турецкому флоту в лимане захватить русский фрегат Скорый. Этот фрегат, подкрепляемый бригом, отбился от турок, прошел мимо флота, сам нанес вред нескольким турецким судам в, невредимый, вошел в севастопольский порт.
С одной стороны, сбор множества войск, сформированных Россией в течении восьми месяцев, с другой, сила турецкого фанатизма предвещали скорую борьбу и быстрый ход дела. Но случилось не так. Турки потеряли много времени в сборах войск, рассеянных по Малой Азии, а чудак князь Потемкин также медлил идти на них, как спешил их раздражить. Сорок тысяч было послано против закубанских татар и горских народов. Тридцать тысяч защищали Крым. Сорок тысяч расположено было на пространстве от Херсона до Буга. Князь главнокомандующий назначил главною квартирою своею Елисаветград; он дождался резервов, ему назначенных. Наконец Румянцев собрал близ Киева 70 000 человек войска. К удивлению моему, я услышал от императрицы, что во всю зиму армия будет в оборонительном положении по случаю выступления 380 000 турок к Бессарабии.
Великий визирь уже утвердился в Адрианополе. Порта поручила Мансуру призывать к оружию все татарские орды. В таких обстоятельствах Румянцев в Потемкин, забыв свои несогласия, помирились. Князь сделал первый шаг, написал фельдмаршалу, что, как ученик его, просит его советов и приказаний. Императрица обнародовала свой манифест. Он был написан благородно и умеренно; глупость турок сделала составление его очень легким.
Императрица с нетерпением ожидала известий о намерениях Франции. Наконец второго октября приехал из Версаля курьер: он думал найти меня уже в Вене и привез мне приказание возвратиться в Петербург. Можно себе представить, как я был рад, что не уехал и таким образом предугадал мысль моего правительства. Эта поспешность нашего министерства произвела на русский кабинет неожиданное действие. Поверили тому, на что надеялись, а надеялись, что мы станем против турок, которые, пренебрегли нашими советами и послушались Англии. Но, к сожалению, дело было не таково: наше правительство оставалось в нерешимости и предписывало мне молчание, которое должно было иметь вид благоразумия, но на самом деле происходило от слабости. На вопросы я отвечал, что так как курьер выехал в то время, когда король только что узнал о заключении Булгакова, то и Монморен успел послать мне только одно повеление, предписывавшее мне сообщить министрам императрицы, что король был поражен при известии об этом странном поступке и тотчас же послал Шуазелю приказание выхлопотать свободу Булгакову.
Столь холодное сообщение удивило императрицу. Она однако надеялась еще, что козни Англии и Пруссии в Турции, в Голландии и даже в России, с целью уничтожить наше влияние, надоедят нам и побудят нас заключить союз для сопротивления грозной стачке, против нас направленной.
Но так как нельзя же долго говорить с людьми, которые решились молчать, то русские министры перестали вынуждать меня к объяснениям. Поэтому, в течении некоторого времени, я заботился только о том, чтобы поддержать благоволение ко мне императрицы. Чаще, нежели когда нибудь, я был в ее обществе. Она часто приглашала меня к обеду и почти ежедневно дозволяла присутствовать на эрмитажных спектаклях.
Вид этого эрмитажа не совсем соответствовал его названию, потому что при входе в него глаза поражались огромностью его зал и галерей, богатством обстановки, множеством картин великих мастеров и приятным зимним садом, где зелень, цветы и пение птиц, казалось, перенесли итальянскую весну на снежный север. Избранная библиотека доказывала, что пустынник этих мест предпочитает свет философии монашеским испытаниям. Там был и курс истории почти что в лицах, – полнейшее собрание медалей всех народов и веков. В конце дворца находилась красивая театральная зала, в малом виде устроенная на подобие древнего театра в Виченце. Она была полукруглая, без лож, с лестницею скамеек, расположенных амфитеатром.
Два раза в месяц императрица приглашала к спектаклю дипломатический корпус и особ, имевших вход ко двору. В другие дни число зрителей не превышало двенадцати. Обыкновенно тут бывали великий князь с супругою, флигель-адъютант Мамонов, обер-шталмейстер, обер-камергер, граф Строганов, вице-канцлер граф Безбородко, князь Потемкин, его племянница графиня Скавронская, девица Протасова, посланник граф Кобенцель, де-Линь и я. Фитц-Герберт был тогда в отсутствии. Для моих политических отношений это было выгодно, потому что в тогдашних обстоятельствах он был бы мне противником опасным по своему уму, ловкости и расположению, которое снискал у императрицы. Однако я жалел, что его не было, потому что искренно и нежно полюбил его.
Великий князь и жена его редко пользовались дозволением быть в эрмитаже. Еще реже в нем появлялась княгиня Дашкова: ее резкий и надменный нрав удалял ее от государыни. Эта гордая женщина была как бы ошибкою природы: она более походила на мужчину, чем на женщину. Преувеличивая участие свое в восшествии императрицы на престол, она приписывала исключительно себе успех этого дела и хвасталась этим, путешествуя по Европе. В первую пору царствования государыни, в безграничном своем честолюбии она хотела командовать гвардейским полком и, может быть, думала о министерском посте. Но Екатерина II, не желая давать ей власти, как мне говорил Потемкин, встретила насмешкой эти неуместные требования и, назначив ей место, более свойственное ее способностями, сделала ее президентом основанной ею академии[101]101
т. е. Российской; кроме того Дашкова была директором Академии Наук.
[Закрыть].
По распоряжению императрицы выписана была из Франции хорошая труппа актеров. Она представляла соединение достойных талантов: здесь был знаменитый актер Офрен, несколько известных композиторов и виртуозов, сперва Паезиелло, потом Чимароза, Сарти, певец Маркези и госпожа Тоди, которая услаждала пением своим не государыню, не чувствительную к музыке, но князя Потемкина и многих любителей. Екатерина II хотела познакомиться со всем нашим театром; каждый вечер играли какую нибудь пьесу Мольера или Реньяра. Трудно представить – в каком затруднении были наши актеры в начале, будучи принуждены играть на большом театре, в виду великолепного и светлого зала, но почти без зрителей или перед десятью или двенадцатью человеками. Аплодисменты даже всеобщие, были негромки и неободрительны.
Императрица упросила меня прочесть ей трагедию «Кориолан», которую я написал на корабле во время переезда из Америки. Она была так снисходительна к этому произведению, что непременно хотела поставить его на сцену. Как я ни противился этому, она настояла на своем. Я выпросил только, чтобы спектакль был дан перед маленьким кружком императрицы. Это мне было обещано, и «Кориолан» был сыгран два или три раза перед двенадцатью зрителями, между которыми не могло быть недоброжелателей. Одобрение было единогласное, и автор вызван. Однако известно, что при дворе обещания даются легко, но нельзя на них рассчитывать. Меня обманули, но совершенно в тайне. В один из четвергов меня, как и весь дипломатический корпус и двор, приглашаюсь на большой эрмитажный спектакль. Я являюсь; императрица зовет меня к себе и сажает на скамью ниже себя. Подымается занавес, выходят актеры, и, к удивлению моему, я вижу, что дают мою пьесу. Никогда я не бывал в подобном замешательстве: актеры играли отлично, и публика, в след за императрицею, аплодировала усердно. Мне было неловко; я молчал, неподвижный, как статуя, и спустя глаза. Вдруг императрица, сидевшая за мною, берет одною рукою мою правую руку, другою – левую и таким образом заставляет меня самого аплодировать. После этой любезной шутки надобно было придать себе бодрости и, по окончании пьесы, выслушать множество похвал, от которых ради вежливости никто не мог воздержаться. На другой день императрица, смеясь над моею робостью, стала расхваливать мою пьесу. Тогда я счел нужным приняться сам за критику и показать ее недостатки.
«Я вам докажу, – сказала государыня с тою любезностью, которая была так в ней привлекательна, – что вы заслужили эту похвалу если не за прекрасные стихи, которым я плохая ценительница, то по крайней мере по благородству чувств и мыслей. Доказательство на это вот какое: вы знаете, что у меня ухо не создано для поэзии, и однако вот стихи, которые я затвердила». И она мне прочитала следующие:
Une honteuse paix n’est qu’un affront sanglant,
Que le peuple vaincu supporte en frémissant:
Elle aigrit son courroux; jamais il ne l’endure
Que le temps qu’il faut pour guérir sa blessure;
Il l’accepte par crainte, il la rompt sans remords,
Et les dieux qu’il parjure approuvent ses efforts.
Alors, des deux côtés, une fureur cruelle
Rend la guerre sanglante et la haine immortelle,
Porte l'èpuisement, l’effroi, l'oppression,
L’esclavage, l'opprobe et la destruction.
Voilá les tristes fruits de tonte paix honteuse,
Loi toujours sans effet, trèye toujours trompeuse.[102]102
«Постыдный мир – кровавая обида, которую побежденный народ терпит негодуя. Его гнев распаляется, и он сносит его только, покуда излечиваются его раны. Он соглашается на него из страха, разрывает его без раскаяния, и боги, которым он изменяет, одобряют его решимость. Тогда с обеих сторон, при взаимной ярости, война становится жестокою и ненависть ненасытной; они приносят за собою изнеможение, ужас, угнетение, рабство, стыд и разрушение. Вот грустные последствия постыдного мира: это закон без действия, это мнимый отдых».
[Закрыть]
Ясно, что политические намеки пришлись по вкусу императрицы и, при благосклонности ко мне, возвысили в ее глазах талант поэта-дипломата.
Изредка императрица насмешливою улыбкою спрашивала меня: получил ли я известия из Франции? Наконец, однажды она мне объявила, что прусские войска вступили в Голландию, и, казалось, сильно опасалась, что наши войска не подоспеют во время, чтобы остановить этот поход.
Ее опасения были вполне основательны. После долгих совещаний в совете короля, твердость министров военного и морского, казалось, победили осторожную медлительность архиепископа тулузского, назначенного тогда председателем совета финансов (chef du conseil des finances), и Людовик XVI, по природе храбрый, хоть и миролюбивый, решился содействовать голландцам своею военною силою. Вследствие того он приказал отцу моему (военному министру) принять меры к сосредоточению армии в Живе (Givet) и представить ему смету сумм, нужных для ускорения похода. Это скоро было исполнено. Но напрасно отец мой входил об этом с докладом при каждом собрании совета. Несмотря на содействие маршала де-Кастри, всякий раз откладывали решение, которое должно было дать ход делу. Во Франции и в соседних странах только и говорили тогда, что о движении французской армии, однако в Живе все еще не появлялось знамя ее. Впоследствии слышал я от отца моего анекдот, который может объяснить эту непостижимую медлительность и научить писателей, изображающих мировые события, не зная деятелей их и не видя их за кулисами, – какие ничтожные причины иногда имеют влияние на ход самых важных дел. Де-Бриенн, архиепископ тулузский, не имея достоинств ни почтенного прелата, ни государственного человека, обладал тем легким, тонким и подвижным умом, который всегда дает успех в обществе.
К несчастью, в то время блестящее и избранное Общество, величающееся высшим или лучшим, раздавало известность и значительные места. Оно было так легкомысленно, что не видело существенного за наружностью и не различало интриги от политики, обманывалось призраками и любезность принимало за настоящее достоинство. Архиепископ тулузский в молодости был дружен с Тюрго и некоторыми приверженцами системы экономистов, а потом отличился на провинциальном лангедокском собрании своим красноречием, важностью и умеренностью. В парижских гостиных он отлично говорил об делах с людьми, которые их не понимали, но воображали себя деловыми. Несколько умных женщин, каковы госпожи Тессе, де-Бово, Монтессон составили известность его административным способностям. Друзья Некера противопоставляли его Калонну. В собрании государственных чинов (notables) он снискал одобрение духовенства, поддерживая его привилегии, и некоторое время, сопротивляясь министерству, пользовался доверием нескольких патриотов и даже Лафаета, которого обманывал.
С другой стороны, не смотря на расположение короля к первым министрам и в особенности к духовным в гражданских должностях, он надеялся достигнуть цели через одного приятеля, аббата де-Вермона. Некогда он убедил Шуазеля послать этого аббата в Вену для преподавания французского языка герцогине Марии-Антуанетте. Герцогиня, сделавшись королевою, продолжала оказывать внимание к аббату. Архиепископ воспользовался его положением, и этот верный агент беспрестанно восхвалял его в своих беседах с королевою. Такими то средствами он устранил все препятствия своему честолюбию и вступил в министерство, когда Каллон, побежденный парламентами и нотаблями, увидел, что его волшебный жезл разбит, и удалился. Затруднения, возникающие вместе с войною, казались министру финансов непреодолимыми, и он, не думая об унизительной роли, которую он навязывал нашему двору, стал хлопотать только о том, как бы возможно долее отсрочить и расходы, и войну. Вот странный и даже забавный способ, который он для этого употребил с полным успехом: Людовик XVI, по сочувствию своему к достоинствам и доброте, очень любил министра Мальзерба, тогда призванного в совет. Мальзерб, как большая часть великих людей, имел одну слабость, именно ужасно любил без умолку рассказывать анекдоты, которых знал множество. В своих рассказах он пленял всех умом, добродушием и тонкою насмешливостью. Когда он, бывало, начнет, то его не скоро остановишь, да никто из слушателей и не думал об том. Я уже сказал, что отец мой, ожидая решения и подписи по своему предложению, докладывал об нем в каждом заседании совета; тогда, де-Бриенн ловко подстрекал Мальзерба запросом о каком нибудь давнем происшествия, имевшем сходство с тогдашними, и рассказ начинался. Напрасно маршалы пытались остановить его: король заслушивался. Рассказ длился, время проходило. Было уже поздно, когда начиналось рассмотрение дела, и оно отлагалось до следующего раза. Трудно поверить, что таким образом прошло четыре заседания, то есть две недели. Только что кончили рассуждение о принятии нужных мер, когда узнали о быстром походе герцога Брауншвейгского, об ужасе голландцев, о неудаче князя Сальма, который предводительствовал их войском, и о занятии их городов и контрреволюции, которая передавала республику во власть штатгальтера и Англии. Можно судить – до какой степени неоснователен был страх архиепископа, если вспомнить, что говорил герцог Брауншвейгский почти публично: «Прусский король, – сказал он, – боялся впутаться в войну с Франциею, которая могла бы возбудить против него Австрию, ее союзницу. По этому мне предписана была особенная осторожность. Я послал двух офицеров моего штаба к Живе. Если бы там было войско, я бы остановился. Но так как там не было ни одного знамени, ни одной палатки, то я поспешил походом, и Голландия была занята». Остается только жалеть, что нас вовлекали в такие ошибки. Прелат, бывший причиною нашего унижения, был возведен в сан первого министра, и маршалы, которые стояли за неприкосновенность нашей славы, подали в отставку, не решившись служить под начальством архиепископа. Надо однако сказать правду, что, когда услышали о завоевании Голландии вследствие непростительной медленности с нашей стороны, французская честь проснулась, и во дворце раздались возгласы: «К оружию!» Хотя англичане объявили, что вооружаются за штатгальтера, наши корабли были приготовлены, и Монморен занялся приисканием средств, чтобы мы могли противостоять англо-прусскому союзу. Было еще время, и все могло измениться. Война в это время произвела бы счастливую диверсию, восстановила бы наше влияние и вместе с тем дала бы внешний исход юношеским силам Франции, которые своею живостью подкрепляла волнение умов ее.








