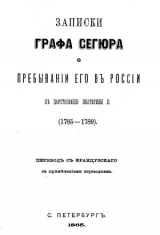
Текст книги "Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. 1785-1789"
Автор книги: Людовик-Филипп де Сегюр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Взятие Очакова поразило всех в Версали и изменило все соображения нашего кабинета. Хотели знать, какими требованиями ограничится Екатерина II. Желая узнать это, я спросил графа Безбородко, как-бы лично от себя; будет ли довольна императрица, если Порта освободит Булгакова, утвердит окончательно за Россиею Крымский полуостров и уступит еще Очаков. Через несколько дней после того, императрица велела передать мне, что я угадал ее желания; вместе с тем она извещала меня, что послала Нассау-Зигена в Мадрид. Ему приказано было спешить; предлогом его поездки должно было служить поручение государыни поздравить с восшествием на престол испанского короля Карла IV, некогда оказывавшего покровительство принцу. Но настоящей целью этой поездки было исполнение тайных поручений императрицы. Они состояли в тон, что принц должен был изложить королю причины ее неудовольствия против Англии и Пруссии и сообщить испанскому правительству достоверные известия о замыслах Фридриха-Вильгельма на Данциг и Польшу, чтобы объяснить ему необходимость четверного союза для сохранения мира в Европе, императрица удаляла таким образом сильнейшие поводы к нерешимости нашего кабинета. Она полагала, что мы затягиваем дело из уважения к испанскому королю. « Я вижу, – говорила она принцу, – что в Мадриде решится этот важный вопрос, от которого зависит, может быть, судьба дома Бурбонов в Европе». По просьбе принца Нассау я передал ему записку о политике Англии за несколько лет, в течении которых она, чтобы вознаградить себя за потерю американских колоний, везде старалась ослабить влияние дворов версальского и мадридского и усиливалась, вместе с Пруссиею и Голландиею, возобновить войну, во время которой наши внутренние смуты могли ей дать более надежды на успех. Я постарался изложить эту записку потщательнее, потому что она назначалась для прочтения испанскому королю, его главному министру Флориде, Бланке и графу Монморену.
В это же время готова была разразиться гроза, которой мы опасались: императрица узнала об успехе козней Луккезини.
Поляки, возбужденные им и рассчитывая на помощь прусского короля, уничтожили постоянный совет, существование которого гарантировала императрица; в то же время они громко требовали выхода русских войск из Польши. Императрица, в гневе, хотела было силою поддержать утвержденную ею конституцию. Кобенцель, Нассау и я с трудом могли успокоить ее. Мы доказали ей, что прусский король воспользуется ее поспешностью, чтобы исполнить свои планы, что он вступит в Польшу, что вся Польша восстанет, и что эта диверсия послужит в пользу Швеции и Порты.-Императрица уступила, решилась действовать умеренно и, чтобы рассеять ложные опасения, возбуждаемые в Польше пруссаками, оказала равнодушие к переменам, происшедшим в польской конституции, но решилась оставить свои войска в Украине, чтобы сохранить безопасность армии фельдмаршала Румянцева.
Между тем прибыл князь Потемкин. Взятие Очакова заставило императрицу позабыть все, что давало ей повод к неудовольствию против князя. Обрадованная победою, она прощала лень его. Все, кто роптал на него за беспорядки, спешили изъявить ему свою преданность. Ему сказали, что я был в числе его хулителей, и он жаловался мне при первом свидании со мною. «Название хулителя я не заслужил, – отвечал я; – я не мог постигнуть той неблагоразумной уверенности, с которою вы удалили войска с севера, открытого для шведского короля, если бы он действовал смело и решительно. Мне также казалось, что вы дали туркам время укрепить Очаков, который, по мнению инженера Лафитта, не мог устоять против сильного нападения, и в этом случае я разделял мнение и нетерпение друзей моих де-Линя и Нассау».
«Ничего не могу сказать на счет Швеции, разве только то, что никакой рассудительный человек не мог предвидеть эту войну без повода и дерзость, подобно Густавовой. Что же касается Очакова, то вы ошибались: мы не ожидали нападения турок, они боялись нашего. Мне пришлось растянуть войско на три с лишком тысячи верст и перевозить огромные обозы с припасами по степям. Я полагаю, что в недолгое время я сделал все, что мог».
«Теперь мой черед обвинять вас, – говорил я смеясь; – я знаю из верных источников, что вы довольно равнодушны к союзу между четырьмя державами, которому, казалось, придавали прежде такое значение. Уверяют даже, что вы, забывая происки Англии и Пруссии против России, склоняетесь теперь на их сторону и готовы защищать их перед императрицею; одним словом, что вы готовы подать руку вашим врагам и отступиться от друзей ваших».
«Отчего ж бы нет? – возражал он тем же тоном; – вам, как дипломату, нечего бы тут удивляться. Когда я увидел, что Франция становится архиепископством, что духовная особа удаляет из королевского совета двух маршалов и преспокойно допускает англичан и пруссаков овладеть Голландиею без бою, я, признаюсь, позволил себе одну шутку: я сказал, что охотно посоветовал бы моей государыне войти в союз с Людовиком толстым, Людовиком юным, Людовиком святым, хитрым Людовиком XI, мудрым Людовиком XII, Людовиком великим, даже с Людовиком многолюбимым (bien-aimé), во никак не с Людовиком викарием[128]128
Louis le suffragant.
[Закрыть]».
«Правда, – ответил я смеясь, – что французские короли назначали иногда в министры епископов и кардиналов, во я не думаю, чтобы они делали министрами таких генералов, которые не раз собирались идти в монахи».
Эта колкая беседа, о которой я не счел нужным доносить моему двору, кончилась также весело и дружелюбно, как началась. Однако, нельзя было уже сомневаться, что Потемкин не полагаясь более на нас, изменил свою систему. Оставаясь со мною лично в дружественных отношениях, он не оказывал мне более доверия в делах политических и довольно открыто перешел на сторону министров Англии и Пруссии. Однажды, когда у него собралось много гостей, его негодование против французов подстрекнуло его на злую шутку на мой счет; она разыгралась однако не в его пользу. Некогда в Европе при всех дворах и у всех вельмож были шуты, счастью которых завидовали многие честолюбцы. Они пользовались редким преимуществом безнаказанно говорить правду. Может быть, это преимущество было слишком опасно, и потому шуты вышли из моды. В России можно было еще встретить нескольких вельмож, которые держались обычая иметь при себе шутов. У Потемкина был шут именем Мосс; он был оригинален, начитан, и некоторые из его шуток были остры и смелы. Князь играл со мною в шахматы в присутствии нескольких офицеров и многих придворных. Для развлечения ему вздумалось привести меня в замешательство; он позвал своего шута и сказал ему: «Мне бы хотелось знать, что ты думаешь о новостях из Парижа: там собирают генеральные штаты; скажи-ка: что из этого выйдет?» Тогда Мосс, не заставляя ждать себя, начал болтать и ораторствовать, и целую четверть часа неутомимо сыпал свои нескладные сведения, смешивая события, царствования, года, альбигойцев, протестантов, янсенистов. Приводя иногда истинные анекдоты и составив из всего этого забавную и карикатурную картину, в которой представились в смешном виде наш двор, духовенство, парламент, дворянство и вся нация, он в заключение этой сатиры предсказал всеобщий переворот и всемирное безумие, которые охватят Европу, если только не поручат власть таким мудрецам, как он, вместо сумасшедших, которые правят теперь. Во время этой великолепной выходки против Франции, присутствующие двусмысленно посматривали на меня, а Потемкин втихомолку радовался, что ему удалось смутить меня, заставив выслушать глупости о Франции и напустив на меня шута. Я однако не потерялся и решился отомстить. Я знал, до какой степени тогда в Петербурге все вынуждены были молчать и остерегаться насчет политики и правительственных дел, о которых не позволялось толковать. Нисколько не сердясь на Мосса, я сказал ему: «Любезный Мосс, вы человек сведущий, но вы уже лет двадцать не видали Франции, и ваша память, правда, отличная, вас однако обманывает; к истине вы подмешали много неверного. Но, судя по вашему красноречию, я полагаю, что вы заговорили бы еще лучше и занимательнее, если бы избрали предметом Россию, более вам знакомую, и теперешнюю войну с турками». При этих словах Потемкин поморщился и погрозил шуту; но бесстрашный Мосс был в ударе и, подстрекаемый хвалою, заговорил горячо и еще менее щадил Россию, чем Францию. Он вдоволь распространился о рабстве народа, о деспотизме двора, о недостатках армии, скудости казны, упадке кредита. «Что думать о правительстве, – сказал он, – которое видит, что дела так плохи, и тратит столько денег и людей, чтобы овладеть какими-нибудь степями и получить чуму? К чему это хотят издерживаться, проливать кровь и вооружать против себя всю Европу? Вы не отгадаете, а я вам скажу: все это делается для забавы одного высокого князя, который вот здесь; он скучает и хочет добыть георгиевскую ленту сверх прочих тридцати или сорока орденов, которыми он увешан, но которых ему недостаточно». После этой выходки я залился смехом, гости силились, чтобы не рассмеяться, а Потемкин, ужасно рассерженный, уронил стол и бросил шахматы вслед убегавшему Моссу. Тогда я заметил Потемкину, что мы оба окажемся не умнее Мосса, если будем сердиться на его глупость, В вечер кончился очень весело.
Я довольно ясно представил в депешах моих невыгоду моего неопределенного положения, так что правительство наконец высказалось. Монморен, казалось, решился; он писал мне: «Вы мне изложили подробно мысли императрицы насчет предлагаемого союза, так что нам ничего не остается желать, и можно предложить окончательный проект. Эта работа исполнена, и вот уже несколько дней, как в руках короля. Я скоро пришлю к вам курьера с повелениями его величества. Предуведомьте русское правительство, что Голландия хочет вооружить эскадру и присоединить ее к шведскому флоту; мы получили об этом тайное известие». Эта депеша вновь обнадежила меня и Кобенцеля; но это было уже в последний раз. Императрица начинала сердиться на нас; она знала, что мы согласились заплатить шведскому королю субсидии, давно следовавшие к уплате, и удивилась молчанию Испании и нашему относительно Пруссии, которую, по ее мнению, мы должны были остановить и постращать войною, если она не перестанет тревожить Европу своими замыслами на Польшу. Государыня полагала также, что мы могли действовать сильнее на Порту, чтобы склонить ее к миру. Из этого можно заключить, как мало знали в России наши внутренние беспорядки и затруднения нашего правительства.
Швеция в это время сильно тревожила императрицу; надеялись, что на новом сейме проявится тоже неудовольствие, какое было распространено в армии. К тому же Густав, атакованный войсками датского короля, высадившимися на шведскую землю, с трудом мог защититься от этого нового врага. Таким образом все, казалось, соединилось, чтобы заставить короля положить оружие и подписать условия, которые ему предложат соседи и его собственные подданные. Но дело вышло иначе. Шведский король почерпал в своем уме и отваге средства, соответствовавшие страшной опасности, которая ему грозила. Уже принц Карл Гессенский, предводительствовавший датскими войсками, при вступлении в Швецию через Норвегию, захватил лагерь с 800 человек; в пятнадцать дней он завладел всем краем между Амалой и Венерсборгом, и подходил к Готенборгу. У Густава в это время было только 2000 войска, которые были нужны для обороны Стокгольма. Датчане не встречали другого препятствия, кроме слабого отряда милиции, только что собранной. Король удалился в Гагу (Haga); там его убеждали собрать сейм. В Стокгольме составилась сильная партия, чтобы поддержать замыслы возмутившейся финской армии. В эту критическую минуту Густав III вспомнил, что Густав Ваза нашел в ущельях и в рудниках Далекарлии убежище, из которого он потом вышел на освобождение Швеции от ее врагов. Это внушило королю мысль последовать примеру Вазы: неожиданно приезжает он в Мору, самое населенное местечко Делакарлии. Его встречают с радостными кликами; он собирает далекарлийцев в поле, после молебна становится на тот камень, на котором стоял и говорил Густав Ваза, и обращается к народу с благородною, смелою и увлекательною речью. Все слушавшие его проникаются его убеждениями, все клянутся ему в верности, все бросаются к оружию, чтоб идти на врага. Во всем крае, который он быстро объезжает, он находит тоже усердие и туже преданность. Таким образом король, угрожаемый сильными соседями и оставленный бунтующим войском, обратился за помощью к простым и отважным поселянам, и нашел ее здесь!
Далекарлийцы хотели составить ему гвардию из 6000 охотников. «Покуда я среди вас, – сказал король, – мне не нужно гвардии; но я принимаю ваше предложение, чтобы поспешить на защиту отечества». Соседние области последовали примеру далекарлийцев: повсюду вооружались и собирались. Но вдруг Густав узнает, что Карл Гессенский готовится взять Готенборг, так как губернатор города, испуганный или подкупленный, предложил уже жителям, по первому требованию, сдаться, чтобы избегнуть беды лишиться домов своих. Густав тотчас же, рискуя попасть в руки неприятелю, переодетый, один верхом, проезжает двадцать миль в день, является вечером, не узнанный, в Готенборг и входит в дом коменданта, чтобы отдохнуть. Он находит дом пустым, без постели, без мебели: расчетливый градоначальник убрал все свои вещи. Рано утром король созвал городской совет и горожан. «Не бойтесь, – говорит он им, – ни врагов, ни осады. Помогите мне, и победа будет на вашей стороне. Я сто раз готов рисковать своей жизнью, чтобы сохранить Швеции Готенборг, это драгоценнейшее украшение моей короны». Его слова и пример ободряют самых нерешительных. Собирают всех лошадей, снаряжаются, без устали работают над укреплениями. Не было батареи на стене: ее выводят, ставят пушки, и в несколько дней крепость приготовлена к защите. Датское войско подходит к городу. Адъютант принца Гессенского, посланный с грозным письмом к коменданту, въезжает в город и, к величайшему своему удивлению, вместо коменданта видит короля, который объявляет ему, что прежде, чем сдать город, он разрушит его до основания. Датчане узнают, что они идут уже не в беззащитную страну, а должны готовиться к упорной войне.
Однако датский флот соединяется с русским. Со всех сторон, с моря и с суши, Густав был окружен, настигнут и тесним превосходными силами: его падение казалось неминуемо. Ему оставалось только спасти свою славу и пасть со своими верными далекарлийцами под развалинами отечества, но твердость спасла его. Презирают и покидают только слабых народоправителей, а королей храбрых уважают и защищают: Англия и Пруссия не хотели допустить, чтобы враги Густава победили его. Эти две державы потребовали от Дании, чтобы она отозвала свои войска. Английский министр Эллиот объявил датскому правительству, что если его войска не оставят Швеции, то английский флот будет бомбардировать Копенгаген. Сперва Швеция и Дания заключили перемирие, во время которого слабый гарнизон Готенборга был подкреплен шестью тысячами человек: между ними заметны были далекарлийцы с их косами, бердышами и аллебардами; на них были черные куртки, а на правых руках – белые повязки. Из них составили три полка. Перемирие было продолжено. Датчане отступили, начали переговоры и наконец согласились на мир. Таким образом у Густава было одним врагом менее, но оставались еще два очень прочные, – извне Россия, а внутри – аристократия.
Изменившая армия все еще оставалась в бездействии против русских. Возмутившиеся начальники ее надеялись, подобно императрице, с которою они согласились, что сейм принудит короля к миру и к перемене правления. Но Густав скоро рассеял эти обманчивые ожидания. Он вдруг явился в столице, и народ встретил его с торжеством. Он решился одним ударом поразить опаснейших своих врагов. Еще будучи в Готенборге, он созвал сейм, который собрался в столице. Является король, собирает представителей четырех сословий в чрезвычайное заседание, излагает перед ними положение дел и свои сношения с европейскими державами, объявляет им, что, подобно им, желает мира, только не бесславного, и что не знает другого средства достигнуть его, как энергическим продолжением войны. Наконец он предложил им выбрать тайный комитет из 30 членов, с которыми бы он мог совещаться о нуждах отечества. Духовенство, крестьяне и большая часть горожан высказались в пользу мнения короля и за войну; они все были согласны насчет выбора своих депутатов. Только одно дворянство старалось затруднить ход дела, отсрочивать и замедлять решения. Своим образом действия оно восстановило против себя другие сословия и вывело короля из терпения. Король приготовил все к перевороту: собранные и хорошо обученные войска готовы войти в Стокгольм при малейшем знаке. Король собрал членов сейма в большую дворцовую залу. Торжественно благодарил он представителей духовенства, граждан и крестьян за их преданность к нему, за усердие, с которым они его поддержали, и за любовь к отечеству. «Но вы, дворяне и воины, – сказал он, – вместо того, чтобы примером своим руководить других, вы глухи к призыву родины и слушаетесь только страстей ваших». Затем, после нескольких укоров своим противникам и обращаясь ко всему сейму, он заключил свою речь следующими словами: «Я не могу, не должен допускать, чтобы дворянство своим бездействием поддерживало врагов наших. Мне нужно содействие, нужно, чтобы войско и флот не нуждались в одежде, оружии, деньгах; в противном случае я объявляю заранее, что если разорят наши берега, с огнем и мечем пройдут по Финляндии и даже с угрозой подступят к этой столице, то никто не посмеет упрекнуть меня. Виновны будут только те, которые, вместо того, чтобы отказаться от своих замыслов на управление государством и от мести против меня, соглашаются лучше видеть неприятеля в Стокгольме и русского министра предписывающим мне законы. Они полагают, что, затрудняя и замедляя ход дел, они заставляют меня согласиться на постыдный мир; но скорее эта рука отсохнет, чем подпишет какой нибудь акт, унизительный для моего отечества. Лучше пусть сорвут с меня или раздробят на голове моей эту корону, которую носил Густав-Адольф, – потому что если я не могу носить ее с равною ему славою, то хочу, по крайней мере, оставить ее преемникам моим незапятнанною». За тем он распустил собрание, приказав дворянам совещаться о способах вознаграждения великого маршала, который принес жалобу, что он обижен.
Негодование и упрямство дворян возрастало тем сильнее, чем более прочие сословия оказывали привязанности к королю. Граждане и крестьяне послали к королю депутацию, прося его употребить все возможные меры, чтобы принудить сейм к решительным действиям: этого только и добивался Густав. Тогда, уверенный, что большинство за него, он велел захватить тридцать главнейших ораторов из дворян и заключить их в Фридрихсгоф. В тоже время забрали командующих и офицеров финской армии, которые были в сношениях с Россиею, и отдали их под военный суд. Пользуясь, для усиления своей власти, этим успешным оборотом дел, король составил, вместе с тремя преданными сословиями, новый конституционный акт, который он назвал: актом союза и безопасности. Целью его было утвердить королевскую власть, ослабить дворянство уничтожением большей части его привилегий и утверждением в монархии демократического равенства, чтобы предотвратить новое усиление анархии. Одно место его речи достаточно объяснить мысли его: «Народ совершенно свободный, – говорил он, – рожденный в одной и той же стране, возделывающий одну землю, признающий одного Бога, не должен быть разделен во мнениях относительно прав, которых все граждане безразлично могут требовать себе». Первая статья этого акта признавала власть короля наследственною, с правом охранять государство, начинать войну, утверждать мир, заключать договоры, назначать должностных лиц и миловать виновных. Вторая статья допускала горожан в высший трибунал короля. Третья дозволяла низшим классам приобретать дворянские земли, потому что, по словам этой статьи, «равенство должно возвышать, а не унижать шведов; свободная нация должна пользоваться равенством прав». Четвертая статья предписывала придворную службу одному рыцарскому сословию. Пятая и шестая статьи оставляли чинам право обсуждения военных издержек и королевских предложений. Прочие статьи подтверждали все положения 1772 года, которые не были противны новому постановлению. Акт этот отдан был на рассмотрение сейма. Одни только дворяне отказались принять его. После трехнедельных, оживленных совещаний и тридцати-трех речей за и против, дворяне единодушно отвергли предложенный им акт. Для окончания спора король объявил маршалу сейма графу Левенгаупту, что он не только может, но должен от имени сейма и своего сословия подписать конституционный акт, принятый большинством голосов. Дворянство протестовало и даже прибегло к покровительству прусского короля, чтобы через его посредство вынудить некоторые уступки в свою пользу.
Наконец король решился на крайнее средство: 27 апреля 1788 года, он, без свиты и без гвардии, явился среди дворянского собрания. Его неожиданное появление смутило самых дерзких членов. Прочие были увлечены трогательною и смелою речью Густава о трудности положения и опасностях, которым подвергается Швеция. Наконец дворяне уступили: они подписали свое согласие на постановление, утвержденное представителями прочих сословий. Король возвратился во дворец среди радостных кликов народа. В тот же день обнародовано было о решении собрания, утверждении конституционного акта, закрытии сейма и освобождении государственных преступников. Армия последовала общему настроению, возвратилась к своему долгу, утвердила клятвою акт союза и безопасности, и снова вся Швеция требовала войны с Россиею. Эта искусная победа Густава над возмущением и также, к несчастью, над основными установлениями и народной свободой, немедленно дала ему средства вести войну и окончить ее с честью. Но недовольство дворян не угомонилось после их уступки, и роковой удар, прекративший дни шведского короля, служил впоследствии убедительным доказательством, до какой силы может дойти ненависть олигархии, долгое время приниженной. Между тем, этот же самый Густав, у себя противник аристократических преимуществ, впоследствии, незадолго до своей трагической кончины, следуя воинственному настроению Екатерины, хотел стать во главе французской аристократической эмиграции, чтобы разрушить монархическо-демократическую конституцию 1791 г.
Не трудно понять, до какой степени императрица негодовала на Англию и Пруссию за то, что они освободили короля из того опасного положения, в которое его поставили датчане, что они дали ему средства покорить сейм, привести возмутившееся войско к повиновению и продолжать войну. В это время мы могли получить от государыни все, чего хотели, лишь бы сладился союз между четырьмя державами. Я воспользовался этим случаем и повторил свое предложение войти в сношения с турками и условиться с ними о перемирии. Согласились на все, и императрица, объявив, что не желает никаких посредников, кроме нас и Испании, приказала вице-канцлеру Остерману войти в переговоры с Шуазелем. Ему поручено было прежде всего настаивать на освобождении Булгакова и уполномочить французского посла выхлопотать у Порты шестимесячную остановку военных действий. В тоже время императрица объявила, что князь Потемкин принимает начальство над обеими южными армиями и отправится на юг с полномочием вести переговоры о мире. Фельдмаршал Румянцев, утомленный неприятностями, которым подвергался, выпросил себе отставку[129]129
Румянцев уволен и отпущен был на воды 26 апреля 1769 года.
[Закрыть].
Едва исполнив с таким успехом желание моего двора относительно мира и посредничества, я получил ожидаемые мною окончательные инструкции: они были от 19 марта 1789 года. «Король, – писал мне Монморен, – видя, что испанский двор не хочет приступить к союзу и ограничивается сохранением договоров, которые обязывают его, в случае войны, помогать нам против англичан, изменил свои мнения о положении европейских дел. Его величество полагает, что связь с Россиею может поссорить нас с Турциею, если только это дело не останется в тайне, но в таком случае оно не достигнет своей цели, не ослабит связи Англии с Пруссиею. Прежде всего мы должны действовать, как посредники, и ускорить мир; когда заключится мир, четвертной союз уже не будет нужен. Король не охотно гарантирует целость Польши, страны, на которую уже давно не имеет никакого влияния, это значило бы без нужды подвергаться случайностям отдаленной войны. К тому же, готовятся к созванию генеральных штатов с целью соразмерить расходы с доходами государства. Только достигнув этого, король может с уверенностью исполнить прежние свои обязательства и не решается налагать на себя новых. Хотя он и может рассчитывать на преданность своих подданных и на громадность средств государства, однако он считает неблагоразумным пугать умы возможностью значительной войны. Франция, успокоившись, укрепится, усилится и будет тогда полезною союзницею: вот причины, по которым она удерживается теперь от союза. Его величество надеется, что императрица оценит основательность этих доводов и откровенность отношений. Впрочем король не отказывает постановить основания союзного акта, только без окончательного утверждения пунктов до того времени, когда препятствия, здесь указанные, будут устранены. Это может произойти тогда, когда императорские дворы помирятся с Портою, и когда внутренние дела Франции уладятся, то есть по закрытии генеральных штатов».
Таковы были в сущности наставления, так долго ожидаемые, и которые я должен был сообщить русскому правительству. Монморен присоединил к ним проект трактата, им сочиненный, и в письме, писанном ко мне собственноручно, извещал меня, что совет единогласно признал пользу союза, но что осторожность короля удерживала его подписать такой договор с Россиею, пока она будет в войне с Турциею.
Я в точности последовал этим новым наставлениям и, как умел, старался рассеять недовольство, которое произвела эта перемена в русских министрах. Я не скрывал от Монморена, что мое положение делалось скользким и трудным. «Как поддержать доверие к нам, – писал я ему, – когда мы признаемся в собственном бессилии? Каким образом представить союз с нами нужным, когда мы отлагаем его до заключения мира с турками, то есть до того времени, когда императрица не будет нуждаться в нашей помощи? Каким образом воспрепятствовать сближению России с Англиею, которая, будучи полезною в дружбе и опасною во вражде, обещает ей, в случае соглашения, самый выгодный мир? Наконец я должен, чтобы снять с себя ответственность, выставить на усмотрение его величества важное обстоятельство; если я успею (хотя и считаю это невозможным) заключить когда нибудь предположенный договор с императрицею, то, так как положение дел тогда изменится, императрица никак не захочет, на случай нашей войны с англичанами, закрыть от них русские порты в нашу пользу; а ведь это главная выгода, которой я ожидал от этого союза. Русские министры, как я и ожидал, горько жалуются; они попрекают нас торговым трактатом; ему приписывают они все затруднения, которые делают им теперь Англия и Пруссия. Очевидно, что система их должна измениться. Императрица уже стала гораздо благосклоннее к Витворту, английскому министру».
«Я достиг в России, – писал я еще Монморену, – всего того, что король поручил мне выхлопотать в течении этих пяти лет: доверия русского правительства, торгового трактата, влияния, сближения, принятия посредничества. Граф Остерман предоставил Шуазелю все заботы о примирении. Наши внутренние смуты ослабляют наши средства: однако двор наш пользуется здесь должным доверием и почетом. Я удвою свои старания, чтобы сохранить это положение, но если дела переменятся, то я надеюсь, что король будет добр, и совет так благосклонен, что припишут это обороту обстоятельств, которых я не в силах изменить».
В первых числах мая курьер из Вены привез императрице депеши, которые сильно ее обеспокоили: ее извещали, что император Иосиф при смерти. Государыня так встревожилась, что занемогла. Другой курьер успокоил ее известием, что он покуда вышел из опасности. В то время Екатерина II со всех сторон окружена была неудачами, шведский флот высвободился из блокады при попутном ветре. Король, освободившись от датчан, сломивши и своих противников, снова стоял во главе покорного войска, желавшего победами искупить свое восстание. Шуазель, которого положение делалось час от часу затруднительнее, писал мне, что англичане и пруссаки готовятся заключить с Портою договор, по которому эти три державы обязуются поддерживать Польшу в ее намерениях освободиться от русского влияния. В тоже время они уговаривали императрицу отстать от императора и Франции и поручить им соглашение о мире. С этим условием они обещали России выхлопотать уступку ей Очакова и заставить шведского короля положить оружие. Императрица была слишком горда, чтобы согласиться на условия, почти вынужденные у ней, а не предложенные ею, и которые заставят ее изменить своему старому союзнику. Но казалось возможным, что она, не находя опоры ни в нас, ни в Испании и покинув Польшу, вместе с императором склонится на сторону противников. Ведь в политике всегда почти ссоры между сильными кончаются невыгодно для слабых.
Я видел тогда очаковского пашу, привезенного в Петербург; это был весьма порядочный турок, потому что обращением своим и речами обличал некоторый ум и рассудительность. Я спросил его: не боится ли он после войны возвратиться на родину? «Ведь ваше правительство строго, – сказал я, – оно, как говорят, наказывает за неудачу, как за преступление, и вы сами не избегнете его кары, хотя ваша храбрость и упорная защита заслужили вам уважение врагов ваших».
«Вы недостаточно знакомы с нашими обычаями, – отвечал он мне; – у нас начальники крепостей отвечают в случае добровольной сдачи, но не в случае плена. Меня взяли после осады, и не в чем упрекнуть меня. Но если бы я хоть десять лет защищал подвластный мне город и потом сдал бы его на капитуляцию, мне отрубили бы голову».
«Как, и вы в этом случае сами пошли бы на неправедную казнь?» – спросил я.
«Что же делать, – возразил паша; – нельзя избежать судьбы своей, и каждый должен покоряться велениям Аллаха. Стараться обойти их – и безумно, и преступно».
Разумеется, что это фанатизм, доведенный до крайности.








