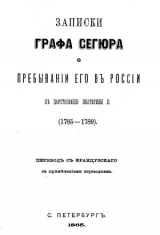
Текст книги "Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. 1785-1789"
Автор книги: Людовик-Филипп де Сегюр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 21 страниц)
вашего величества
и проч».
Густав раздражен был неудачею, но и государыня не совсем довольна была своею победою. Она говорила, что не сделай промахов Мусин-Пушкин, король шведский, разбитый на море, не мог бы уйти от принца Нассау. Она передала мне свое мнение и упрекала меня также по поводу действий нашего кабинета, будто-бы подстрекавшего Англию не допускать победы над шведским королем. Я уверял ее, что это басня, так как мы очень хорошо знаем, что она желает только скорого мира и умеренного удовлетворения.
«Это так; но все этому верят, – возразила она; – впрочем подумайте о том, что если вы хотите угодить двум противным сторонам, то наконец попадетесь в руки врагов в будете оставлены друзьями».
Государыня говорила мне также об отказе Булгакова принять наше посредничество при своем освобождении. «Если это правда, – прибавила она, – то я не оправдываю его, но если ему предлагали бегство, я его не осуждаю».
Тогда же курьер от князя Потемкина рассеял беспокойство государыни на счет исхода компании. Он известил ее, что Суворов и принц Кобургский сразились с визирем и разбили его на голову. У турок захвачен был лагерь и пятьдесят знамен и восемьдесят пушек; шесть тысяч турок легло на поле битвы. Генерал-майор де-Рибас отбил у турок укрепление Гаджибей[133]133
Гаджибей, где ныне Одесса, взят 14 сентября. Осип Михайлович де-Рибас, впоследствии адмирал ум. в 1800 г.
[Закрыть]. С другой стороны известилось, что капитан-паша, разбитый и преследуемый Репниным, заперся в Измаиле. Между тем Потемкин и Ангальт разбили беглер-бея румелийского и положили на месте шестьсот турок. Почти в тоже время Австрийцы осадили Белград и вскоре взяли его; но об этом я уже узнал по выезде моем из России.
Князь де-Линь, отличившийся в эту компанию, прислал мне два письма, которые я передаю здесь в отрывках. В них видев его веселый и оригинальный ум.
Первое письмо князя де-Линя.
Главная квартира моя под Землиным.
1 июня, 1789 года.
Я мог бы писать вам зимою о том, чего вы не знали и что узнали после; но я пишу с удовольствием только тогда, когда я могу получить ответ тотчас же. В Париже я никогда не писал писем за Сену. Так, плавая с вами по Борисфену, отделенный от вас легкой перегородкой, обтянутою тафтою, в одной из великолепных галер этого торжественного и волшебного поезда, я, бывало, только несколько минут дожидался вашего утреннего послания. Нечто в роде перемирия или, лучше сказать, роздых, установленный из взаимной вежливости, дает мне время угощать турок в моей палатке (тоже турецкой) концертами на берегу Дуная; весь гарнизон белградский слушает их с другого берега. Как тот испанский король, который заставлял Фаринелли петь ежедневно одну и ту же арию, я каждый вечер приказываю играть Cosa rara, которая таким образом делается вещью весьма обыкновенною. Красивые еврейки, армянки, иллирийки и сербянки присутствуют при этом; это высшее дворянство Землина. Если какой нибудь турок забредет за нашу черту, я его наказываю, и Осман-паша меня благодарит и говорит, что не может добиться послушания себе. Так как мне веселее дразнить его, чем писать письма с извинениями, то на днях, по случаю празднования победы в Баннате, я зарядил ядрами все наши пушки, чтобы отмстить за убитого часового. Штука удалась, и восемь зевак убито было под крепостными стенами. Паше должно быть, это показалось весьма естественным. Я полагал что он рассердится. Я не жалуюсь на ружейные выстрелы которые весело раздаются иногда, когда я гуляю. Но один полковник на наших аванпостах под Панчовым, в сердцах за то, что также поступили с одним капитаном корпуса Бранаковского, стал жаловаться аге Мустафе, и последний отвечал ему следующими словами: «Кланяюсь тебе, сосед Тершичь. Ты говоришь, что у нас перемирие: я этого не понимаю; ты мне пишешь о белградском паше: я не хочу зависеть от него; ты предлагаешь мне свои услуги в случае нужды: узнай же, что высокая Порта ничего мне не отказывает, и что мне нужно только испить твоей крови; ты говоришь, что я могу положиться на тебя: знай же, что в нынешние времена не должно ни на кого полагаться. Прощай, сосед Тершичь». Вот ответ, который я послал от имени соседа Тершича: «Кланяюсь тебе, сосед Мустафа. Видно, что письмо твое писал турок; я очень рад тому, ибо думал, что уж их нет больше. Ты хочешь испить моей крови? я твоей не желаю; что хорошего в крови какого нибудь аги? Делай, что можешь, приходи, когда хочешь; я приказал своим привести тебя пленником при первом случае. Мне очень хочется увидеть тебя. Прощай, ага Мустафа».
Прощайте, милый Сегюр. Иду осматривать десять славных, длинных батальонов, которые мне прислали в подкрепление из Австрии. Хоть бы скорее пришлось пустить их в дело».
Второе письмо князя де-Линя.
Белград, 18 сентября, 1789 г.
Вот мы и на краю востока, куда мы растворили ворота не розовыми перстами, как Аврора, но огненною десницею. Смелость и скорость переправы через Саву, быстрота марша и вступление в ту линию, до которой доходил принц Евгений, отважная рекогносцировка до самых палисадов, все это совершено в какие нибудь пятнадцать дней и, право, достойно лучших подвигов фельдмаршала Лаудона. Он кружил наши головы и сбивал турецкие; я сбивал только пушки неприятельские. Он атаковал Белград с правого берега Савы, а я с левого, где я был орлом этого Юпитера и метал его стрелы. Падение крепости было подготовлено взятием города, благодаря блистательной, умной, неутомимой храбрости графа Брауна, достойного племянника графа Ласси. Во время этого чудного, смелого подвига я сделал диверсию на Дунае с моею флотилиею и потом, чтобы вознаградить потерю нескольких дней и многих людей при атаке закрытого хода, я усилил огонь батарей и построил новую под самою крепостью, которая тотчас же и сдалась. С живейшим удовольствием воина и с унынием философа смотрел я, как взлетели на воздух двенадцать тысяч бомб, пущенных в этих несчастных неверных. Я слышал крики ужаса; голос раневых был заглушаем огнем и смертию. Но оставим эти ужасы. Я довольно долго говорил с драгунским полковником: теперь обращаюсь в великому жрецу в храме мира. Какой повод к размышлению! Только что слово капитуляция было произнесено, как десять тысяч побежденных смешались с таким же числом победителей. Жестокость уступила перед добротой, ярость перед жалостью, военная хитрость перед искренностью и необузданность страсти перед нежностью сердца. Пили кофе, продавали, покупали. Турок, честный в торговле, назначал цену, отдавал свои сокровища, скрытые в подвалах, занимался своим делом и преспокойно получал деньги, когда ему удавалось находить покупателя. Бессознательные философы богачи курили себе на развалинах своих домов и богатств. Осман-паша, глупый губернатор Белграда, покуривал среди двора своего, торжественно его окружавшего, как будто он не перестал повелевать, и как будто он не ожидал, что какой нибудь капиджи-баши спросит у него от имени султана Селима то, чего уж у него не было, то есть голову его, которую он потерял еще при первом нашем выстреле. Взор услаждался и душа радовалась, глядя на янычар, красивых и разнообразных пестротою и богатством одежды, на наши гренадерские шапки и их тюрбаны, на наших кирасир и их спагов, не убитых, хотя и побежденных, на их чудное оружие, их коней, гордых, как они, их твердость и высокомерие, не смотря на несчастье, и на берега Дуная и Савы, оживленные этими животными лицами. Фельдмаршал просил для меня командорский крест военного ордена Марии-Терезии, император уже прислал мне его. Говорят, что довольны были быстротою моих действий и в особенности моею последнею батареею, которая решила сдачу крепости. Я бы писал вам во время осады, но я боялся, чтобы писание мое не было посмертным, и не хотел передавать вам, что происходило в голове моей, не уверясь прежде, что мне ее оставят на плечах. Прощайте, ной сердечный друг».
Этот пестрый слог, эта милая смесь ума и остроты, философии и легкомыслия, человеколюбия и военного пыла, может быть, найдут порицателей между некоторыми недовольными и строгими людьми, которые своею критикою губят всякое очарование и забывают умный совет одного из древних мудрецов, утверждавшего, что философия должна приносить жертвы грациям. Успехи просвещения и свободы, конечно, распространили область разума человеческого; но среди успехов не утратилось ли кое что хорошее? Я не из числа упрямых защитников доброго старого и невозвратного времени, но не могу не пожалеть об утрате вкуса, изящества, беспечности и светскости, с которыми скука в обществе была невозможна. Нынче люди похожи на строгого хозяина, думающего только о пользе, который выбросил из своего сада цветы, чтобы в нем росла только рожь, да травы, да плодовые деревья.
Сентябрь приходил к концу. Компании на севере и на юге почти были окончены. Ясно было, что шведский король, желая оправиться после удара, ему нанесенного, и надеясь на поддержку Пруссии, не склонится к миру. Через Шуазеля я знал, что султан Селим, не внимая мирным предложениям, доверялся только враждебным советам Англии и Пруссии. Таким образом, достигнув в России всего, чего только мог желать, то есть торгового трактата, принятия нашего посредничества и обещания войти в союз четырех держав, как только наше правительство объявит свое решение, я окончил роль свою в Петербурге, мне оставалось только наблюдать за ходом дел, а это мог делать простой поверенный. Уж месяц перед тем я просил себе у Монморена отпуск. Он был необходим для меня, потому что я страдал грудью, и лишняя зима в этом климате могла сделать болезнь опасною. При том я пять лет не был на родине, а в ней бушевала буря. В таком значительном отдалении получаешь такие недостаточные известия, такие преувеличенные рассказы. Беспрестанно говорили, что Франция залита потоками крови, что замки разграблены, что дух партий возбудил междоусобия, что даже Париж и Версаль стали местом буйных, иногда кровавых сшибок. Мне сообщали, что 4-го августа дворянство, под влиянием ли увлечения и очарования, или из страха подвергнуться неистовству исступленной черни, предавшейся уже страшным буйствам близ ратуши, принесло в жертву народу свои старинные права и преимущества. Вскоре после того, по предложению Дюпора, сводя свои уступки к одному короткому решению, дворянство произнесло немногие, но торжественные слова, откликнувшиеся во всем мире: «Феодальные права уничтожены!» На происшествия 14 июля можно было смотреть, как на временное восстание; но в 4 августе высказалась целая революция. Новый общественный порядок устраивался на развалинах старого. Сколько споров, столкновений, смут возникало из этого внезапного торжества над гордой, старинной аристократиею! После такого удара, пошатнувшего самые основания наших прежних учреждений, все общественные установления разъединились, и все здание потребовало перестройки. Дух века, просвещение, самый разум, может быть, требовали этого; но страсти противились и, по всем вероятиям, должны были обратиться к Европе искать поддержки, союзников и оружия. Все эти мысли сильно и мятежно волновали мою душу. Воображение мое и надежды возбуждались рвением к свободе, той свободе, которую я полюбил в примерах и уроках древности, которую я так давно видел с завистью в Англии и за которую дрался в Америке. Не могу передать впечатления, с которым читал я некоторые отрывки из речей, произнесенных в первых наших собраниях Клермон-Тонерром, Лалли-Толендалем, Мирабо, Мувье и другими, которые в первый раз заговорили с французской трибуны. Но с другой стороны, сколько грустных мыслей примешивалось к этим приятным заблуждениям! Скорбь доброго короля и оклеветанной королевы, моя преданность им, неизвестность об участи моего семейства среди неистовств шумной толпы, которая уже замарала кровью колыбель свободы, наконец противоречивые изображения этих смут разными партиями, смотрящими на них с различных сторон, все это делало несносным продление уж и без того долгого отсутствия моего из родины, и я с невыразимою радостью получил позволение выехать и возвратиться домой.
Я так хорошо был принят в России, со мною так отлично обращались, что, при других обстоятельствах, я бы жалел об отъезде. Но тогда я мог только скрыть чувство моего удовольствия в ожидании увидеть отечество и семью. Сборы мои были недолги. Я представил министру моего поверенного в делах, г. Жене (Genet); написал и оставил ему инструкцию, в которой направлял его образ действия и облегчал труд его; наконец простился с императрицею, и конечно, это расставание меня бы глубоко опечалило, если бы я прощался с нею навсегда; но я уезжал в отпуск, и надеялся возвратиться к ней через несколько месяцев. Она выразила мне сожаление о моем отъезде и много говорила со мною о французских делах. «Передайте королю, – сказала она между прочим, – что я желаю ему счастия. Я желаю, чтобы доброта его была вознаграждена, чтобы намерения его исполнились, чтобы прекратилось зло, которое его печалит, и чтобы Франция снова возвратила себе тишину, силу и влияние. Я надеюсь, что это будет в мою пользу и не к добру врагам моим. Грустно мне расставаться с вами. Лучше бы вы остались со мною, чем подвергаться опасностям, которые примут, может быть, размеры, каких вы и не ожидаете. Ваше расположение к новой философии и к свободе заставит вас держать сторону народа; мне это будет досадно, потому что я останусь аристократкой, это уж мой долг; подумайте-ка; вы найдете Францию больную, в лихорадке».
«Точно, я этого боюсь, государыня; но поэтому-то и обязан возвратиться туда».
Она меня удержала к обеду, осыпала знаками своего расположения и тем еще усилила мои сожаления при расставании. Я поспешил уехать и проститься еще с несколькими лицами, которые в течении пяти лет обращались со мною не как с иностранцем, а как с одноплеменником и другом.
11-го октября я выехал из Петербурга в Гатчину, чтобы проститься с великим князем и великою княгинею. Я думал пробыть там час, но так как карета моя сломалась, то их высочества уговорили меня остаться у них два дня.
Великий князь в первую пору пребывания моего в России оказал мне, как я уже упомянул, такое расположение, что это походило на очарование моею особою. Это продолжалось недолго: он охладел ко мне, когда увидел, что государыня стала ко мне добра и любезна. Давно уже не изъявлял он никакого желания сойтись со мною; но перед моим отъездом ему снова вздумалось оказать мне свое доверие. Несколько часов он почти исключительно говорил мне о своих неудовольствиях с государынею и Потемкиным, о неприятностях его положения. Напрасно я уверял его, что предубеждение обманывает его, что мать его, нисколько не опасаясь его, дозволяет ему держать свой двор по его усмотрению и иметь близ себя, недалеко от Царского Села, два батальона, в которых офицеры назначены им самим, которых он учил, вооружал и одевал по своей воле, между тем как она, нисколько не опасаясь за себя, охраняется одной только гвардейскою ротою. «Если государыня, – продолжал я, – не приглашает вас в свой совет и не дает вам участия в делах, то позвольте мне заметить, что в этом случае ей трудно действовать иначе: она знает, что вы осуждаете ее образ жизни, связи, систему управления и политику».
Я не убедил его; осуждая министров и особ, приближенных к государыне, он старался доказать мне, что, не смотря на мое пятилетнее пребывание в России, я ее очень мало узнал.
«Объясните мне наконец, – сказал он между прочим,– отчего в других европейских монархиях государи спокойно восходят на престол один вслед за другим, а в России иначе?..»
«Причину этих неустройств, – отвечал я, – указать нетрудно, и вероятно, она не ускользнула от вашего внимания. Повсюду наследственность престола в мужском поколении служит охраной народу и обеспечением государям. В этом основная разница между монархиями азиатскими, римскими, греческими, варварскими и монархиями новыми; может быть, мы обязаны успехами образованности этой твердости престолов. Здесь же, напротив, в этом отношении ничего не установлено, все сомнительно, государь избирает себе наследника по своей воле, а это служит источником постоянных замыслов честолюбия, козней и заговоров».
«Согласен, – возразил он, – но что же делать? Здесь к этому привыкли, обычай господствует. Изменить это можно только с опасностью для того, кто это предпримет. Русские лучше любят видеть на престоле юбку, нежели мундир…»
«Однако я полагаю, ваше высочество, – сказал я на это, – что такая перемена к лучшему могла бы совершиться в какую нибудь заметную пору нового царствования, например, по случаю торжественного въезда или коронации, когда народ расположен к надежде, радости, доверию».
«Да, я понимаю, – сказал он, целуясь со мною, – это можно бы испытать; надо подумать!»
И не могу нахвалиться ласковым приемом, который мне оказала великая княгиня. Довольно было знать ее, чтобы, видя и слушая ее, почувствовать живейшее очарование и глубокое уважение к ней. Я простился с их высочествами, отправился в путь и, желая как можно более сократить его, не останавливался ни днем, ни ночью до самой Варшавы.








