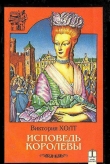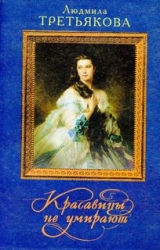
Текст книги "Красавицы не умирают"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Мари, в отчаянии от пустоты и безмолвия, окружавших ее, написала письмо де Перрего. Она просила простить ее за принесенные страдания и не дать ей умереть одной: «Молю вас на коленях...», «скорее – прощение».
Спальня Мари напоминала уже не алтарь любви, а часовню. Здесь появились две золоченые фигуры Богоматери.
Мари знала, что умрет на этой кровати. Она уже давно не выходила из дома, и сил хватало лишь на то, чтобы по вечерам добираться до высокого окна и смотреть, как мимо проходит оживленная толпа мужчин и женщин, уверенных, что и завтра, и послезавтра для них будет сиять солнце.
Печальной подробностью ее смерти были веселые звуки карнавала, под них она и отошла в небытие. В это время, за несколько дней до Масленицы, Париж пел и танцевал.
Де Перрего все же пришел к своей несчастной подруге и этим скрасил ее последние земные мгновенья. Мари поняла, что он простил ее и что никогда не переставал любить. Она была благодарна ему за это и попрощалась с ним.
«Три дня, чувствуя, что летит вниз, в пропасть, ожидающую нас всех, она ни на минуту не выпускала руки своей служанки, будто та могла удержать ее. И только когда ангел смерти пришел за ней, она отпустила ее руку. В последнем порыве молодости, испытывая ужас при мысли о небытии, она поднялась на ноги, словно хотела убежать, затем три раза простонала и затихла навсегда».
Так описал смерть Мари Дюплесси поэт Теофиль Готье. «Даме с камелиями» было двадцать три года...
Ирвинг Уоллес писал:
«Она лежала в гробу, усыпанная камелиями. Среди тех, кто провожал ее в последний путь на кладбище Монмартра, был старый русский граф, с двух сторон поддерживаемый слугой и сестрой Мари Дельфиной Паке».
* * *
Когда Александр Дюма вернулся в Париж, Мари уже похоронили. Стараясь унять тоску, он бродил по тем самым улицам, по которым в дни былого счастья он проезжал с Мари в ее знаменитом экипаже. И вдруг он заметил: по всему городу были развешаны оповещения о том, что 12 марта 1847 года по такому-то адресу состоится аукцион по распродаже вещей.
Дюма слишком хорошо знал этот адрес. С бьющимся сердцем пришел он в знакомый дом на бульваре Мадлен и ходил по комнатам, где ничего не изменилось с той минуты, когда хозяйка навсегда покинула их.
Те самые люди, у которых хватило беспечности не навестить умирающую, с редким единодушием явились на аукцион. Здесь вообще было много любопытствующего народа. Пришли все столичные знаменитости, пришли даже те, кто никогда не допустил бы для себя личного знакомства с падшей женщиной.
Один из тех, кто поклонялся «даме с камелиями», оставил заметки «о возбужденной толпе, вторгнувшейся в пристанище сладострастного порока и бесконечной печали. Каждая вещь, принадлежавшая Мари, обрела статус сокровища. «Я слышал, – писал он, – как самые знатные дамы и самые искусные кокотки удивлялись изощренности и изысканности всех ее туалетных принадлежностей. Ее гребень был продан за сумасшедшую цену; ее головная щетка была продана чуть ли не на вес золота. Продавались даже ее поношенные перчатки, настолько была хороша ее рука. Продавались ее поношенные ботинки, и порядочные женщины спорили между собой, кому носить этот башмачок Золушки. Все было продано, даже ее старая шаль, которой было три года; даже ее пестрый попугай... продали ее портреты, продали ее любовные записочки, продали ее лошадей – все было продано, и ее родственники, которые отворачивались от нее, когда она проезжала в своей карете с гербами, на прекрасных английских скакунах, с торжеством завладели всем золотом, которое очистилось от этой продажи».
За все было выручено около девяноста тысяч франков. Часть этой суммы пошла кредиторам. Остальное вручили единственной наследнице Мари Дюплесси – ее сестре Дельфине, приехавшей ради такого случая из деревни.
Говорили, что на эти деньги она купила имение в Нормандии. Быть может, именно то, которое некогда пленило своей тихой прелестью маленькую Альфонсину и название которого она сделала своей фамилией.
* * *
На аукционе молодой Дюма купил книгу «Манон Леско», принадлежавшую его любовнице. Но самое ценное, что оставила ему Мари, хранилось в его душе.
Это был мучительный дар. С безнадежным отчаянием, запоздало и отчетливо Александр только теперь ощутил свою потерю. Его боль вылилась в прекрасном стихотворении, но оно не облегчило душу.
Расстался с вами я, а почему – не знаю,
Ничтожным повод был: казалось мне, любовь
К другому скрыли вы... О суета земная!
Зачем уехал я? Зачем вернулся вновь?
Потом я вам писал о скором возвращенье,
О том, что к вам приду и буду умолять,
Чтоб даровали вы мне милость и прощенье.
Я так надеялся увидеть вас опять!
И вот примчался к вам. Что вижу я, о Боже!
Закрытое окно и запертую дверь.
Сказали люди мне: в могиле черви гложут
Ту, что я так любил, ту, что мертва теперь.
Александр чувствовал, что ему надо выговориться и тем самым облегчить душу, снять с нее давящий груз тоски и скорби. Дружескому уху Дюма предпочел бумагу. Он поверял ей историю своей любви.
Разумеется, законы жанра и собственная фантазия романиста диктовали то, чего не случилось в реальности. Как многие из нас идеализируют прошлое, утерянное навсегда, так и Дюма идеализировал свои отношения с той, которая в романе звалась Маргаритой Готье. Он сочинил новые сюжетные линии и персонажи. Для чего? Александру хотелось как можно лучше показать то, что угадывалось в чистой и благородной натуре Мари. Жажду встретить человека, который полюбил бы ее от всего сердца. Способность к самопожертвованию, незащищенность и обреченность женщины, которой отказано в семейном очаге и в честном имени.
Дюма пишет: «Бедные создания! Если нельзя их любить, то можно пожалеть... Гюго написал Марион Делорм, Мюссе – Бернеретту, Александр Дюма – Фернанду, мыслители и поэты всех времен приносили куртизанкам дары своего сострадания, а иногда какой-нибудь великий человек реабилитировал их своей любовью и даже своим именем... Я так настаиваю на этом потому, что среди тех, кто будет меня читать, многие, может быть, уже готовы бросить мою книгу, так как боятся найти в ней апологию порока и проституции... Пусть те, кто так думают, осознают свою ошибку...
Небо больше радуется одному раскаявшемуся грешнику, чем ста проповедникам, которые никогда не грешили».
Дюма проходит под именем Армана Дюваля все круги ада... Тот, не видевший свою подругу мертвой, хочет раскопать могилу Маргариты Готье, взглянуть в ее прекрасное лицо в последний раз. Свое намерение он осуществляет. О, ужас! «Большой белый саван покрывал труп, обрисовывая его линии. Саван был почти совершенно изъеден в одном конце и обнажал ногу покойницы...
Тогда один из могильщиков, протянув руку, начал развертывать саван и, взяв его за конец, внезапно открыл лицо Маргариты.
Было ужасно смотреть, но ужасно и рассказывать. Вместо глаз были две впадины, губы провалились, и белые зубы тесно сжались. Длинные сухие черные волосы прилипли к вискам и немного прикрывали зеленые впадины щек, а между тем я узнавал в этом лице белое, розовое, веселое лицо, которое я так часто видел».
Не выдержав этого зрелища, Арман впадает в беспамятство. Но именно оно спасает его от сумасшествия...
Несомненно, мысль увидеть мертвую Мари владела и самим Дюма. По счастью, он уберегся от выполнения этого страшного замысла. Но на могилу возлюбленной он пришел, словно прося у нее, умолкнувшей навсегда, сочувствия и помощи...
Роман «Дама с камелиями», написанный за четыре недели, вышел в свет в 1848 году. Понятно, что сама история и та искренность, с которой она была рассказана, не могли не тронуть сердца. И те женщины, чья судьба напоминала судьбу Маргариты Готье, и вполне благопристойные были растроганы этими исповедальными страницами. Возлюбленный Мари Дюплесси отважно и блистательно выступил адвокатом «падших». Это был гимн во славу истинной любви – всепрощающей, бескорыстной и самоотверженной.
Современник Дюма писал: «До появления «Дамы с камелиями» девицы легкого поведения были отверженными, париями... Ни одно произведение не оказало такого влияния на людей, заставляя одних искупать свои грехи, других – прощать...» Интерес к «Даме с камелиями», те чувства и эмоции, которые он вызвал, заставили Дюма перенести роман на сцену. Он переделал его в пьесу.
...Началась полоса невезений. Дюма-отец отказался помочь сыну поставить «Даму с камелиями» в театре, где имел большой вес. Александр упорно искал сценическое пристанище своему роману. Наконец, когда все было слажено, буквально накануне премьеры театр, принявший пьесу, прогорел. То же самое случилось и во второй раз.
Позже Дюма вспоминал, как пошел на кладбище, чтобы рассказать Мари о своих горестях. Сидя возле ее могилы, он, под влиянием нахлынувших воспоминаний, измученный душевным одиночеством и безденежьем – роман, несмотря на свой успех, не принес ему ничего, – горько плакал. Его двадцатишестилетняя жизнь казалась скопищем неудач и утрат.
В следующем 1852 году он плакал уже слезами радости после триумфальной премьеры «Дамы с камелиями» в том самом театре «Варьете», где они так часто бывали вместе с Мари.
...Зал неистовствовал, рукоплескал, и зрители не стеснялись слез. Так Париж и «Дорогой Аде» отмечали пятую годовщину со дня смерти «дамы с камелиями». Две даты – премьеры спектакля и последнего земного дня Мари Дюплесси – почти совпали.
В зале сидел Джузеппе Верди. Он был потрясен. Решение написать оперу на этот сюжет созрело сразу. Мир ожидала скорая встреча с блистательной «Травиатой»...
* * *
В феврале 1997 года на парижском кладбище Монмартр я нашла могилу «дамы с камелиями». Мне почему-то казалось, что она будет заброшенной и сиротливой. Если официальные власти берут на себя заботу об уходе за последним пристанищем великих людей, то кому какое дело до таких «частностей», как некая Альфонсина Плесси?
...В тот день стояла та самая погода, к которой так непривычны парижане. Сверху сыпала мелкая мокрая пыль, на улицах сквозило, как на заброшенном чердаке с выбитым окном. Прохожие шли, уткнув носы в шарфы, и, ясное дело, торопились поскорее укрыться под теплой крышей.
Я смотрела на небольшой памятник из белого мрамора.
Здесь покоится Альфонсина Плесси. Родилась 15 января 1824 года. Скончалась 3 февраля 1847 года.
...Париж, когда его навещаешь нечасто и ненадолго, отнимает чувство времени. Да, на дворе стоит февраль. Я начала вспоминать, какое нынче число. Пятое! Стало быть, я оказалась на могиле Альфонсины ровно через сто пятьдесят лет после ее кончины и точно день в день ее похорон.
Андре Моруа в книге «Три Дюма» пишет: «5 февраля 1847 года толпа любопытных следовала за погребальным катафалком, украшенным белыми венками. За дрогами, обнажив головы, шли лишь двое из прежних друзей Мари Дюплесси: Эдуард Перрего и Эдуард Делессер». Видимо, основываясь на воспоминаниях, Моруа замечает, что в день похорон «низко нависшее небо было темным и мрачным». К полудню пошел дождь.
Все совпадало. И даже погода.
Памятник Александру Дюма, человеку, обессмертившему Альфонсину, которая ответила ему тем же, находится неподалеку. Говорили, что, когда знаменитого автора хоронили в 1895 году, участники траурной церемонии предлагали отнести белые цветы с его гроба на могилу «дамы с камелиями».
Дюма похоронили, согласно его завещанию, в длинной рубахе, в которой он обычно сидел за столом, и с голыми ногами: он гордился их изяществом.
Его вторая жена, Надежда Нарышкина, поставила, а вернее, положила странный памятник: мраморный Дюма лежит под навесом в том же самом виде, как и лежал в гробу: в длинной рубахе и с голыми ногами. Монумент внушителен, но производит почему-то гнетущее впечатление.
Могила Альфонсины скромна, мрамор бел, и, вопреки моим предположениям, ее навещают. У подножия памятника стоял горшочек с искусственными камелиями и лежала живая роза. Она еще не успела завянуть: видимо, сюда приходил кто-то незадолго до меня. Я нашла здесь письмо, промокшие под дождем страницы прилипли к подножью надгробья. В правом верхнем углу был напечатан адрес. Штат Массачусетс. Город. Номер дома. Фамилия. Стояла дата: 14 октября 1996 года. Местами буквы расплылись, бумага расползлась от влаги. Письмо было написано не случайно. Оно начиналось так: «Дорогая дама с камелиями!» Дальше я не стала читать. Ведь это письмо было адресовано Альфонсине.
ЗАГАДОЧНАЯ ФОРМУЛА ЛЮБВИ
Вот видишь, мой друг, – не напрасно
Предчувствиям верила я:
Недаром так грустно, так страстно
Душа тосковала моя!..
Прощай!.. Роковая разлука
Настала... О сердце мое!..
Поплатимся долгою мукой
За краткое счастье свое!..
Е.Ростопчина
«Мозг покойной оказался в высшей степени развитым, что и можно было предвидеть». Из шведской газеты за февраль 1891 года...
* * *
– А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? – спрашивал дьячок маленькую девочку, которую нянька, возвращаясь из церкви, вела за руку.
Кроха молчала.
– Стыдно, барышня, не знать своего имени! – посмеивался дьячок.
– Скажи, деточка, – наставляла нянька, – меня, мол, зовут Сонечка, а мой папаша генерал Крюковский!
Дьячок, провожая их до дома, указал девочке на ворота:
– Видите, маленькая барышня, на воротах висит крюк. Когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: «Висит крюк на воротах Крюковского», – сейчас и вспомните.
Софья Васильевна Корвин-Круковская, известная всему миру как Ковалевская, родилась в Москве 15 января 1850 года. Самый теплый человек детства – нянюшка. Она души не чаяла в девочке, которая родной матери казалась диковатой и неловкой. Когда Соне было восемь лет, отец вышел в отставку и увез семью в имение Палибино на границе России и Литвы. Дети Круковских: Соня, сестра Аня, семью годами ее старше, и брат Федя, на три года младше – попали под сень старого большого дома. Он стоял посреди парка, к которому вплотную примыкал громадный бор. В нем, говорили, водилась нечистая сила, лешие да русалки. Здесь было приволье. Только строгие гувернантки портили этот рай.
– Как! Вы еще в постели? Вы снова опоздали к уроку! Так не можно долго спать! Я буду жаловаться генералу! – гневалась француженка, открыв дверь в детскую.
– Ну и ступай, жалуйся, змея! – бормотала ей вслед нянюшка. – Уже господскому дитяти и поспать вдоволь нельзя! Опоздала к твоему уроку! Велика беда! Ну и подождешь – не важная фря!
Тихую жизнь усадьбы нарушило одно происшествие. Заметили, что в доме стали исчезать маленькие, но ценные вещицы: серебряная ложечка, золотой наперсток, перламутровый перочинный ножик. В доме поднялась тревога. После долгих пересудов и дознаний напали на след вора. Им оказалась старая дева, портниха Марья Васильевна, которую все дворовые не любили за гордость и высокомерие. Замкнутая, ни с кем не общавшаяся, жила она себе особняком в отдельной комнате, чиня господское белье и детские вещи. И вдруг – на тебе, старая дева влюбилась в немца-садовника, немолодого, толстого. В его-то кармане и стали оседать не только украденные «презенты», но и деньги помешавшейся от страсти старой девы.
Вечерами Соня с сестрой, лежа в кроватках, затаив дыхание, слушали, как няня обсуждает с приходившими к ней на вечерний чаек знакомыми невероятную новость.
– Ах, негодница! Да и то, стал бы такой молодец, как Филипп Матвеевич, задаром такую старуху любить! Вот ее любовь куда завела...
Соня слушала. Любовь? Что же это такое? И как это – воровать, а потом страдать, гореть от стыда? И все это ради любви? Странная какая вещь. А этот немец, ведь он довольно противный. Наверное, и она могла бы полюбить, рассуждала шестилетняя Соня, но красивого.
Очень скоро красивый нашелся – Сонин дядюшка, приехавший погостить в Палибино. За обедом Соня смотрела на него во все глаза. Когда ей делали замечание, краснела до ушей. Почему-то она стеснялась произнести его имя и с трепетом ждала вечера, когда красавец дядюшка, любитель повозиться с малышами, усаживал ее на колено и начинал вести «научные беседы». Это было время блаженства.
Дни маленькой Сони потекли в ожидании заветного часа. Однажды она увидела, что на дядином колене сидит ее подружка, хорошенькая, как ангелок, Оля.
Соню точно кто-то толкнул в спину. Вихрем налетела она на соперницу и вцепилась зубами в ее пухлую ручку. Та пронзительно взвизгнула. Это отрезвило Соню. В ужасе от содеянного, а еще больше от ревности она рыдала в комнате няни. Так оборвалась ее детская любовь. Ковалевская, вспоминая об этом случае, говорила, что детские влюбленности часто бывают чувством значительно более сильным и запоминающимся, чем об этом принято думать.
...Математика тоже началась с палибинских вечеров. Один из родственников Круковских, часто посещавший гостеприимную усадьбу, был страстным любителем побеседовать на отвлеченные темы. Лучшей слушательницы, чем Соня, сосредоточенная и любопытная, и придумать было трудно. От него она услышала в первый раз о многих интереснейших вещах. Например, о квадратуре круга, об асимптотах, к которым кривая приближается, но – подумать только! – никогда их не достигает. В этом было что-то таинственное и загадочное. Соня заглянула в новый чудесный мир, куда простым смертным хода не было. Конечно, она не могла осилить смысла математических понятий, но в ней пробудилась фантазия, и нужен был лишь новый толчок, чтобы робкий интерес перерос во что-то более значительное...
Однажды перед переездом Круковских в деревню затеяли ремонт. На одну из комнат обоев не хватило, и ее решили оклеить листами литографированных лекций знаменитого математика Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислениях. Их когда-то в молодости купил отец Сони, Василий Васильевич. По счастливой случайности комната с «математическими» обоями оказалась детской.
Часами маленькая Соня стояла перед чудесными стенами, стараясь разобрать текст и понять смысл формул. Разумеется, большинство детей скоро охладели бы к загадочным иероглифам. Но здесь был тот редкий, не поддающийся никаким объяснениям случай, когда словно само провидение побудило палибинскую нелюдимку к действию, зная, что в ней дремлет гениальность...
Ковалевская вспоминала, что, когда уже пятнадцатилетней девушкой брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя А.Н.Страннолюбского, тот удивился, сколь быстро она усвоила новые и трудные понятия. У нее же было странное чувство, что математик объяснял ей давно известное, то, до чего она дошла сама и что уже не представлялось ни новым, ни трудным.
Впрочем, с самого раннего детства необычайная Сонина одаренность заявляла о себе. Она выпрашивала разрешения присутствовать на уроках своей сестры, и часто случалось так, что на следующий день семилетний ребенок подсказывал четырнадцатилетней сестре.
С пяти лет девочка начала сочинять стихи. В двенадцать Соня уверяла, что будет поэтессой. В голове у нее уже сложилась поэма «Струйка» в сто двадцать строф, нечто среднее между «Ундиной» и «Мцыри». Ее маленькое сердце было полно романтических настроений и ожиданий чуда от подступающей взрослой жизни...
Однажды вечером Соня застала сестру Анюту лежащей на диване и отчаянно рыдающей.
– Анюточка, что с тобой?
– Ты все равно не поймешь. Я плачу не о себе, а о всех нас. Ты еще дитя, ты можешь не думать о серьезном. А я... Я поняла, как призрачно все, к чему мы стремимся. Самое яркое счастье, самая пылкая любовь – все кончается смертью. И что ждет нас потом, да и ждет ли что-нибудь, мы не знаем и никогда, никогда не узнаем! О, это ужасно, ужасно!
– Но как же? Есть Бог, и после смерти мы пойдем к нему, – робко возразила Соня.
– Ты еще сохранила детскую веру. Ты, Соня, маленькая... Не будем больше говорить об этом, – вздохнула сестра печально.
Но не говорить они не могли. И сестры беседовали часами. Анюта посеяла в умной, не по годам серьезной сестре сомнения в прочности многих представлений. Она рассуждала о том, что живут они скверно, скучно, бесцельно, словно в болоте, затянутом тиной. А где-то рядом идет полная тревог и живого биения жизнь.
Их разговоры длились долго, и, когда Анюта засыпала, Соня перебирала в памяти услышанное. Ни от кого ей не приходилось слышать подобное. Позже Ковалевская назовет Анну Васильевну своей «духовной мамой».
...Через некоторое время в Палибино пришел конверт из Петербурга. Случайно он оказался в руках генерала Круковского. Вскрыв его, отец Сони и Анюты едва не потерял дар речи от возмущения. Оказывается, старшая дочь написала повесть и послала ее в журнал Достоевскому. И вот теперь писатель извещал, что повесть напечатана. Более того, он прислал Анюте причитающийся гонорар.
«Позор! Позор!» – вслух говорил Василий Васильевич, меряя кабинет шагами. Потом открыл дверь и крикнул, чтобы позвали Анюту.
Объяснение вышло ужасным. Девушка никогда не видела в таком состоянии своего сдержанного, рассудительного отца. Словно кто-то передернул его красивое лицо, и оно сделалось неузнаваемым. Еще ужаснее было то, что он говорил.
– От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать с него деньги, можно всего ожидать. Теперь ты продаешь свои повести, а придет, пожалуй, время – и себя будешь продавать!
Придя к себе, Анюта села на кровать и почувствовала, как ее обняла младшая сестра Соня. «Я все знаю, Анюточка. Няня рассказала... Только ты не печалься, голубушка! Все поправится, пройдет. Вот увидишь...»
Анюта привыкла верховодить Соней, как младшей. Но тут от ее почти взрослого сочувствия она не выдержала, упала головой в подушку и заплакала горько, вздрагивая всем телом.
...А Василий Васильевич все не мог прийти в себя. Происшедшее не умещалось в его голове. Девушке, живущей в холе и богатстве, из семьи порядочной и уважаемой, приходит в голову дикая мысль: сделаться писательницей. Да, он знавал женщин, к чьей красоте добавлялась склонность к изящным занятиям. В одну из них, поэтессу Ростопчину, он был по молодости крепко влюблен. Ах, какое это было чудо – ее поэтическая внешность и поэтический дар. Но для собственной дочери... Нет, об этом даже страшно думать. А думать приходится. Что-то неясное происходит вокруг. Жили-жили, и вот нА тебе.
От соседей дальних и близких, от петербургской родни и знакомцев стали доходить слухи, что дочери вовсе отбились от рук. Одна грозит самоубийством, если родные не отпустят за границу в университет, другая сбежала со студентиком-учителем в архангельскую глушь просвещать народ. Анну стали увлекать совсем не девичьи занятия. То крестьянских детишек возьмется обучать, то о чем-то шепчется с дворовыми бабами. Что ей до них? А долгие гуляния по усадебным аллеям с поповским сынком, что вернулся из Петербурга, нахватавшись завиральных идей?! Говорили, он Анюте книжки все какие-то читает. Да и внешне очень изменилась дочка, думал Василий Васильевич, стала носить простые, темных тонов платья, причесывается гладко, скучно скручивая прекрасные пепельные волосы. Ему, ценителю женской красоты, все это было непонятно. Дамы его молодости умели из дурнушек превращаться в богинь. Сколько ухищрений, заботы, истинного искусства, чтобы привлечь к себе внимание! В равнодушии дочери к своей красоте генерал видел нечто неестественное. Какой-то вывих природы.
Почему дочери так не похожи на свою мать, его жену: прелестную, всегда нарядную, нежную, надушенную? Всякий раз, входя в ее спальню, он ощущал себя в женском царстве, куда не залетает ни один звук грубой жизни.
От приятных мыслей о жене генерал снова вернулся к дочерям. Гнев уже оставил его. Он думал, что наверняка кажется своим девочкам старым тираном. Пожалуй, и впрямь надо поубавить родительского диктата. И наконец, довольный собой, Василий Васильевич решил, что по приезде в Петербург надо бы разрешить Анне пригласить в дом Достоевского. Известный писатель, как-никак...
Достоевский действительно откликнулся на приглашение Круковских. Поначалу он стеснялся генеральши, не знал, о чем и как говорить с нарядной барыней – хозяйкой, старательно щебетавшей возле модного писателя. Его выручала Анюта, заводя серьезные разговоры и оттесняя мамашу на второй план. В общении с девушкой Достоевский преображался, делался оживленным и словоохотливым. Его визиты становились все более частыми. А в жизни Сони начиналась особая полоса.
– Какая у вас славная сестренка! – сказал однажды Достоевский, и сердце Сони, которой казалось, что ее не замечают, гулко забилось. А тут еще сестра притащила толстую тетрадь ее стихов, и Федор Михайлович, слегка улыбаясь, прочел два-три отрывка, которые похвалил. Как-то в разговоре Достоевский сказал Анюте, что у ее сестры лицо выразительное и глаза цыганские. Это вызвало в душе Сони целую бурю. Вечером она молилась:
«Господи, Боже мой! Сделай так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»
Скоро Достоевский полностью завладел мыслями пятнадцатилетней девочки. Она жила от встречи до встречи с ним, ловила каждое его слово. Стоило Федору Михайловичу однажды похвалить Сонину игру на фортепьяно, как сама собой явилась идея: она решила выучить его любимое произведение и сыграть так, чтобы он понял, что творится в ее сердце.
Очень скоро выяснилось – Достоевский любит «Патетическую сонату» Бетховена. Не склонная ранее к фортепьянным экзерсисам, теперь Соня не отрывала пальцев от клавиш. Пьеса трудная, но это лишь подстегивало ее упорство. И вот она нашла удобный момент, чтобы поразить предмет своей страсти.
Наступил вечер, когда Достоевский навестил Круковских в отсутствие старших. Дома были лишь он, Анюта и Соня. С дрожащими от волнения пальцами села влюбленная девочка за фортепьяно. За спиной сидели слушатели: сестра и Достоевский.
Окончила. Вокруг стояла тишина. Соня оглянулась. В комнате никого не было. Сердце у нее упало. На подгибающихся ногах пошла она по комнатам и вдруг, остановившись на пороге самой дальней, услышала страстный, порывистый шепот Достоевского:
– Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты... да и раньше, по письмам уже предчувствовал...
Достоевский держал Анютину руку в своей. Лицо его было бледно и взволнованно.
Не помня себя, Соня бросилась прочь.
...И спустя тридцать лет Ковалевская не позабыла, с какой невероятной остротой и отчаянием пережила крушение своих молодых надежд. Ей хотелось умереть, не просыпаться, не начинать нового дня с прежней мукой. Вспоминая себя ту, жалкую, заплаканную, оскорбленную, она, уже с опытом взрослой женщины, замечала, что сердечные травмы, даже если они получены в юном возрасте, губительны для женщины. Не обманывайтесь высохшими слезами и даже улыбкой. Где-то там, в глубине, под гнетом обрушившегося горя, «на душе, – как писала Ковалевская, – совершается медленный, невидимый для других процесс разрушения и одряхления».
А внешне – да, все улеглось, успокоилось. Соня, как умела, пережила свое горе. Анюта отказалась выйти замуж за Достоевского. Он уехал и вскоре нашел свое счастье – со второй женой Анной Григорьевной, оставшись до конца в дружеских отношениях с сестрами Круковскими.
Надолго, очень надолго вирус влюбленности оставляет Соню. Теперь она скорее Софья Васильевна. Так ее называют новые петербургские друзья, в компании которых нет места нежным взглядам, а идут бурные дебаты о социальных свободах, равенстве полов, всеобщем просвещении.
* * *
...Восемнадцатилетняя Соня, как и сестра, твердо решила продолжить образование. Но генерал Круковский и слышать не хотел ни о каком университете. Чем настойчивее приступали к нему дочери, тем с большей решительностью говорил он «нет». В доме воцарилась гнетущая атмосфера. Не проходило дня, чтобы дверь в кабинет генерала не захлопывалась с оглушительным грохотом и откуда-нибудь из дальних комнат не доносились глухие рыдания. Девушкам запретили выходить на улицу без гувернантки. Круковский все больше склонялся к мысли, что надо скорее покинуть этот зараженный бреднями Петербург и ехать в тихое Палибино.
Действительно, если бы можно было заглянуть под крыши петербургских домов в те шестидесятые годы прошлого столетия, когда сестры Круковские так рвались на волю, то невольно бы пришла на ум мысль о начавшейся настоящей эпидемии семейных разладов.
«Не сошлись убеждениями» – этого было достаточно, чтобы молодежь из богатых семей, покидая отлаженное столетиями житье в особняках и роскошных квартирах, устремлялась на выстуженные промозглым невским ветром улицы. Испуганные родители с ужасом пересказывали друг другу последние новости. Девушки-аристократки, сбившись в кучку, или, как они называют, коммуну, моют грязные лестницы, сами ходят на рынок, стирают и зарабатывают тем, что шьют белье. Угрозы лишить наследства, даже проклянуть, не действовали. На все попытки вернуть беглянок домой те отвечали отказом. Они, видите ли, хотят жить своим трудом и устраивать жизнь по собственному разумению. Конечно, родители могли прибегнуть к силе закона, но поступать так, не боясь огласки и полной компрометации девушки, решались не многие.
...Понимая, что не сегодня-завтра их увезут в Палибино, Соня и Анюта решили прибегнуть к средству, которое все больше входило в моду среди барышень, жаждавших освобождения от родительских пут. Фиктивный брак. Обвенчавшись с человеком, который сочувствовал стремлению жить самостоятельно, девушка получала от него отдельный паспорт и разрешение на учебу в университете.
Среди людей, с которыми Анюта познакомилась в Петербурге, было несколько счастливиц, именно таким образом получивших возможность учиться. Они, впрочем, как и вся компания молодежи, куда зачастила старшая генеральская дочка, недолго ломали голову над тем, как помочь сестрам.
...Иван Рождественский, уже успевший посидеть в крепости и побывать в ссылке за участие в революционных студенческих волнениях 1861 года, был готов на товарищескую услугу. Добрый малый решительно направился к генералу просить руки младшей дочери, Софьи. Когда он объяснил отцу цель своего визита, тот, откашлявшись, поинтересовался социальным положением неожиданного гостя. Рождественский отрекомендовался сыном священника и поборником «свободной педагогики». Разумеется, этого было достаточно, чтобы генерал поблагодарил визитера за честь, которую он делает своим предложением, но категорически заявил при этом, что его дочь Софья Васильевна еще слишком молода и ей рано выходить замуж.