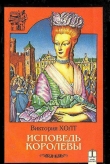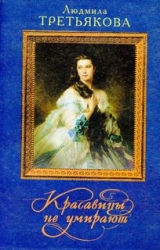
Текст книги "Красавицы не умирают"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
В июне 1880 года Ковалевский решением ученого совета Московского университета утверждается в степени доктора государственного права, а в декабре того же года становится ординарным профессором. С 1877 года он начинает читать лекции, и на все десять будущих лет они становятся событием, заставлявшим студентов набиваться в аудитории так, что яблоку негде было упасть. Импозантная, в неизменном черном, у дорогого портного сшитом сюртуке, фигура профессора приковывала внимание. Специально переводились на юридический, чтобы «слушать Ковалевского». Все, что он говорил, было смело, неожиданно, парадоксально. Все изобличало не только отточенный интеллект, энциклопедическую широту знаний, но и нескрываемое неприятие российской действительности.
«Господа, я должен вам читать о государственном праве, но так как в нашем государстве нет никакого права, то как же я вам буду читать?»
Было ясно, что в конце концов за это придется расплатиться. Так и случилось. Ковалевскому вменили в вину «отрицательное отношение к русскому государственному строю». Сбылась угроза, высказанная еще директором гимназии непокорному, ершистому мальчишке: «Ваше поведение доведет вас до выведения из заведения».
«Выведение из заведения» – теперь уже из Московского университета – не оказалось для Ковалевского катастрофой. Во-первых, он, наследник богатой семьи, не ведал материальной зависимости от опостылевшего начальства. Во-вторых, во всем мире его уже хорошо знали, его авторитет был исключительно велик.
Ковалевский отправился за границу. Он по-прежнему вел активную научную работу, читал лекции в Европе и Америке, сотрудничал в журналах. Наконец Максим Максимович выбрал Стокгольм для продолжения преподавательской деятельности: его пригласили открыть в новом университете курс общественных наук. И вот здесь-то мимолетное парижское знакомство со своей однофамилицей продолжилось...
* * *
«Жаль, что у нас нет на русском языке слова Volkommen (совершенный. — Л.Т.), которое мне так хочется сказать вам. Я очень рада вашему приезду и надеюсь, что вы посетите меня немедленно», – писала Софья Васильевна только что появившемуся в Стокгольме Ковалевскому.
Максим Максимович пришел – могло ли быть иначе? Он не переставал изумляться уму и способностям этой женщины. Суть самых трудных проблем схватывалась ею на лету. Софья Васильевна рассуждала – ее знакомый радовался оригинальности ее мысли, интуиции. В беседах незаметно пролетал вечер за вечером. Тут было много всего: и согласия, и жарких споров.
Софья Васильевна в таких случаях любила, чтобы победа оставалась за ней. Доказывала свою правоту страстно, запальчиво. От волнения ее лицо розовело. Она становилась так хороша, что в памяти Максима Максимовича всплывали слова, услышанные от Тимирязева о тогда еще незнакомой женщине-математике. Тот говорил, что в молодости Софья Васильевна была очень красива и многие ухаживали за ней.
«Почему в молодости? – думал Ковалевский. – А сейчас?» Он, опытный мужчина, расчетливо избегавший брачных уз и тем не менее отдававший должное прекрасному полу, мог бы свидетельствовать: природа наделила Софью Васильевну красотой, которая, как ему казалось, успешно сопротивлялась времени. Он терпеть не мог ученых дам, которых видел немало. Ему претили их апломб, дурная одежда, папироса во рту и до одури долгие «умные разговоры». Будь Софья Васильевна хоть чуть похожа на них, он бежал бы без оглядки.
Но Ковалевский всякий раз ловил себя на том, что, видя Софью Васильевну, любуется ею как прелестной маленькой игрушкой. От нее веяло женственностью. Она выдавала себя желанием нравиться, легким кокетством. Ее несравненная ученость была спрятана в маленькую кружевную театральную сумочку, и госпожа профессор как бы намекала: «Ах, забудьте про мое совсем не дамское дело. Я всего лишь женщина...»
Ноги сами несли Ковалевского в гостиную Софьи Васильевны. Здесь было ему уютно и легко. Здесь пахло Россией, по которой они оба втайне и не втайне тосковали. Не случайно Ковалевская обставила свою стокгольмскую квартиру мебелью, выписанной из Палибино. Она была, пожалуй, старомодна и тяжеловата. Красный атлас на креслах и диване местами вытерся, вылезали пружины. Их прикрывали салфетками. Дамы, заглядывавшие к Ковалевской, были разочарованы столь нешикарной обстановкой, в которой жила необыкновенная гостья из России, к которой благоволил сам король. Сама же Софья Васильевна не могла пожелать для себя ничего лучшего. От каждой вещи в ее доме веяло дорогими сердцу воспоминаниями. И большой, рокочущий Максим Максимович с его внешностью и ухватками вальяжного русского барина становился здесь родным и необходимым.
Они стремительно сближались. Приятельские отношения переходили в нечто более важное. Они еще не знали, как труден, порой мучителен будет их роман. Впрочем, едва ли можно было ожидать другого. Встретились два очень крупных человека, не слишком молодых, с уже определившейся жизнью и со сложными характерами. Но влечение друг к другу давало себя знать. Надо было что-то делать. Оба пребывали в некоторой растерянности.
«Вчерашний день был вообще тяжелый для меня, потому что вчера вечером уехал М., – пишет Ковалевская подруге. – Мы все время его десятидневного пребывания в Стокгольме были постоянно вместе, большею частью глаз на глаз и не говорили ни о чем другом, как только о себе, причем с такой искренностью и сердечностью, какую тебе трудно даже представить, тем не менее я еще совершенно не в состоянии анализировать своих чувств к нему».
Стоило Максиму Максимовичу уехать – он часто покидал Стокгольм ввиду своих научных интересов, – как Ковалевская начинала тосковать. Одиночество тяготило ее, и она осознавала, что чем дальше, тем нужнее для нее будет опора в жизни, надежный друг, способный оградить от жизненных проблем.
Теперь все в ее руках. И из письма подруге, как ни туманны слова о «планах» Ковалевских, все-таки ясно, что решительное объяснение произошло и речь идет о будущей совместной жизни. Но в том же письме есть фраза, которая настораживает: «...если бы М. остался здесь, я не знаю, право, удалось бы мне окончить свою работу».
* * *
Работа! Ее дело! Математическая загадка, которую пыталась решить Ковалевская как раз в то время, когда роман с Максимом Максимовичем принимал все более четкие формы, еще со студенческих лет занимала ее воображение. Дело шло о решении классического вопроса в области точных наук, вопроса важного и – нерешаемого.
Подобное обстоятельство особенно подстегивало тщеславие Ковалевской. Ее воображение уносилось в прошлые века. Лагранж, Пуассон, великий старина Эйлер – все они бились над решением этой задачи, подбирались к ней вкрадчиво, боясь спугнуть добычу, как к раковине с редкостной жемчужиной внутри. Но в самый последний момент, когда рука охотника готова была схватить драгоценность, створки плотно прикрывались и заветная диковина уходила под воду. Не случайно немецкие ученые назвали эту загадку «математической русалкой».
Когда же Софья Васильевна узнала, что Парижская Академия наук назначила специальный конкурс на соискание премии за лучшее сочинение на тему «О движении твердого тела», то есть за «математическую русалку», мысль у нее была одна: надо спешить, надо успеть к назначенному сроку оформить уже полученные результаты и написать это сочинение.
Максим Максимович на диване из черного дерева с красной обивкой – это как раз то, что Софье Васильевне сейчас, в момент творческой гонки, совершенно не нужно. Она жалуется, что ее безусловно желанный поклонник тем не менее «занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него». Под «другими» она имеет в виду, конечно, себя. И это невольно пробивающееся раздражение очень опасный симптом. Он говорит о том, что, несмотря на интерес, который вызывает в ней этот человек, он внес в жизнь Ковалевской сложности. И она не знает, как с ними сладить. В Софье Васильевне говорит то влюбленная, боящаяся упустить последнюю надежду на счастье женщина, то человек, который уже не мыслит жизни без удачной на зависть всем карьеры. Эти метания между двумя берегами, распря ума и сердца стали истинной Голгофой для Ковалевской.
Да, она не на шутку увлечена Максимом Максимовичем, но, едва дождавшись, когда он уйдет, с чувством облегчения на целую ночь усаживается за письменный стол. Дело доходит до того, что Софья Васильевна просит верного Леффлера увести куда-нибудь Ковалевского, чтобы на просторе докончить в конце концов свой манускрипт. Кто-кто, а Леффлер понимает ее, и они вдвоем с Максимом Максимовичем уезжают в курортное местечко под Стокгольмом.
Но вот большой шершавый пакет отправляется в Париж. Кроме рукописи там находится маленький заклеенный конверт с указанием фамилии конкурсанта. Сверху же написан девиз, под которым тот выступал.
Всего работ было подано пятнадцать. Жюри признало достойным премии автора, выступавшего под девизом: «Говори, что знаешь, делай, что должен, будь то, чему быть». Вскрыли маленький конверт с именем победителя. Там значилось: Софья Ковалевская.
Исследование «О движении твердого тела вокруг неподвижной точки под влиянием силы тяжести» вознесло Ковалевскую на математический Олимп. В Париже чрезвычайное заседание Академии наук чествовало Ковалевскую, не скупясь на самые лестные эпитеты.
Но в то самое время, когда в Париже в ее честь устраивались банкеты и весь ученый мир приветствовал «принцессу науки», сама «принцесса» признавалась: «Со всех сторон мне присылают поздравительные письма, а я, по странной иронии судьбы, еще ни разу в жизни не чувствовала себя такою несчастною, как теперь. Несчастна, как собака. Впрочем, я думаю, что собаки, к своему счастью, не могут быть никогда так несчастны, как люди, и в особенности, как женщины».
Ирония судьбы заключалась в том, что Софья Васильевна была слишком проницательна, чтобы не понимать: поймав одну жар-птицу, она невольно упускала другую – ту, которая сулила любовь и семью. Что важнее? Что нужнее? Если бы она могла ответить на этот вопрос окончательно и бесповоротно... Если бы!
* * *
В Стокгольме Ковалевскую ожидал Максим Максимович. Он нашел ее плохо выглядевшей, усталой, взвинченной. Его забота и участие вызывали раздражение. Софья Васильевна ни на минуту не сомневалась в его привязанности к ней, но это лишь распаляло ее подозрительность. Она изумительно умела себе отравлять самые светлые минуты. Почему он так внимателен? Куда логичнее ему было бы влюбиться в молодую красотку. Вот главный мотив его привязанности – ему лестно быть другом столь знаменитой женщины: кто же мог усомниться, что тогда в Стокгольме властвовали король Оскар и она, Софья Ковалевская, королева математики?
Ей же, как писала подруга Софьи Васильевны, хотелось внушить Ковалевскому «такую же сильную и глубокую любовь к себе, какую она сама чувствовала к нему. Эта борьба представляет всю историю ее жизни в течение последних двух лет».
Борьба... В характере Ковалевской действительно была черта, немало навредившая ей, о чем не умалчивали люди, с глубокой, искренней симпатией относившиеся к ней.
«Стоило ей задаться какой-нибудь целью, она пускала в ход все, чтобы добиться ее. Но когда на сцену выступало чувство, она теряла свою проницательность и ясность суждений». «Она требовала всегда слишком многого от того, кто любил ее и кого она в свою очередь любила, и всегда как бы силою хотела брать то, что любящий человек охотно дал бы ей и сам, если бы она не завладела этим насильно со страстной настойчивостью».
Любовь не терпит нажима, штурма, критики. Она съеживается и прячется, испуганная и обиженная недоверием. Эти горькие уроки Софья Васильевна постигала на опыте своего романа с Ковалевским, но, страстно мечтая избавиться от одиночества, делала одну ошибку за другой.
«Она мучила его и себя своими требованиями, устраивала ему страшные сцены ревности, они много раз совершенно расходились в сильном взаимном озлоблении, снова встречались, примирялись и вновь резко рвали все отношения», – писал человек, на глазах которого разворачивался роман двух необыкновенных людей.
Но то, что уже связывало Ковалевских, было сильнее их личного эгоизма, нежелания смириться с привычками друг друга. В противном случае они, конечно, расстались бы – и навсегда. Но попытки понять, притереться друг к другу следовали одна за другой. Любовь-борьба, любовь-противостояние, как ее ни назови, все-таки была любовью. И тот и другой наносили ей удары, а любовь все терпела и не покидала их сердца.
Максим Максимович, всю жизнь лелеявший в душе идеальный женский образ – свою матушку, – которая предпочла всему тихую семейную заводь, отлично понимал, что женщина, которую он встретил и полюбил, которую был готов назвать своей женою, ни в чем с ней не схожа. Едва ли Софья Васильевна была способна жить для другого человека. И ничто не предвещало ему спокойной семейной жизни, присутствия хорошей хозяйки в доме. И все-таки Максим Максимович предложил Ковалевской стать его женою. Он поставил одно лишь условие: она покинет профессорскую кафедру. Ковалевская отказалась. Расклад ее мыслей легко постичь: «Да, я знаю, что именно тебя не устраивает. Но если ты меня действительно любишь, то пойдешь на любые жертвы».
Вместе с тем Софья Васильевна могла ожидать от Ковалевского того же: «Если любишь, то найдешь силы уступить». Она любила по-своему, насколько это было доступно ее импульсивной, нервной натуре. И вот они снова и снова пускались в изматывающие, ни к чему не приводившие объяснения. Сколько раз она говорила: «Я вижу, что мы с тобой никогда не поймем друг друга... Только в одной работе могу я теперь найти утешение».
Но в этой любовной мороке поставить точку было невозможно, пока кто-то из них окончательно и бесповоротно не покинул другого. Сил же на это не было.
...Максим Максимович пережил Ковалевскую на двадцать пять лет. Он так и не смог ее забыть, но, судя по воспоминаниям, вполне по-мужски не стал выносить на суд людской этапы их большого и трудного романа. «В наших отношениях, – писал он, – было много такого, что трудно понять людям посторонним, говорить и недоговаривать – задача нелегкая».
Тем не менее из вороха легенд и слухов, вившихся вокруг романа Ковалевских, стоит выделить весьма многозначительную дату – на июнь 1891 года была назначена свадьба.
* * *
В нелегком, с глубокими перепадами романе Ковалевских случались светлые безмятежные страницы. В 1890 году на рождественские каникулы Софья Васильевна выбралась на Ривьеру. Здесь, неподалеку от Ниццы, у Ковалевского было имение Болье, где обычно Максим Максимович скрывался от мира, углубившись в очередное научное исследование.
Отправилась она туда, как всегда, страшась мысли, что снова начнется их любовный поединок. «Уезжаю сегодня на юг Франции, но на радость или на горе, не знаю сама, – писала она подруге, – скорее на последнее».
И все же Болье чрезвычайно понравилось Ковалевской. Возле ласкового моря под солнышком она как-то быстро повеселела. Вечные препирательства и выяснения отношений словно остались в холодном Стокгольме. Максим Максимович лишь довольно усмехался в пышную бороду, видя, с каким азартом Софья Васильевна ринулась в развлечения, не дававшие спать рождественской Ницце. Она участвовала в «бое цветов» и костюмированных балах, кончавшихся с рассветом. Возвращалась помолодевшей на двадцать лет, сияя цыганскими глазами. И Ковалевский снова начинал верить, что счастье возможно.
Между тем уже в это время Софья Васильевна начала прихварывать. Из Болье она уехала, чувствуя себя неважно. Максим Максимович проводил ее до Канн, и дорогой она говорила, что ей кажется, будто очень скоро кто-то из них двоих умрет. Вернулась в Стокгольм уже совсем больной, но от лекций не отказалась. Вечерами, без оставшегося на Ривьере Максима Максимовича, она не находила себе места.
...Когда вам сорок лет, любая болячка как-то особенно тщательно стирает с лица последние признаки молодости. Ковалевская смотрелась в зеркало и не нравилась себе. Серая, сделавшаяся дряблой кожа. Опущенные уголки губ: похоже, они приготовились к плачу, не к улыбке. А глаза? Где их веселый цыганский блеск?.. Скоро свадьба. Вся эта затея казалась неестественной, ненужной, о чем не хотелось и думать.
Что ж, у каждого на этой земле свой жребий, утешала себя Софья Васильевна, тщетно пытаясь согреться в своей постели. Гений любви не посетил ее – печально, но надо сказать себе правду. А что умение любить – такой же талант, как художество или наука, это она понимала теперь совершенно отчетливо. Не все люди могут любить... Ей приходило на ум, что природа, сделав ее ученой женщиной, поступила бы куда добрее к ней, вложив в душу уравновешенность и гармонию. Вот истинные дары! Конечно, можно держать себя в ежовых рукавицах, но от смирения и борьбы с собой так устаешь.
И она устала. Так устала, что мысль о смерти, как о сне, избавляющем от тоски и неудовлетворенности собою, все чаще и чаще наведывалась к ней.
Особенно обострились эти настроения со смертью сестры. Анна Васильевна уходила из жизни долго, мучительно, понимая, что умирает, рыданьями и криками сопротивляясь своему уходу. Ей сделали операцию на яичнике, но это была короткая отсрочка. Ковалевская приехала в Петербург ухаживать за умирающей. Состояние бедной Анюты потрясло ее. Какая-то страшная, неумолимая сила подтягивала истерзанное болезнью тело ее милой, веселой сестры к краю черной ямы. И ничто не могло остановить это сползание в небытие.
А казалось, только вчера, прижавшись друг к другу, они с радостно и тревожно бьющимися сердцами смотрели в свое будущее из окна старого палибинского дома. Сияли звезды в бездонной мгле. И запах сирени заполнял всю Вселенную. «Боже! Как эта лежащая перед нами жизнь и влекла нас, и манила, и как она казалась нам в эту ночь безгранична, таинственна и прекрасна!» – вспоминала об этом ожидании счастья Софья Васильевна. Куда все уходит, куда?
После смерти сестры и новой женитьбы ее мужа Ковалевская хотела забрать к себе ее сына Юрия. Но Виктор Жаклар воспротивился.
Уход Анюты наложил неизгладимый отпечаток на Ковалевскую. Она мечтала о мгновенной безболезненной смерти и верила, что, с детства страдая пороком сердца, умрет молодою.
Софья Васильевна не раз говорила, что внушенная когда-то в детстве нянюшкой мысль о каре, настигающей самоубийцу, не раз останавливала ее у последней черты. Она к тому же боялась таинственной, бьггь может, очень мучительной минуты перехода в небытие. Другое дело – уснуть вечным сном. Ей приходил на ум Шекспир:
Окончить жизнь – уснуть,
Не более! И знать, что этот сон
Окончит грусть и тысячи ударов —
Удел живых. Такой конец достоин
Желаний жарких.
* * *
...В тот день младшая Ковалевская – Соня собиралась на детский праздник. Для нее был приготовлен цыганский наряд. Перед тем как уйти, девочка подошла к постели матери. Та осталась довольна ею. Дочке было двенадцать с половиной, она походила на нее. Когда-то в этом самом возрасте, что сейчас Соня, Софья Васильевна отчаянно влюбилась в Достоевского. И он заметил нечто цыганское в ее внешности. Это передалось и Соне.
Самой же ей день ото дня становилось все хуже и хуже. Третье февраля, день, когда Софье Васильевне исполнился сорок один год, прошел никак не отмеченным. Седьмого февраля записала в дневнике: «Сегодня мне очень плохо». Врачи терялись в догадках, докучали больной, а улучшения не наступало. Ковалевскую лечили от обострения болезни почек. Умерла же она от воспаления легких.
В промежутках между приступами надсадного кашля она, прикрыв глаза от света ночника, обдумывала сюжет повести под названием «Когда не будет больше смерти». О том, что конец близок, – не догадывалась.
...Агония началась глубокой ночью, когда возле нее никого не было.
Максим Максимович, получив известие о болезни Ковалевской, срочно отправился в Стокгольм. Пароход стоял на причале в Киле, когда он узнал, что Софья Васильевна умерла. Но на похороны он успел.
Вышедшая через три года после кончины Ковалевской книга «Расплата за славу» возмутила его. Автор упирал на то, что якобы добровольный уход из жизни еще молодой, в самом расцвете таланта женщины связан с любовной катастрофой.
«Я получил самые точные сведения о всем ходе болезни, как и о результатах вскрытия, – защищал память своей ушедшей подруги Ковалевский. – Доктор Ковалевской, присутствовавший на нем, сообщил мне, что у Софьи Васильевны найден такой порок сердца, который и без болезни должен был вызвать скорый конец».
Максим Максимович умер в марте 1916 года. Перед кончиной он, так и не женившийся, поручил единственному близкому человеку, своему племяннику, сберечь то, чем так дорожил на протяжении двадцати пяти лет, – интимную переписку с необыкновенной женщиной, что встретилась на его жизненном пути. Но письма в конце концов затерялись...
* * *
Софья Васильевна Ковалевская историей своей жизни положила начало спору, который продолжается и по сию пору: что есть призвание женщины? Быть замужем за работой, карьерой, славой? Как утвердиться в избранном деле и с готовностью принять груз женских обязанностей, которые требуют самоотречения ради любимых, детей, семьи? В чем суть женской жизни и женского счастья?
Когда «принцесса науки» скончалась, появились стихи в ее память:
Душа из пламени и дум!
Пристал ли твой корабль воздушный
К стране, куда парил твой ум,
Призыву истины послушный?
Софья Васильевна грустно бы улыбнулась... Истина? Разве кто-нибудь знает наверняка, в чем она? И разве наш путь на этой земле не есть лишь слабая и бесполезная попытка разгадать ее смысл? Каждый в меру отпущенных ему сил делает эту попытку, далеко не всегда получая ответ. Великая Ковалевская незадолго до своей смерти писала, что в сочиненной ею драме с математической точностью доказала всемогущую силу любви – «только она придает жизни энергию или заставляет преждевременно блекнуть».
Быть может, это и есть ответ...