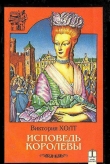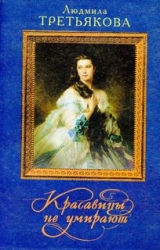
Текст книги "Красавицы не умирают"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Супруги занялись возведением в Петербурге многоэтажных домов, бань, оранжерей. Строительный бум обещал скорые и большие деньги. Софья же Васильевна понимала: без них, в постоянных хлопотах о хлебе насущном нечего и думать о возврате к научным занятиям. И она не только не остерегла мужа, но, пожалуй, подталкивала его к все большему расширению предпринимательской деятельности. Если бы она знала, чем это кончится!
Поманив большим кушем и даже принеся некий первый успех, дело начинало потихоньку разваливаться. Кредиторы, поставщики, долговые обязательства, беззастенчивое надувательство – Владимир Онуфриевич пробовал, но не мог с этим справиться. Он понял, что попал в капкан, но, легко терявший голову, не знал, как из него выбраться. И Софья Васильевна начала понимать, что строительная лихорадка приведет к краху. Однажды она увидела странный, очень испугавший ее сон. Он приснился как раз перед закладкой нового большого здания. Как будто бы большая толпа народа, обступившая строительную площадку, вдруг рассеялась. Софья Васильевна увидела своего мужа. К нему на плечо вспрыгнуло сатанинское существо и пригибало его к земле.
Теперь ее, от природы очень суеверную, дурные предчувствия уже не отпускали. Она жила в постоянном страхе. Беременность лишь его усугубила, протекала тяжело, изматывающе, бесконечно. Счастливое, как тому положено быть, ожидание превратилось в пытку. И вот родилась девочка, названная в честь мамы, Софьей. После родов Ковалевская долго и тяжело болела. Ослабленная, мучимая тревогами, она в конце концов стала уговаривать мужа покончить с сомнительными занятиями.
На беду, именно в это время Ковалевский встретил некоего нефтепромышленника. Этот искатель приключений прельстил Владимира Онуфриевича идеей быстрого обогащения. В результате Ковалевский оказался втянутым в финансовые махинации. Почувствовав неладное, жена потребовала от него немедленно выйти из игры. Но было поздно. Ковалевский понимал, что обратного хода нет, и действовал украдкой. В доме поселились недоверие и напряженность. Супруги отдалились друг от друга.
К семейной драме подтолкнуло и то, что, желая окончательно пресечь влияние Ковалевской на мужа, его компаньон-нефтепромышленник задел ее женское самолюбие. Это был верный удар. Все доводы разума для Софьи Васильевны не значили ничего, если подымала голову ревность. В этом смысле никакой разницы между маленькой девочкой, которая набросилась на свою подругу лишь за то, что ее приласкал любимый Сонин дядя, и ею теперешней, взрослой женщиной, не было. Помимо всех талантов, природа наградила Ковалевскую опасным даром: ревнивостью. Стоило этому чувству подать голос, здравый смысл, доверие к другому человеку уступали место самым черным подозрениям.
И сейчас, хотя чутье подсказывало Ковалевской, что муж ни в чем не виновен перед ней, остановить себя она не могла. В семье начались скандалы, выяснения отношений. Они переехали в Москву, но устройство на новом месте не ослабило напряжения. Снежный ком взаимных обид нарастал. В ситуации, когда все вокруг черно, невозможно жить. Нужна отдушина, просвет, маломальская удача. Вместо этого – новый удар.
Чтобы получить место преподавателя, она попыталась сдать магистерский экзамен. Ей не разрешили этого сделать и сказали, что и она, и ее дочь «успеют состариться, прежде чем женщины будут допущены к университету».
Ковалевская понимала: жизнь зашла в тупик.
* * *
Давно замечено, что талант не столько дар небес, сколько тяжкий крест. Люди, им наделенные, невероятно страдают, если не имеют возможности его реализовать. Талант требует выхода, воплощения, иначе он, словно растущая опухоль, разъедает все внутри, увеча человека неосознанной смертельной тоской.
Ковалевская, рожающая ребенка, Ковалевская, униженно хлопочущая перед кредиторами, Ковалевская, не раз в мечтах являвшаяся себе в роли богатой владелицы недвижимостью, – Софье Васильевне казалось, что вместо нее действует ее двойник. И делает он то, что ей, настоящей, совсем не нужно.
Словно со стороны, Софья Васильевна наблюдала за самозванкой. Как положить всему этому конец и вернуться к себе той, полузабытой: к формулам, книжкам, ночным мучениям над трудными задачами? Как стать свободной, чтобы жить так, как хочется жить? Для этого надо скинуть семейную обузу. Муж – он был ей сейчас не нужен, раздражал, становился олицетворением ее просчетов, слабости, заблуждений. Да, наверное, она плохая жена, не слишком заботливая мать. Пусть! Она готова признать, что в этой области бездарна. Но зачем быть презренной троечницей, если можно стать отличницей, первой из первых. Только не здесь, не в квартирке с обоями в веселый цветочек, с запахом обеда, с меховым жилетом мужа на спинке кресла, с его каждодневным вопросом: «Гуляла ли няня с Сонечкой?» Ее истинное место – теперь Софья Васильевна не сомневалась в этом – наука, и только она!
...Оставив Россию и мужа, Ковалевская, взяв маленькую дочь и лишь самое необходимое из вещей, ринулась к Вейерштрассу, единственному, на кого могла рассчитывать.
Карл Вейерштрасс за годы предпринимательских безумств Ковалевской не разуверился в ее высоком предназначении. Он стал мостиком между обрывом, возникшим было между милой его ученицей и наукой математикой. Он держал Софью Васильевну в курсе новостей в этой области, не давал погаснуть в ней интересу и желанью вернуться на престол, где она должна царить. Ни на секунду Вейерштрасс не сомневался в этом и сумел заразить своей убежденностью свою ученицу.
Благодаря немецкому другу Софья Васильевна познакомилась в 1876 году с весьма авторитетным профессором математики Миттаг-Леффлером. Обаятельный швед с пышной шевелюрой темных волос оказался учеником Вейерштрасса, которого тот буквально заразил рассказами о необыкновенной россиянке. Встретившись в Петербурге, ученики старого немца очень понравились друг другу. Через четыре года, вновь оказавшись в Петербурге, Миттаг-Леффлер рассказывал Ковалевской о том, что в Стокгольме открывается новый университет. В конце 1882 года он начал вести с Софьей Васильевной переговоры о возможности ее работы на кафедре математики Стокгольмского университета.
Тогда в сумятице семейных неприятностей, напуганная неудачами, следовавшими одна за другой, она отказалась. Еще неизвестно, примет ли Стокгольм женщину. Ах, если бы добрый профессор Вейерштрасс был рядом! Вот у кого можно было спросить: «Что делать дальше?»
Свидание с Вейерштрассом не заставило Софью Васильевну задержаться в Берлине. Она не могла простить этому городу обиду за то, что здесь ей отказали в праве сидеть на университетской скамье. Сам прусский дух был Ковалевской враждебен. Лишь добрый профессор искупал все грехи «неметчины». Теперь он слал ей письма в Париж, куда переехала Софья Васильевна.
Парижская жизнь понемногу сглаживала разочарования последних российских лет. Ковалевская много работала. Сейчас ей это шло на пользу. Она успокоилась, похорошела. В жизнь ее вошло событие, которому она хотела и не могла найти названия: любовь, романтическое приключение, такое обычное в Париже, а может, союз одиноких сердец?
Хозяйка пансиона, в котором остановилась Ковалевская, поднявшись однажды ночью, заметила, что жилище русской мадам покидает молодой мужчина. Спустившись из окна в сад, он перемахнул через ограду и исчез. Уверенность и быстрота, с которой действовал ночной гость, наводили на мысль, что он здесь не в первый и наверняка не в последний раз. Не в правилах хозяйки было вмешиваться в личную жизнь постояльцев, особенно тех, кто исправно платил и не нарушал ничьего покоя. Теперь она даже с некоторым интересом смотрела на русскую, постоянно ходившую с книжками в руках и в темной накидке, наброшенной на скромное платье.
...С молодым поляком Софья Васильевна познакомилась, едва приехав в Париж. Он оказался революционером, математиком, поэтом. А она? Приверженница переустройства России, поклонница романтики и науки. Их буквально швырнуло друг к другу, и, сложив два одиночества, они обрели то блаженное состояние души, которое им ранее было не знакомо. Ковалевская и поэт-математик постоянно были вместе, а если и разлучались на несколько часов, то сочиняли друг другу письма в стихах. Так радостно было, сидя за одним столом, их перечитывать.
Слова любви, вечное горючее, без которого стук женского сердца вял и замедлен, – как мало их слышала Софья! Такая живучая память о неудачных юных влюбленностях, необходимость носить маску законной супруги, уклоняясь от ухаживаний мужчин, – все складывалось совсем не так, как хотелось.
Детская мечта о рыцаре, совершающем безумства от страсти к ней, – вот какой встречи ей хотелось. «Я требую, – признавалась Софья Васильевна, – чтобы мне постоянно повторяли, если хотят, чтобы я верила любви ко мне. Стоит только один раз забыть об этом, как мне сейчас же кажется, что обо мне и не думают».
Должно быть, романтические отношения с поляком было как раз то, чего не хватало ей в браке с Ковалевским. Ей всегда казалось, и, должно быть, не без оснований, что любое из занятий мужа вполне заменяет ее. Она отступает на второй план. Уязвленное женское самолюбие лишало душевного покоя. А она еще не бегала на свиданья, ее не ревновали, и она не теряла голову от страсти. Ей уже перевалило за тридцать. Скоро она начнет стареть. Диплом же доктора математики – теперь Ковалевская отчетливо понимала это – не в состоянии возместить отсутствие полнокровной жизни сердца. Вот почему парижская страсть со всеми ее романтическими атрибутами – ночь, тайные свидания, пылкие послания – явилась как воплощение давней и затаенной мечты. Но какая женщина не согласится с тем, что именно такое абсолютное, идеальное счастье неживуче и обрывается неожиданно!
Письма из России то и дело возвращали Софью Васильевну к печальной реальности. Ковалевский оставался ее мужем и отцом ее дочери. Кроме того, как это часто и необъяснимо бывает, даже после всех семейных дрязг, даже в очарованности поляком Софья Васильевна не могла поручиться, что с привязанностью к Ковалевскому окончательно покончено. Оттого в ее письмах отчаянные резкие фразы перемежались словами любви и нежности.
И вот в самый разгар своего парижского романа она получила письмо, написанное незнакомой рукой. Ее извещали, что Владимир Онуфриевич покончил жизнь самоубийством.
...Несколько недель Ковалевская лежала в жесточайшей горячке. Когда наконец поднялась, хозяйка пансиона поразилась перемене, произошедшей в ней. Чистое, светлое лицо Ковалевской, не собиравшееся прощаться с юностью, будто подернулось пеплом. Глаза смотрели измученно.
Едва собравшись с силами, Софья Васильевна выехала в Россию. Дальняя дорога, когда нечего было делать, а только думать и вспоминать, вспоминать и думать, растягивала донельзя ее страдания. Угрызения совести не давали покоя. Она старалась быть честной и не могла не признать, что в этой страшной кончине повинна и она. Владимир остался один на один со своей бедою. Его доконал не денежный крах, что он, вероятно, пережил бы. Но мужа обвинили в мошенничестве, обесчестили. И тогда его рука потянулась к газовому крану.
...Приезд в Россию был печален. Без Софьи Васильевны схоронили ее отца. Без нее опустили в землю гроб мужа. Эти две утраты как-то особенно остро чувствовались здесь, на родине. Любимый теплый дом в Палибино без хозяина пуст. Пусто и в их с Владимиром некогда семейном обиталище. Пусто было и на сердце. Единственная мысль не дает покоя: муж умер оклеветанным. Словно выполняя невысказанное желание покойного, Софья Васильевна взялась хлопотать о восстановлении его честного имени. Задача была трудная: она наткнулась на равнодушие и откровенную бессовестность. Тем энергичнее и настойчивее становились ее действия. Ковалевская не успокоилась, пока правда не восторжествовала. Это была горькая радость, вслед за которой пришли неотвязные раздумья: как, чем жить дальше?
Неожиданно она получила письмо от Вейерштрасса. Он как будто угадывал, когда ей было особенно плохо, и неизменно предлагал помощь. Милый, добрый старик! Девятнадцать лет, с того самого момента, как женщина в нелепой шляпке переступила порог его жилища, его мысли неизменно будут обращены к ней. Но все, что достанется профессору от его безмолвного чувства к Ковалевской, – это пачка писем, которую он бросит в огонь камина, узнав, что пережил свою ученицу.
Однако в тот час, когда Софьей Васильевной владело полное смятение, он напоминал ей, что у нее есть верный друг. А стало быть, есть дом, где она может жить на правах его сестры, – профессор не смел предложить большего.
Берлин? Но там нет для нее работы, думала Софья Васильевна, а нахлебницей у доброго Вейерштрасса она не станет. В поисках выхода Ковалевская написала Миттагу-Леффлеру в Стокгольм. Она боялась его «да» так же, как и «нет». Если «да» – сумеет ли она, женщина, к которой наверняка отнесутся предвзято, остаться на высоте и не подвести симпатичного шведа? А он прислал ответ: «Да». Осенью 1883 года Ковалевская пишет Миттагу-Леффлеру: «Я надеюсь долгие годы провести в Швеции и найти в ней вторую родину». В ноябре, оставив дочку родственникам, она отправилась в Стокгольм... Балтика в это время особенно неприветлива. Свинцовые облака неслись вслед пароходу, плывущему в неспокойных волнах. Куда она направлялась, зачем? Оторвавшись от земли, которая была к ней так сурова, Софья Васильевна не чувствовала радости освобождения.
В Швеции она проведет почти восемь лет, до самой смерти. Отлучки в Россию и во Францию будут недолгими.
* * *
Первое, что делает иностранец, пока не врос в новую среду, – сравнивает. Не нужно было особенных стараний, чтобы заметить, насколько люди здесь мягче и предупредительнее. Это свойственно всем: толпе, суетящейся возле рыночных прилавков, и членам парламента. Конфликтов, выяснений отношений, желания насолить друг другу не было, и Ковалевская сделала вывод, что это итог куда более спокойной, чем у России, истории.
Приятно удивил ее и новый университет – дитя частной инициативы и добровольных пожертвований. Система обучения здесь была гибкая, направленная на то, чтобы в первую очередь удовлетворить человека, пришедшего учиться, а не департамент просвещения. Стоит ли говорить, как приятно было Ковалевской видеть в студенческой толпе женские лица. Мужчины и женщины допускались к слушанью лекций на совершенно равных правах и безо всяких оговорок.
Сначала Ковалевской было предоставлено место приват-доцента, а летом 1884 года ее назначили ординарным профессором. Она читала четыре лекции в неделю, то есть два дня по два часа подряд. Кроме того, на ней лежала обязанность участвовать в заседаниях университетского совета. Безусловно, это льстило самолюбию Ковалевской, все-таки ожидавшей, что дискриминация ее, как ученой-женщины, даст себя знать. И потому она подчеркивала особо: «Я имею право голоса наравне с прочими профессорами».
На первых порах Ковалевская предложила своим слушателям выбрать, на каком языке они хотели бы слушать ее лекции: на немецком или французском. Они выбрали первое. А их профессор уже упорно штудировала шведский. Сверходаренная к тому же и трудолюбием, и упорством, Ковалевская настолько быстро им овладела, что на второй год смогла читать лекции и на шведском.
Благополучное вхождение в университетскую среду окрылило Ковалевскую. Она почувствовала себя на взлете. И, словно беря реванш за российские годы, ничего не давшие научной карьере, принялась наверстывать упущенное. А поставив перед собой какую-либо цель, она была беспощадна к себе. Работа по ночам, без выходных и праздников, работа до полного изнеможения.
От чрезмерных перегрузок у нее стали выпадать волосы, и она, как истинная женщина, с нескрываемым ужасом переживала это. Но по-прежнему свет в ее окне гас с восходом солнца. Еще бы! Софья Васильевна понимала, на что замахнулась. Если сначала ей хотелось достигнуть таких результатов, чтобы ни одна женщина не смогла соперничать с ней на стокгольмской кафедре, то скоро ставки повысились. Она пишет: «Я бы не хотела умереть, не открыв того, что ищу. Если мне удастся решить проблему, которой я занимаюсь теперь, то имя мое будет занесено среди имен самых выдающихся математиков».
Но стать избранницей истории трудно, очень трудно. Тщеславие же Ковалевской равновелико ее таланту, и никакие жертвы не пугали ее. Сейчас или никогда.
Уже первый «шведский» 1883 год приносит ей успех. Большая работа о преломлении света в кристаллах вызвала, по словам Ковалевской, «впечатление в математическом мире».
* * *
Разумеется, благополучное вхождение в научную элиту Швеции придало Ковалевской уверенности. Не без тайного удовлетворения читала тридцатитрехлетняя женщина в газете:
«Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или тому подобного, высокого, но ничего не значащего лица. Нет, принцесса науки, г-жа Ковалевская почтила наш город своим посещением и будет первым приват-доцентом женщиной в Швеции».
Итак, она могла себе сказать, что цель, которая потребовала столько жертв, ради которой она ринулась по неизвестному, таящему опасности пути, достигнута. Ученый мир признал ее настолько, что доверил воспитание молодых математиков.
Ковалевская могла поздравить себя и с тем, что стокгольмский свет, как везде придирчивый и подозрительный к чужеземцам, отдал должное ей и как математику, и как женщине.
«В особенности интересна г-жа Ковалевская; она профессор математики и, со всей алгеброй, все же настоящая дама. Она смеется, как ребенок, улыбается, как зрелая и умная женщина... На лице ее происходит такая быстрая смена света и теней, она то краснеет, то бледнеет, я почти не встречал раньше ничего подобного. Она ведет разговор на французском языке, свободно изъясняется на нем и сопровождает свою речь быстрой жестикуляцией. Это могло бы действовать утомительно, если бы не было очаровательно; она похожа при этом на кошечку», – пишет один из светских знакомых Ковалевской, и его впечатление подтверждается многими другими.
Более того, нежелание Софьи Васильевны в глазах людей выглядеть научным светилом ставило в тупик. От нее ожидали высокоумия, мудрствований, полного пренебрежения ко всему, что не наука. И ошибались. «М-м Ковалевская мило-детски улыбается, но я ожидала в ней больше содержания, чем нахожу», – даже с долей некоторого разочарования признается стокгольмская дама.
Желанную гостью в научных и светских салонах шведской столицы Ковалевскую называли «Микеланджело разговора». «Без малейшего желания учить или первенствовать, – вспоминала ее друг Эллен Кэй, – она делалась всегда центром, вокруг которого собирались заинтересованные слушатели. Своей безыскусственною простотой и сердечностью она делала людей общительными; умела слушать, хотя это ей редко приходилось, охотнее слушали, как она сама говорила, а еще более рассказывала».
...Оставшиеся фотографии не передают всего внешнего очарования Ковалевской. Но в том, что судьба наградила ее счастливой внешностью, не стоит сомневаться. Доказательством тому – многочисленные воспоминания современников в разные периоды жизни Ковалевской, сходящиеся на том, что эта женщина обладала необыкновенной притягательностью.
Пристальные взгляды, под перекрестье которых Ковалевская попадала, стоило ей где-нибудь появиться, оставили примечательные черточки ее внешности. Отмечали необыкновенно красивые очертания чувственного рта... Когда Софья Васильевна улыбалась, на щеках появлялись очень молодившие ее ямочки. Даже несколько крупноватая для миниатюрной фигуры голова не портила дела. Лицо было очень подвижно и мгновенно отражало настроение, неровное, часто меняющееся. Оно то угасало, то вспыхивало, но никто бы не заметил на нем ничего неопределенного, невыразительного. Внешность Ковалевской, что характерно для впечатлительных, художественных натур, была продолжением ее внутренней сути.
Она знала, что продолжает нравиться, как в молодости. Это тем более льстило, что вся скандинавская элита состояла в ее знакомых. Тут были и шведский исследователь Арктики Н.Норденшельд, известный датский публицист Г.Брандес, драматург Г.Ибсен, шведский писатель А.Стриндберг и многие другие.
Софья Васильевна прилагала немалые старания, чтобы усилить производимое ею впечатление. Ей нравилось поклонение, и она старательно подогревала отношение к себе не как к феноменальному явлению в научном мире, а как к женщине красивой и эффектной.
Чтобы блистать на придворных балах, Софья Васильевна брала уроки танцев. Кавалерами были ее поклонники. Начала учиться ездить верхом и любила рассказывать о себе как об опытной наезднице. Это милое сочинительство ей с готовностью прощали, ибо широко было известно, что при малейшем движении лошади Софья Васильевна страшно пугалась и умоляла: «Пожалуйста, господин шталмейстер, скажите ей «стоп»!»
Где у Софьи Васильевны дело продвинулось вперед, так это в катании на коньках, которым она стала упорно заниматься. Чтобы публика не глазела на госпожу профессоршу, делавшую первые неуверенные шаги на льду, один из ее поклонников залил каток у себя в саду.
Скоро Софья Васильевна в изящном костюме смогла показаться на льду, с удовольствием слушая комплименты в свой адрес. Вот как описывала подобную сцену одна из свидетельниц ледовых успехов Ковалевской: «Когда я приходила после школы на каток, то иногда наблюдала там, как профессор Леффлер катался на коньках вместе с профессором Софьей Васильевной Ковалевской, которую он всюду сопровождал, как верный рыцарь. Они напоминали мне одну пару, о которой я читала в каком-то русском романе: его богатая шевелюра выбивалась из-под большой меховой шапки, а она со своими локонами походила на Анну Каренину – на ней была широкая юбка с меховой опушкой и фалдистый жакет, обрамленный тем же мехом. Про них рассказывали, что, ведя все время между собой математические разговоры, они и коньками выписывали математические формулы...»
В отличие от многих «новых» женщин, чрезвычайно небрежно относившихся к своей внешности, Софья Васильевна придавала большое значение тому, как и во что она одета. К сожалению, как отмечали внимательные дамы, Ковалевская не обладала искусством одеваться. Она знала за собой этот грех и обычно просила подругу-польку, известную изысканным вкусом, выбирать для нее туалеты.
Широко известное изображение Ковалевской в скучном полосатом платье далеко не отражает настойчивого стремления «принцессы науки» следовать новейшим изыскам парижской моды.
Вот любопытная зарисовка, сделанная рукой самой Софьи Васильевны: «...я сижу в белом пеньюаре, с цветами и золотой бабочкой в волосах – через час я должна ехать на большой бал к норвежскому министру, там будет и король и все принцы».
В письмах Ковалевская тщательно помечает знаки внимания, оказанные ей как женщине. Обилие мужских имен, правда, наводит на мысль, что сердце Софьи Васильевны всерьез никем не занято. Это подтверждается и ее собственными словами: «Что же касается моей частной жизни, то вы не можете себе представить, до какой степени она вяла и неинтересна».
...Кем бы женщина ни была: адвокатом, балериной, проводником дальнего следования, космонавтом или барменшей, – у нее есть своя, особая «история женщины». Род занятий, успехи в профессии в этой истории не играют никакой роли, или роль эта слишком незначительна. Скромная библиотекарша в немодном пальтишке может быть столь удачлива и благополучна чисто по-женски, сколь фатально невезуча, скажем, экранная дива, чье имя у всех на устах. Стремление найти свою пару на этой земле, быть чьей-то избранницей уравнивает всех женщин на свете.
Вот почему удачный стокгольмский дебют не мог заставить Ковалевскую не думать о том, что, пожалуй, это печально – быть ничьей. Умной, знаменитой, красивой, обаятельной – и ничьей.
* * *
Летом 1886 года Ковалевская отправилась в Россию за дочерью, которую, уезжая в Стокгольм, оставила у родных. Все время ее вживания в новую почву стокгольмские дамы изводили Софью вопросами, как она может так долго жить в разлуке со своим ребенком. Хотя профессор Леффлер советовал российской гостье не обращать внимания на «шведский курятник», эти разговоры, видимо, уязвляли Ковалевскую.
Действительно, маленькой Софье уже исполнилось семь лет, а виделась она с матерью урывками. Впрочем, надо вспомнить, с какими опасениями Ковалевская ехала в Стокгольм, сколько сомнений у нее было, сложится ли у нее здесь карьера. Именно этим объясняется ее долгая разлука с дочерью. И, только убедившись, что сможет создать девочке хорошие условия, она привезла ее в Стокгольм.
Спустя много лет Софья Владимировна вспоминала, что, когда она сошла на шведский берег, их с матерью никто не встретил. Видимо, это неприятно удивило девочку. Но стоял конец лета, и знакомые Ковалевской еще были на даче.
Они наняли ручную тележку для багажа, дав носильщику адрес, а сами отправились через большой сад, где Соню поразили огромные цветущие агавы.
На первых порах Софья Васильевна сама занималась с дочерью русским языком, читала ей русские книги. Когда Соня немного пообвыклась, Ковалевская отдала ее в шведскую школу. Дочь знаменитой матери привлекала внимание, и девочку часто спрашивали, любит ли она математику. На что Софья-младшая отвечала, что похожа на своего отца и к математике совершенно не способна.
Из множества людей, посещавших их дом, в памяти девочки остался красивый, словно король экрана, человек. Это был Фритьоф Нансен.
...Умевшая влюбляться мгновенно и безоговорочно, Ковалевская сразу выделила Нансена среди тех людей, знакомство с которыми подарил ей интеллектуальный Стокгольм. Все ярко, необычно было в этом человеке, начиная от внешности, просившейся на холст, и кончая манерой одеваться. Ковалевской нравился жизненный задор Фритьофа, этот неудержимый порыв, способность, махнув рукой на трудности, смертельные опасности, весело и дерзко служить своей идее. Это так сближало Ковалевскую и ее друга-полярника.
Они оба были не только романтиками, но и людьми дела, по праву прибиравшими к рукам положенную им славу. О Нансене Ковалевская писала, что «на великом жизненном пиру» великий норвежец «получил именно ту порцию, которую он сам желал».
Когда Нансен посвятил Софью Васильевну в план предполагаемого похода через льды Гренландии, она испугалась: так рисковать своей жизнью! Фритьоф украшал собою Стокгольм, когда приезжал сюда, свою суровую Норвегию, да и, пожалуй, весь мир. Но Софья Васильевна знала, что никакие силы во Вселенной не заставят этого рыцаря ледяного королевства отказаться от задуманного. Он пойдет – и выиграет!
Об этом знакомстве, быстро приобретшем черты любовной интриги, в Стокгольме много говорили. Нансен был на одиннадцать лет моложе Софьи Васильевны, но ни тому, ни другому не было дела до арифметики. Наблюдавшие их стремительное, радостное сближение поговаривали о том, что в дальнейшем оно могло решающим образом изменить судьбу обоих.
Но романтическим отношениям двух красивых и таких значительных людей не было дано счастливого завершения. В Норвегии Нансена ждала невеста. Он был помолвлен и не решился нарушить данное слово в угоду нахлынувшему чувству к обаятельной россиянке. Ковалевская всегда тяжело переносила неудачи любого толка, что, конечно же, очень осложняло ее жизнь. Но к счастью, на сей раз обошлось без особых переживаний.
Может быть, причиной тому была случайная встреча в Париже. Давний знакомый, математик и профессиональный революционер-эмигрант П.Л.Лавров, познакомил ее с Максимом Максимовичем Ковалевским.
Они протянули друг другу руки, рассмеявшись, – однофамильцы! Софья Васильевна заметила: человек, стоявший перед ней, как бы застил свет – настолько мощной, внушительной казалась его фигура. Он не походил на записного красавца, но простое лицо было умно и значительно, а глаза, насмешливые, пронзительные, глядели на нее весело и с интересом.
В Софье Васильевне заговорила женщина, умеющая выбирать и ценить добротную мужскую породу. Что бы там ни было, с первой встречи и до конца она не изменила мнения о могучем бородаче – это был человек, о котором она с удовольствием написала бы не один роман. Судьба уготовила ей участь стать героиней его романа...
* * *
Максим Максимович Ковалевский родился в богатой дворянской семье в 1851 году. Стало быть, с Софьей Васильевной они были почти ровесники.
Отец Ковалевского, участник войны 1812 года, вышел в отставку в чине полковника кирасирского полка. До пятидесяти пяти лет он дожил холостяком. В этом почтенном возрасте его настигла страсть к девушке, на двадцать семь лет моложе его. Он поспешил жениться на ней, получив от шутников-приятелей прозвище Мазепа.
Шутка шуткой, но выбор Максима Максимовича-старшего был на редкость удачен. «Эта умная и необыкновенно сердечная женщина, – вспоминал Максим Максимович-младший, – получившая при этом хорошее эстетическое воспитание (она сама занималась живописью, музыкой и пением и была знатоком французской литературы), несмотря на свою молодость, красоту и светские успехи, всецело отдала себя заботам обо мне». Именно матери, считал Ковалевский, он обязан интересом к истории и этнографии. Это она со всем терпением и вниманием к его маленькой жизни развивала природные способности. Ее труды, тихое самопожертвование с лихвой были вознаграждены. Сын стремительно расправлял крылья: в гимназию поступил сразу в пятый класс и окончил ее с золотой медалью. Эту награду дали ему нехотя: ученик не отличался благонравием и почтительностью к гимназическому начальству. Потом Ковалевский поступил в Харьковский университет, где пришлось хитрить, так как ему не было и семнадцати. Тем не менее преподаватели говорили о нем, как о будущей «звезде». Юридический факультет Ковалевский окончил в числе лучших студентов, а подготовку к магистерскому экзамену проходил в высших учебных заведениях Берлина, Парижа, Лондона.
Вот как характеризовал Максима Максимовича приятель его молодости Климент Аркадьевич Тимирязев: «Молодой, талантливый, блестящий, остроумный, в совершенстве владевший шестью, а может быть, большим числом языков, лично знакомый со всеми видными представителями в избранной области и в то же время не уклонявшийся от самого тяжелого, усидчивого, казалось бы, скучно специального труда – он, конечно, являл собой редкое явление в рядах научных деятелей всего мира».