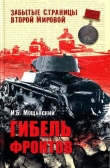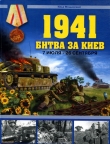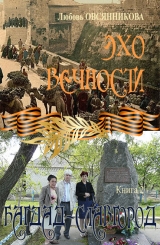
Текст книги "Эхо вечности. Багдад - Славгород"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Содержание коровы оказалось делом хлопотливым, таким, что заполняло весь день, но простым по исполнению и не тяжелым. Фактически Борис Павлович имел возможность и на природу выезжать и в компаниях погулять – особенно если зеленую массу для коровы не сам косил, а брал на фермах.
Иногда у него были и торжественные моменты – когда он со своими молочными продуктами выходил на базар, где у него тоже собрался круг общения. Там он подолгу обсуждал марки сепараторов, жаловался на их низкое качество, узнавал новые рецепты сыров. А также решал то, на какое пастбище гонять корову, какому пастуху доверять выпас, какими травами ее лучше кормить вечером.
Особенной заботой стали кошение и заготовка сена на зиму.
За тем, чтобы Борис Павлович не заскучал, зорко следила Прасковья Яковлевна. Каждый день она находила что-то новое для него, просто неистощимо выдумывала всякие занятия – то ветеринара к коровке надо было пригласить, то к быку ее сводить, то роды принять, то телят с бутылочки кормить, то к новым хозяевам пристраивать их...
Пошли дни спокойные и однообразные, но ход их с каждым годом убыстрялся. Яркими событиями пенсионная жизнь Бориса Павловича не изобиловала. Да он и прожил на пенсии всего 10 лет, причем 2 последние из них уже жестоко болел...
Врастание в местную историю
Любовь Борисовна, младшая дочь Бориса Павловича, математик по образованию, выпускница мехмата, при первой возможности начала писать книги.
Ничего удивительного родители в этом не увидели – она еще в старших классах начинала этим заниматься, и после окончания школы искала университет, в котором бы филологический факультет готовил редакторов, а не учителей... Попасть в любой вуз для нее не составляло труда – у нее была Золотая медаль, гарантировавшая поступление, надо было только сдать на «отлично» профилирующий предмет, с чем она бы, конечно, справилась. Искомые ею вузы в Союзе были, но только в центральных городах России. А родители отпускать дочь далеко от себя не решались – слабая она еще была после болезни.
На производство идти дочь тоже не хотела. Медицина ее отвращала страданиями и кровью...
Поэтому она выбрала Днепропетровский мехмат, единственный университетский факультет, где готовили специалистов для науки. Дела с математикой у нее были еще лучше, чем с филологией. Она увлекалась теорией натуральных чисел, интересовалась поисками формулы простых чисел. Но... в математике она видела меньше романтики, чем в литературном творчестве, где ее увлекал подвиг Виссариона Григорьевича Белинского, по сути сформулировавшего принципы русской литературы, которые затем легли в основу прекрасного советского метода – социалистического реализма.
И вот, в новые времена, она занялась книжным бизнесом, а параллельно издательским делом, что невольно вернуло и приблизило ее к детской мечте. Вокруг нее замелькали поэты да писатели, журналисты да издатели, начали интересоваться ее биографией, родителями...
Среди редакторов оказался поэт Константин Чернышев – почти родственная душа. Он окончил школу в соседнем селе и классным руководителем у него был тот же учитель, что и у Любовь Борисовны. Разумеется, учитель перешел на работу из того села в Славгородскую школу. Но все равно как было не удивиться такому совпадению?!
Через поэта-земляка с Борисом Павловичем познакомилось много днепропетровских литераторов. Первым, конечно, стал поэт-фронтовик Михаил Селезнёв, с которым его дочь работала в одном институте – ВНИИмехчермете, потом Любовь Голота – родная сельская душа. Ну и дальше по списку поэт Сергей Андреев, тоже работавший на ниве точных наук, писатели-фантасты Василий Головачев и Виктор Савченко – из той же когорты писателей-технарей, и др. Даже вместе с дочерью Борис Павлович ездил в Киев к основоположнику украинской советской фантастики Олесю Берднику, книги которого дочь переводила на русский язык. Да, говорил с ним, рассказывал, как его первые книги они в семье вслух читали, но больше Олеся Павловича слушал...
В беседах с умными людьми Борис Павлович не терялся, рассказывал то, чем некогда развлекал однополчан на войне: народные побасенки, были-небылицы да легенды про интересных людей. Артистический талант Бориса Павловича удивлял собеседников, готовых хоть вечность его слушать. Рассказывал он им и о своем отце, которого уже не было в живых и вместе с которым ушли в небытие все табу на упоминание его имени; и об удивительном знаке, поданном свыше, перед возвращением шурина из фашистского полона; конечно, вспоминал свой плен и побег на ходу поезда... Умел он сделать эти рассказы интересными, так закрутить ход событий, что никто не мог догадаться, чем дело кончится. Внимали ему люди затаив дыхание.
И все литераторы да просвещенные свидетели бесед с Борисом Павловичем отмечали, что его интересные истории должны продолжить свою жизнь в художественном слове, и возлагали эту задачу на младшую дочь. Беседы эти не выдуманы, они записаны на диктофонной пленке.
Тогда Борис Павлович, видя, что дочь записывает услышанные побасенки да его голос и понимая, что она хочет сохранить это для потомков, начал надиктовывать ей свой репертуар и события своей жизни. Вот из такого источника и появилась данная книга.
Но прежде было у Любови Борисовны то, что называют пробой пера – она записывала отдельные отцовы рассказы, читала ему, переделывала – добивалась одобрения. А потом этих рассказов набралось так много, что можно было издать отдельную книгу. И они вместе начали продумывать, чем эти рассказы связать, какую общую ниточку через них провести. Долго думали...
И вдруг Борис Павлович вспомнил одну знакомую, которой никак не удавалось родить ребенка от своего мужа. Как-то, будучи у них в гостях, она в душевном разговоре призналась в этом хозяевам. А Борис Павлович возьми да и посоветуй ей втихую родить от солнечного света.
Пришло ему это в голову потому, что он видел у жены в магазине репродукцию картины «Даная» иностранного художника прежних времен Рембрандта ван Рейна.
Знакомая сильно удивилась, даже глаза на Бориса Павловича выпучила, думала, что он насмехается над ней. А он нет, вполне серьезно говорил. Видит она, что чисто по своей сельской глупости не понимает хорошего человека. Так ему и сказала.
– Не разберешь этих буржуев где у них имя, а где фамилия, – развлекал гостью Борис Павлович. – Но картину он нарисовал хорошую, убедительную, а главное – глубокомысленную. Ты купи ее себе, повесь в комнате и привыкай к этой мысли. Может, и догадаешься, на что я намекаю.
Ну, чем там дело кончилось, Борис Павлович не знал – та знакомая уехала из Славгорода и своего мужа с собой забрала. А получила эта история продолжение совсем в другом направлении.
Любовь Борисовна опубликовала ее, конечно, изменив имена. Прошло немного времени. И вдруг подходит к Борису Павловичу одна приличная женщина, недавно овдовевшая. И говорит:
– Как вам, Борис Павлович, не стыдно людские секреты на всеобщее посмешище выставлять? Вы же приличный человек... Ну узнали что-то обо мне, ну и молчите себе на здоровье.
– Какие секреты? – испугался Борис Павлович. – О чем?
– А что, разве вы своей дочке никаких секретов обо мне не выдавали, для опубликования?
– Никаких! – поклялся Борис Павлович. – Клянусь, у дочери все выдуманное. А если об ком я и говорил, так по согласию персонажа. Как про Пепика, например.
– Тогда извините, – засмущалась та женщина и откланялась.
Вот Борис Павлович и подумал: ну чем это не ниточка, если эти две истории связать, да приукрасить чуток. И сказал об этом дочери. Та сразу же взялась за работу.
Но до выхода книги Борис Павлович не дожил. Только начало ей было положено, да вмонтированы в нее его побасенки...
После смерти отца Любовь Борисовна прекратила работу, не могла писать. К годовщине памяти о нем издала книгу «Дом памяти» с тем материалом, что у нее уже был, и всё.
Прошло несколько лет, и только к своему 60-летию она завершила начатую при отце работу. Так появился роман «Наследство от Данаи», память о совместном творчестве с Борисом Павловичем.
Создание телефильма
Были у Любови Борисовны знакомые творческих профессий и на телевидении, которые привлекли ее к своей работе. Во-первых, они считали ее неистощимой на интересные идеи, которые охотно подхватывали, а во-вторых, находили фотогеничной и предложили вести передачи, которые она готовила как редактор. Возможно, имело значение и то, что среди них был поэт Владимир Сиренко, заядлый антисоветчик, знакомый со многими правозащитниками, в том числе и с членами Киевской Хельсинской группы[77], такими как Николай Руденко и Олесь Бердник. Ну, Николая Даниловича, автора известного советского романа «Вітер в обличчя» и прелестной феерии «Чарівний бумеранг», на описываемый момент уже не было в живых – сгинул где-то в Америке. А Олесь Павлович жил в Киеве и еще здравствовал, учил своих последователей истинной любви к украинской культуре. Он напутствовал своих слушателей и почитателей в русле тех истин, которые сам выстрадал. Любови Борисовне, например, оставил завет: «Если хотите сохранить украинскую культуру, уезжайте с Украины, лет через двадцать здесь будет ад». Знал мудрый человек, о чем говорил!
Тут много нитей переплелось, обо всем не расскажешь. С Олесем Павловичем Любовь Борисовну познакомил Василий Головачев, что она восприняла как логически обоснованное событие, ведь и тот и другой были писателями-фантастами, причем классиками. И вдруг совсем неожиданно сюда вплелся Владимир Сиренко – не фантаст и не классик. Да, Бердник, Головачев и Сиренко состояли что называется в одном диссидентском круге, но в остальном это были совершенно разные люди, ни в чем не совместимые, не совпадающие. Ни в чем не схожие.
Но сейчас речь о Сиренко. Он высоко ценил способности Любови Борисовны и, несмотря на диаметральную противоположность мировоззрений, поддерживал с нею дружеские отношения. Наверное, благодаря тому, что Любовь Борисовна располагала к искренности. В самом деле, при ней Владимир Иванович сбрасывал маску, под которой диссидентствовал, и отдыхал от своих неблаговидных ролей. Просто становился самим собой. Нет, нельзя сказать, что он соглашался с нею, но прекращал играть на публику, вещать свои лозунги и даже иронизировал над тем, в чем ему приходилось принимать участие.
Познакомившись с Борисом Павловичем, Владимир Иванович проникся к нему симпатией как к человеку цельному, много пережившему. Они часто виделись, говорили обо всем на свете, не очень добиваясь согласия в оценках. Просто они были ровесниками одной эпохи, живыми участниками многих ее событий. Это их сближало, потому что таких людей с годами становилось всё меньше. Глядя на них, казалось, что последние свидетели эпохи радуются друг другу, даже если некогда были врагами.
Однажды Владимир Иванович, слушая Бориса Павловича, предложил ему рассказать о своей жизни на камеру, чтобы потом из этого материала сделать телефильм.
Борис Павлович крепко задумался, а когда Владимир Иванович ушел, сказал Любови Борисовне:
– Не подставляй меня.
Она ничего не поняла. Настолько не поняла и настолько ничего, что тогда промолчала – не нашлась что спросить. Позже ей показалось, что отец осмыслил, что собой представляет Владимир Иванович, и испугался. Конечно, остерегаться было чего. Но только к Любови Борисовне Сиренко относился иначе – тут трудно слово подобрать – как к своей неиспорченной совести, что ли.
С течением времени Борис Павлович увидел Владимира Ивановича в том же свете, что и дочь. Глядя на нее, отец понял, во-первых, как надо с этим человеком держаться и, во-вторых, что в данном случае от Владимира Ивановича подвоха быть не могло.
Общение Бориса Павловича в кругу литераторов продолжалось. В конце концов он разгадал каждого, убедился, что и дочь всем знает истинную цену. Тогда только согласился с предложением Владимира Ивановича. И они сделали получасовой фильм с очень осторожным рассказом Бориса Павловича о себе, о своих взглядах на исторические события.
Эта запись сохранилась. Пока жива была Прасковья Яковлевна, она ее часто смотрела, собирая у себя соседей и знакомых, угощая их ужином и заодно поминая мужа. Теперь дочки реже смотрят его, просто уже знают этот фильм наизусть.
Последние дни
Мы не от старости умрем —
от старых ран умрем.
Семен Гудзенко[78]
Любовь Борисовна была в книжном магазине, когда ей позвонил Борис Павлович и пожаловался, что на Рождество 1999 года его с утра пробила какая-то боль, такая сильная, что он чуть не упал. И тут же успокоил:
– В больнице сказали, что это авитаминоз. Мне дали попить какие-то таблетки и все прошло.
Так начиналась его страшная болезнь, усевшаяся на старые раны, охватившая всю его правую сторону груди... Как тут не быть суеверной, коли все мужчины на улице Степной ушли от этой болезни... Что случилось со Славгородом?
Но тогда Любовь Борисовна ни о чем таком не подумала.
Что могло случиться с ее крепким от природы отцом? Да он по-настоящему и не болел никогда! Правда, кой-когда в эпидемии гриппа тяжело им заболевал и по неделе лежал пластом. Тихо так лежал, ненадоедливо. Прасковья Яковлевна как-то боролась с тем недугом, и всё. Ну, пару раз радикулит его прихватывал. Тоже Прасковья Яковлевна там справлялась.
Чаще всего у Бориса Павловича болели колени, особенно правое – напухали, мешали ходить. Он все грешил на переохлаждения, в речку при ловле рыбы старался не заходить. И всё их чем-то мазал... Но так, чтобы брал больничный бюллетень или хромал от болей, – такого не помнится.
Лет в 70-75 начало беспокоить его давление. Не постоянно держалось, а так... под вечер поднималось, и то не всегда, а только после съеденной свинины. Борис Павлович старательно с ним боролся, свинину не ел и вообще не переедал, особенно во второй половине дня. А когда чувствовал, что не уберегся, то в малых дозах пил «Адельфан», таблетки от давления. Ему этого хватало. Со временем он постепенно вошел в свой режим, питался без крайностей, но аккуратно, и гипертония от него отцепилась.
Больше всего он страдал от фарингита, который откуда-то у него взялся, тоже на восьмом десятке. Причем протекал без температуры, но возникал как бы беспричинно, неожиданно. Страдания обусловливались исключительно страхом. Как только Борис Павлович чувствовал, что начинает болеть горло, так прямо менялся в лице и спешил помочь себе. Но лечиться он умел, и был в лечении упорным. Сначала пил таблетки, назначенные врачом. А потом, видя безрезультатность медицинских предписаний, вычитал где-то, что помогает прополис, и начал им спасаться. Сам делал настойку и регулярно на ночь смазывал горло, пока добился того, что фарингит отступил навсегда.
Ну и еще одна хворь у него была, которую он тоже сам вылечил, без посторонней помощи. Дело было в его ранней молодости. Годы тогда были тяжелые, неурожайные, голодные... Но не с этим Борис Павлович связывал свою болезнь, а с тем, что однажды долго поспал на сырой земле. Так или нет, но приключился у него гастрит. Начал болями изводить. Опять же, помыкавшись по врачам, Борис Павлович последовал от кого-то услышанному совету – через каждых полчаса что-то съедать, чтобы желудок пустым не оставался. Ну что в его положении можно было носить с собой и регулярно есть?
Тут кстати Прасковья Яковлевна пошла работать в школьный буфет. А там же что в основном продавали? Печенье, пряники, конфеты... Вот и начала она носить мужу печенье. Всегда оно у него в карманах было. Посмотрит Борис Павлович на часы и съедает две-три печенинки. Месяц и второй, весной и летом, год и два... Злые языки бесчинствовали: «Как пошла жена на работу, так он теперь печеньем запихивается...» До него доходили эти разговоры, но он на них внимания не обращал. И ушла-таки от него болезнь! Навсегда. Никогда больше о себе не напоминала.
А теперь вот... серьезный недуг случился.
Вскорости была и протонная терапия[79], и химиотерапия[80] – раз, а через год второй раз. Через всё прошел бедный Борис Павлович. Уходя из жизни, держался достойно, мужественно.
Не стало его 19 января 2001 года, в 6:30 утра, и панорама покинутого им мира от горя и оторопи застыла на мгновенье.
При Борисе Павловиче находились Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна.
Для них двоих мир вдруг опустел, резко сузился. Раньше в славгородских окрестностях каждая выемка или кочка, каждая купа деревьев или лесополоса – имели свои названия. Местная география была не только изучена им, но расширена и доработана до совершенства. Рассказывает, допустим, Борис Павлович, где Андрей Баран перевернулся с мотоциклом, так не разводит руками и на тычет пальцами со словами «вон там» или «туточки», а четко говорит, что это случилось в Кривобокой выемке у второго Бигмовского буерака. После такого указания каждый пойдет и найдет это место. Славгородцы и жители ближних деревень знали местные названия. Но это если слышать их! А если самому сказать – тут они терялись от нехватки знаний. Это как знание любым русским человеком украинского языка – когда кто-то говорит, он всё понимает, а сам сказать не умеет.
Но теперь, лишившись носителя, славгородская география умерла, растаяла, оставив по себе грустные сожаления.
Удивляло в уходе Бориса Павловича одна аномалия: теплая осень держалась в природе до самого его погребения, несмотря на сроки. Такое тепло стояло, что даже поминки по нему проводились во дворе. Потом уж в день-два зима настала с умеренными морозами и снегом да и продержалась до весны.
Люди проживают разные жизни – счастливые или нет. Но на последнем рывке их судьбы выравниваются, ибо все уходящие становятся проигравшими и умирают, одинаково мучаясь и сожалея о расставании с миром. Их материальные оболочки больше не могут преодолевать земные тяготы, а души жаждут бессмертия, элегантного и полного очарования. Не потому ли они отдают сокровища ума тем, кто идет за ними, кто занимает их опустевшие места?
И все же есть индивидуальные различия в уходе каждого живущего на земле. Они заключаются в том, каким остается мир после них.
После Бориса Павловича, увы, Славгород обезличился и народ славгородский обеднел – не стало их побасенника, сказителя дорогого, который всё знал о каждом и умел своими преданиями да изложениями держать их в одном коллективе, в своеобразном родстве.
Видно, на самом деле Борис Павлович, греша и каясь, прожил жизнь святого человека. Родился он на Илью, заболел на Рождество, умер на Крещение.
Мир его праху.
Послесловие
Перед написанием этой книги я была поставлена едва ли не в более трудные условия, чем Дирк Богард[81] перед съемками фильма «Смерть в Венеции»[82]. В своих воспоминаниях этот актер признался, что, приступая к работе, прочел новеллу Томаса Манна[83] 30 раз, а Лукино Висконти[84] посоветовал ему прочесть ее еще 30 раз.
Конечно, ведь у Богарда была только новелла! А у меня – исповедь всей жизни! Тем не менее приблизительно так я поступала с воспоминаниями отца при написании этой книги – много раз перечитывала свои письменные наброски, сделанные еще при нем, и столько же раз слушала диктофонные записи его рассказов. Я ловила всё новые и новые значения – скрытые смыслы, непроизнесенные – в его интонациях, в недомолвках, в оборванных фразах. Казалось, отцу больше некого было бояться – к нему приближался такой прокурор и палач в одном лице, какому все земные судьи не были ровней и конкурентами. Но он не забывался и до конца соблюдал этикет, по которому жил.
Это была изматывающая, но и воодушевляющая работа – он согласился ее проделать не только ради себя, чтобы у последней черты расставить все точки над «i», но и ради потомков. Они должны были узнать, благодаря какому мужеству, какому теплу души и каким муками плоти появились на свет. Если бы не было всего того, что преодолел Борис Павлович в его невыносимой судьбе, то не было бы и их, то есть нас. Конечно, каждое поколение все уясняет себе само. Но это происходит успешнее при одном условии: если есть материал для уяснения. И Борис Павлович нам его оставил.
Как же мы должны дорожить жизнью и как бережно и правильно ею распоряжаться, если за биение наших сердец Борис Павлович заплатил такой непомерно высокой ценой!
Остается только поблагодарить его за честный труд, за бесспорный героизм воспоминаний и за подвиг всей жизни: спасибо, отец!
17.07.2018 – 26.03.2019
Алушта – Днепропетровск
[1] Скорость движения почтовых экипажей составляла зимой не более 12 верст в час, летом – 8-10, осенью – не более 8 по немощеной дороге. Соотношение версты и километра таково: 1 верста = 1.0668 километра.
[2] Комедия Григория Федоровича Квитки-Основьяненко, написанная в 1835 году. В 1958 году по мотивам этой пьесы на киностудии им. А. Довженко был снят художественный фильм «Сватання на Гончарівці».
[3] Наставления схиигумена Иоанна, Валаамского старца. В миру – Ивана Алексеевича Алексеева.
[4] Об этом эпизоде жизни Жоржа подробно написано в первой книге дилогии Л. Овсянниковой «Птаха над гнездом», которая называется «Радеющие о жизни», см. раздел «Расстрел, Скрытый враг».
[5] Так советские люди называли первую мировую войну.
[6] Фармазон – мошенник, подделывающий документы, занимающийся сбытом фальшивых драгоценностей и пр.
[7] Англосаксы в терминологии современной российской публицистики – это представители единой политической элиты Великобритании и США, а также некоторых других стран, находившихся ранее под суверенитетом Британской империи – Канады, Австралии и Новой Зеландии. Все эти страны объединяет то, что они были созданы британцами и их потомками.
[8] О юности и женитьбе Бориса Павловича подробно написано в книге Л. Овсянниковой «Птаха над гнездом».
[9] Дидух – украинское рождественское украшение, символ урожая, благополучия, богатства, бессмертия предков, оберега рода; имел вид худенького длинного снопика.
[10] Передел – это часть технологического процесса, заканчивающаяся получением готового полуфабриката, который может быть отправлен в следующий передел или реализован на сторону. В результате последовательного прохождения исходного материала через все переделы получают готовый продукт.
[11] Исчезнувшее или переименованное село Синельниковского района, нынешнее название которого установить не удалось.
[12] И сейчас еще не используются.
[13] РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия.
[14] История Второй мировой войны. 1939–1945 гг. М., 1975. Т. IV. С. 116–117.
[15] 386-я стрелковая дивизия – сформирована в Тбилиси. После сформирования до 25 октября она подчинялась командованию войсками Закавказского фронта, затем вошла в 47-ю армию и получила задачу на прикрытие Военно-Грузинской дороги в районе Главного Кавказского хребта. С 25 ноября дивизия была передана 46-й армии и передислоцирована в район Зугдиди, Очемчири, Сухуми, где выполняла задачи по обороне побережья Черного моря на фронте Новый Афон – Анаклия. С 24 по 28 декабря она морем передислоцировалась в Севастополь в состав Приморской армии и до конца июня 1942 г. вела тяжелые бои по обороне города. Её части обороняли 2-й сектор в районе Камары, Верх. Чоргунь, Нов. Шули. В последние дни обороны Севастополя 27 июня 1942 г., находясь на КП дивизии, полковник Н. Ф. Скутельник был ранен и на следующий день доставлен в бухту Камышева для эвакуации, но эвакуироваться не смог. В ночь с 30 июня на 1 июля при взрыве 35-й морской береговой батареи был тяжело контужен и в бессознательном состоянии переведен в подземный проход этой батареи к морю. 10 июля, находясь в скалах, был захвачен в плен и доставлен сначала в бывший лазарет 35-й морской береговой батареи, затем в г. Севастополь. Через 10 дней переведен в лазарет при тюрьме г. Симферополь. В середине августа оттуда направлен в лагерь военнопленных в Виннице, затем 20 сентября – во Владимир-Волынский лагерь, а через 5 дней – в лагерь г. Зальцштер. С 6 марта 1943 г. содержался в тюрьме г. Нюрнберг, с 10 февраля 1944 г. – в лагере военнопленных г. Вайден, с 23 марта – в крепости Вюльцбург. 26 апреля 1945 г. освобожден американскими войсками и передан командованию Красной армии в г. Баден.
[16] Книга «Героический Севастополь», автор – Петр Алексеевич Моргунов.
[17] Композитор – Александра Пахмутова; автор слов – Николай Добронравов.
[18] Петр Алексеевич Моргунов в книге воспоминаний «Севастополь 1941 – 1942. Хроника героической обороны. Книга 1» пишет, что 772-й стрелковый полк 386-й стрелковой дивизии доставлен под Севастополь транспортом «В. Чапаев» и что было это в 10 часов 50 минут, т.е. утром. Возможно оба мемуариста правы, просто был не один транспорт, а два.
Хотя маршал Крылов в своих воспоминаниях «Не померкнет никогда» пишет, что «Чапаев» доставлял под Севастополь боеприпасы из Новороссийска. В частности, он пришел в Севастополь 20 декабря. Вряд ли он успел бы за 10 дней тут разгрузиться, отплыть в Поти, там загрузиться живой силой и снова приплыть сюда. Хотя кто знает...
[19] А. В. Исаев, «Наступление маршала Шапошникова».
[20] Николай Филиппович Скутельник – известный военачальник, попал в плен 10.07.1942 года под Севастополем. Вернулся из плена. Генерал Зашибалов Михаил Арсентьевич (его бывший комдив) давал поручительство перед органами и ЦК партии, чтобы его восстановили в звании. Впоследствии Михаил Арсентьевич Зашибалов – генерал-майор, Герой Советского Союза. См. также ссылку 15.
[21] К сожалению, его публикаций нет в электронных библиотеках, с ними можно познакомиться только в блоге писателя.
[22] Кривошеев Григорий Федотович – советский и российский военный деятель. Генерал-полковник в отставке. Профессор Академии военных наук. Кандидат военных наук. Наибольшую известность ему принесли работы и публикации, связанные с раскрытием числа потерь советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне.
[23] Такой населенный пункт на карте не значится, скорее всего, он давно переименован.
[24] Встать! Быстро!
[25] Не кричи, я слышу тебя!
[26] Красный мак (в XIX веке просто Каралез, до 1945 года – Биюк-Каралез) – село в Крыму, районный центр.
[27] См. например, литературу: Александров Н. И. Севастопольский бронепоезд. – Симферополь: Крым, 1968. Дорохов А. П. Крылатые защитники Севастополя. – Симферополь: Таврия, 1981. Маношин И. С. Героическая трагедия. О последних дня обороны Севастополя 29 июня –12 июля 1942 г. – Симферополь: «Таврида», 2001 г.
[28] На самом деле фамилию полицая Петра установить не удалось. Левченко – это фамилия его дочери Фроси Петровны, но, возможно, по мужу. Тем не менее рассказчик так его называл.
[29] Также об этом можно прочитать в книге «Птаха над гнездом» Л. Овсянниковой.
[30] Об этом и обо всей жизни Бориса Павловича в оккупации написано в книге Л. Овсянниковой «Птаха над гнездом», т. 1.
[31] Габель – соседка Бориса Павловича с северной стороны, полячка.
[32] Эти слова сказал В. И. Ленин в работе "Война и революция".
[33] 19 марта 1943 г. Фюрер издал приказ под кодовым названием «Нерон». «Нерон» подписывал народу смертный приговор: «Все военные сооружения, сооружения транспорта, связи, промышленности и снабжения, продовольственные склады, а также вещественные ценности на территории рейха надлежит разрушить». Неудавшийся план, который Гитлер в начале войны собирался осуществить в Москве и Ленинграде (так называемую тактику «выжженной земли»), он решил применить к Германии. Его биографы говорят, что на тот момент он сам уже решил свою судьбу и не видел более смысла поддерживать германский народ: «Если война будет проиграна, нация также погибнет. Это ее неизбежный удел. Нет необходимости заниматься основой, которая потребуется народу, чтобы продолжать самое примитивное существование».
Эти слова фюрера были записаны со слов Штеера во время процесса над фашистами.
[34] Рожнова – исчезнувший хутор Вольнянского района Запорожской области; лежал на левом берегу ручья Осокоревка, напротив восточной околицы Славгорода. Добраться до него можно было через запруду Баранивского пруда.
[35] Терновка – село, Терновский сельский совет, Вольнянский район, Запорожская область. Население – около 600 человек. Лежит напротив поворота на Славгород при съезде с трассы Москва-Симферополь.
[36] Ратово (теперь Полевое) – село Славгородского сельсовета, Синельниковского района, Днепропетровской области. Было переименовано где-то в 60-х годах прошлого века. Население 146 человек.
[37] Новоавгустиновка – исчезнувший хутор Запорожского района Запорожской области; видимо, лежал рядом с каким-то другим хуторком, а со временем слился с ним и стал называться просто Августиновка.
[38] В 1929 году в село Новоавгустиновка переселились 153 семейства из Августиновки, затопленной в связи со строительством ДнепроГЭСа им. Ленина.
[39] Сейчас рядом с ним вечным сном спит Прасковья Яковлевна.
[40] Та Терновка, что уже упоминалась в сноске 31.
[41] Зеленое – село, Варваровский сельский совет, Синельниковский район, Днепропетровская область. Население 26 человек.
[42] Варваровка – село Варваровского сельсовета, Синельниковского района, Днепропетровской области. Население 623 человека.
[43] Васильевка-на-Днепре – село с населением около 350 человек, Василевский сельсовет, Синельниковский район, Днепропетровская область.
[44] На самом деле его фамилия была Матвеев, Душкин – это сельское прозвище. В воспоминаниях автора этой книги он иногда встречается под именем Пепик. На момент записи рассказа Бориса Павловича Пепик был еще жив, а сейчас его уже нет.
[45] Святовасильевка (до 2016 года – Елизарово) – станция и поселок, Елизаровский сельсовет, Солонянский район, Днепропетровская область. Население около 1000 человек.
[46] На самом деле его фамилия была Тищенко. Жидик – это сельское прозвище, происходит от национальности – все славгородские Тищенки пошли от евреев-выкрестов.
[47] Вовниги – село в Солонянском районе Днепропетровской области. Относится к Войсковому сельсовету. Население – 195 человек.
[48] Петро-Свисту́ново – село, Днепровский сельский совет, Вольнянский район, Запорожская область. Население – 267 человек.
[49] Это сын Ольги Пантелеевны, тетки Прасковьи Яковлевны.
[50] 3-й Украинский фронт – был создан 16 октября 1943 года путем переименования Юго-Западного фронта. Его боевой путь таков.
В октябре-ноябре 1943 года войска фронта продвинули к западу от Днепра на 50-60 км, освободили Днепропетровск и Днепродзержинск, захватили плацдарм южнее Запорожья, до конца декабря 1943 года вели бои по удержанию и расширению крупного плацдарма на Днепре.
В январе-феврале 1944 года соединения фронта совместно с 4-м Украинским фронтом провели наступление на никопольско-криворожском направлении, вышли к реке Ингулец.