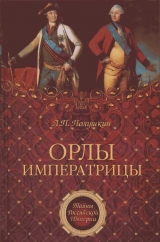
Текст книги "Орлы императрицы"
Автор книги: Лев Полушкин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Возвращение в сожженную Москву
В один из зимних дней 1813 г. семейство Орловых, закутавшись в шубы, рассаживалось по экипажам в окружении провожавших крестьян, подававших отъезжающим традиционные прощальные подарки. В подарки непременно закладывали баночки с румянами и белилами, так как ими пользовались на Руси повсеместно и каждодневно.
В Москву въезжали с Нижегородской дороги через Рогожскую заставу. Зрелище обгоревших каменных домов и печей, оставшихся от деревянных строений, приводило в уныние. Доехав «почти до Серпуховской заставы», экипажи свернули в аллею «у Орлова поля», ведущую к домам Анны Алексеевны на Б. Калужской улице. Графиня предложила дядюшке Владимиру со всем семейством остановиться в Нескучном дворце до окончания работ по восстановлению его дома на Никитской, а сама заняла старый отцовский дом. Анна рассказала, что Орлов луг, бывший много лет при жизни Алексея Григорьевича местом увеселений москвичей, использовался ими и во время бедствия. Скрывавшиеся люди размещались здесь под открытым небом, разводили самовары, устраивались на ночлег.
Владимир Григорьевич прожил в Нескучном около полутора лет. Восстановление дома на Никитской, начатое, как следует из «Ведомости строению московского дома…», в мае 1813 г., закончилось в 1814 г.; вместе с переселением в родной дом вернулся и прежний уклад жизни с ежегодными выездами на лето в Отраду. Сюда для празднования именин хозяина и дней рождения членов семьи съезжалось много родственников и гостей. К праздничному обеду граф надевал фрак с дворянской медалью 1812 г., после обеда давалось представление в домашнем театре, оперы или комедии, вечером в саду устраивались иллюминация и фейерверки.
Осенние выезды на охоту с соседями Д. М. Щербатовым, сыном историка, Кочетовым, Чуфаровскими становились все реже – возраст давал о себе знать. Прежние охотничьи забавы становились графу все более в тягость, но он, иной раз, пересиливая себя, звал соседей и отдавал распоряжения своим дворовым собираться в поле. Охотничьи выезды позволяли Владимиру Григорьевичу не только поддерживать силы и здоровье, но и доставлять радость дворовым людям и застоявшимся собакам.
В отличие от многих помещиков, считавших ниже своего достоинства общаться с крепостными, граф Владимир понимал, что у простого народа есть чему поучиться, среди отрадненских дворовых у него были любимцы, ровесники, которых он заранее оповещал о своем приезде на лето. Собираясь с графом отдельно от всех в своем узком кругу, они вели разговоры на любые темы, причем содержание бесед по существовавшему уговору не подлежало огласке.
В Отраде знали все, что публиковалось в иностранных газетах о временах Екатерины и делах братьев Орловых. Французы Кастера, Рюльер, Лаво зачастую представляли Орловых в черном свете. Владимир Григорьевич возмущался их язвительными публикациями, выделяя при этом особенно Кастеру; иногда его переживания становились столь эмоциональными, что он закрывался в своем кабинете, не желая ни с кем общаться.
В 1814 г. умерла Елизавета Ивановна, жена графа. Внешне уклад жизни В. Орлова не изменился. Оркестр еще не был распущен и развеивал на время печаль хозяина, вечера до глубокой ночи проходили в беседах с И. И. Дмитриевым о государственных делах, новостях о знакомых, о выступлениях в Государственном совете адмирала Мордвинова, одно время особым предметом обсуждения было изгнание из Петербурга иезуитов, сумевших в течение нескольких лет создать свою «коллегию» для обучения и воспитания по-своему детей дворянской элиты в Петербурге. Дело в том, что один из внуков В. Орлова от Екатерины Новосильцевой вместе с сыновьями Федора обучался в этом «заведении», и, может быть, в его преждевременной гибели на дуэли сыграли не последнюю роль плоды воспитания служителей мракобесия.
Последние годы жизни графа Владимира Григорьевича
Краевед В. Н. Калёнов сообщает, что в старые времена село Хатунь размещалось на высоком холме вместе с деревянными церквями. Постепенно жилые строения переместились в долину реки Лопасни. В XVIII веке в селе существовали три деревянные церкви. В 1774 г. владелец Хатуни Алексей Орлов обратился к московскому митрополиту Платону с просьбой о благословении на строительство нового вместительного каменного храма в честь Воскресения Христова, а ветхие деревянные, требующие постоянного ремонта церкви впоследствии разобрать.
К 1790 г. была построена теплая церковь с приделом Рождества Богородицы, 16 марта состоялось освящение престола. Окончательное строительство с возведением колокольни было завершено уже после смерти графа Алексея в 1818 г., после чего по просьбе его дочери Анны состоялось полное освящение храма. На это событие приехала сама хозяйка, графиня Анна Алексеевна, пригласившая дядюшку Владимира с семейством. Для хатунских жителей, не видевших владелицу много лет и забывших как она выглядит, это был настоящий праздник: все обступили дорогу, ведущую от одноэтажного деревянного господского дома к церкви, каждый стремился поцеловать госпоже ручку. После торжественного освящения семейство графа Владимира обедало с хозяйкой в ее скромном доме.
В годы хрущевских гонений деревянная церковь Воскресения на погосте была уничтожена, а каменная в 1937 г. закрыта и разрушена. В 1989 г. она была возвращена верующим и успешно восстанавливается; названа она по одному из приделов – Рождества Пресвятой Богородицы.
Кроме ежегодных посещений дядюшки на его тезоименитство и дни рождения Анна приезжала в Отраду и на другие семейные торжества. В конце апреля 1823 г. она присутствовала на свадьбе Александра Никитича Панина и Александры Сергеевны Толстой, посаженными отцами на которой были, оба 80-летние, – со стороны жениха сам граф Владимир, а со стороны невесты – князь Ю. В. Долгорукий. Хозяин дома выглядел свежее и бодрее, он ходил еще твердой поступью, был худощав, но несколько сутул, резко выпрямлялся при удивлении чем-либо или возмущении.
Через год умерла за границей жена сына В. Орлова, Григория, которая была доставлена в Отраду, а летом 1826 г. скончался и сын – единственный законный наследник фамилии Орловых, страдавший при жизни нервными припадками.
Графу пришлось пережить и внучек своих: Адель (Аделаиду) Никитичну Панину, похороненную в Донском монастыре и Елизавету Долгорукову (урожденную Давыдову), обе они росли и воспитывались в доме графа с малых лет. Дом В. Орлова пустел и грустнел. В 1828 г. он расписал все свои многочисленные имения шести внучкам Паниным и Давыдовым, оставив в стороне лишь Отраду, доставшуюся после его смерти Орловым-Давыдовым.
К концу 1830-х гг. на охоту граф Владимир уже не ездил совсем, от веселой и резвой собачьей стаи остались лишь несколько любимых борзых, уныло слонявшихся по дворцу. Из-за недостатка внимания всюду появились признаки упадка. Однажды по совету Анны Алексеевны В. Орлова посетил в Отраде император Александр I.
Смерть графа Владимира
В 1830 г. в Москву из Астрахани через Нижегородскую Макарьевскую ярмарку проникла холера. Смерть косила москвичей направо и налево, в Серпухове и Коломне оборудовали пропускные пункты. Московско-Каширская дорога, служившая основным скотопрогонным и кратчайшим путем, связывавшим Первопрестольную с южными губерниями, была забита медленно перемещавшимися в обе стороны подводами и обозами. Старый граф оставался в этот год в Отраде до самых холодов. Прибыв в конце ноября в древнюю столицу, Владимир Григорьевич решил навестить на кладбище при Донском монастыре свою умершую год назад «внуку» А. Н. Панину. По дороге граф простыл, кашель перешел вскоре в воспаление легких. Почувствовав близкий конец, он велел позвать своего духовника, протоиерея В. И. Кутневича, и причастился святых тайн.
28 февраля 1831 г. на 88-м году жизни граф Владимир Григорьевич Орлов скончался. На отпевание в его дом на Никитской съехалась вся московская знать, домовая церковь не могла вместить всех прибывших. Тело переправили на колеснице, которую везли вызвавшиеся сами дворовые люди В. Орлова, в приходскую церковь Николая Чудотворца «в Хлынове», стоявшую на месте нынешнего здания школы в Леонтьевском переулке у Никитских ворот.
После отпевания таким же образом тело привезли к Серпуховской заставе, на всем пути следования из близлежащих церквей выходило духовенство для совершения литии. Единственная оставшаяся в живых дочь В. Орлова, Екатерина Владимировна Новосильцева, и внучки ехали в экипажах, зятья Н. Панин и П. Давыдов следовали пешком. Процессия двинулась в Отраду. Здесь была совершена литургия, и гроб перенесли в ротонду-усыпальницу, где положили на заранее указанное самим покойным место – рядом с женой, головой к сыну Александру.
В последовавшую через два месяца после похорон Пасху старший повар отрадненского дома собрал группу крестьян и дворовых, наиболее близких графу, и повел в склеп навестить покойного хозяина и сказать ему, как живому, «Христос Воскресе».
Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская
Она с юных лет была очень набожной; может быть, веру привила ей мать, которая никогда не пропускала церковной службы. Когда в дом отца съезжались гости и среди шума и суматохи можно было незаметно ускользнуть, Анна тайком убегала в церковь к службе. Сначала ее подолгу искали, но в конце концов привыкли. В Острове церковь была рядом с домом и туда можно было отлучаться незамеченной.
Отец очень любил ее, учителя и берейторы обучали Анну с малых лет искусству танца, умению ловко и красиво управлять лошадью. После смерти отца и последовавшего вслед за ней глубокого обморока осиротевшая Анна перед иконами произнесла: «Господи!.. будь мне вместо матери и отца и руководствуй всеми поступками моей жизни» [24].
Как показало время, приезд графини Анны на освящение хатунской церкви оказался прелюдией к отходу ее от светской жизни. В недалеком прошлом блестящая танцовщица, плясунья, наездница все более и более предавалась молитве, накопленные отцом несметные богатства, имущество движимое и недвижимое, бесчисленные табуны лошадей начали распродаваться, обращаясь в денежные пожертвования и украшения для церквей и монастырей. Может быть, этому способствовала кончина в 1820 г. единокровного брата ее, Александра Чесменского.
Вскоре Анна, искавшая себе духовного наставника, обрела его в лице монаха, ставшего впоследствии архимандритом, Фотия, рекомендованного ей пензенским епископом Иннокентием, посетившим графиню в Нескучном при проезде через Москву. Религиозные взгляды Фотия противоречили учению уважаемого В. Орловым московского митрополита Филарета.
Несколько первых лет после смерти отца графиня Анна Алексеевна поддерживала еще светский образ жизни. Через четыре месяца после его смерти она справляла свое 23-летие так, как это было бы при живом отце. Один из приглашенных на праздник англичан, «нашел чудный дом отца ее уже наполненным блестящими гостями графини Анны, представителями московского дворянства. Звезды сияли по разным направлениям, ленты и мундиры различных цветов, украшенные золотом и серебром, бросались в глаза на каждом повороте. Все было неописуемо великолепно. Дамы, сиявшие бриллиантами, жемчугами и красотою, столь же подлинною, сколько искусственною, горячо приветствовали молодую хозяйку по случаю ее рождения. За сим последовал роскошный обед с царственным великолепием. Музыка вокальная и инструментальная раздавалась со всех сторон, а когда пили за здоровье хозяйки, раздались звуки труб и турецких барабанов, громом своим заглушая веселые отдаленные речи… Около 5 часов пополудни весь небосклон звезд двинулся на бега – версты за две от дома. Они были устроены в подражание нашим и лошади пускались в том же роде, за исключением внешности ездоков. Вечер закончился чудесным балом, на котором графиня по обычаю отличалась приветливостью и простодушием. В самом деле все увеселения дня были достойны прелестного предмета чествования».
Анна несколько раз встречалась с княгиней Е. Дашковой, проводила время с ней и ее гостьями – сестрами Вильмот; одна из них записала: «Несколько раз мы наслаждались обществом очаровательной молодой женщины, графини Орловой. Она нанесла нам два продолжительных визита, а однажды мы отобедали у нее. Дом и вся обстановка ее жизни остались такими же, как и при ее отце, но, хотя „весь мир у ее ног“… характер ее мягок, а поведение благоразумно. Она окружила себя почтенными старыми родственниками и молодыми девушками, которые воспитывались вместе с нею. Ее везде сопровождает бонна (то есть просто нянька). С самого дня рождения графини с ней живет эта добрая старушка, которая просто обожает ее. Графиня занимается благотворительностью и настолько щедра, насколько это вообще возможно… Что делает ее по-настоящему восхитительной, так это скромные и благородные манеры и, особенно, доброта в отношении к близким».
Марта Вильмот имела сильное желание отправиться вместе с Анной в Киев: «Ах, как бы мне хотелось поехать туда вместе с ними! Старая дама [Елизавета Федоровна] – сама доброта, а молодая графиня просто прелесть. Они путешествуют, как переселенцы, целым обозом: 9 карет, и еще кухня, провизия, возы с сеном…».
Поездки в Киев и Ростов Великий ознаменовались одними из первых безвозмездных пожертвований молодой графини Анны: в Киево-Печерской лавре ею была основана бесплатная трапезная для бедных стариков, а в первоклассном Спасо-Яковлевском монастыре Ростова построен на се средства храм во имя св. Иакова (Якова) – основателя этого монастыря.
В качестве камер-фрейлины (эта придворная «должность» оставалась за Анной с 1817 г.) графине приходилось ездить в Петербург и Москву, она выезжала с императрицей Александрой Федоровной на коронацию, побывала в Варшаве и Берлине. Изредка устраивала и сама она празднества для света, один из балов был ею дан в Москве в честь коронации Николая I в сентябре 1826 г.
Возможно, этот бал и не состоялся, если бы ему не предшествовало грандиозное массовое гулянье, устроенное неподалеку от Нескучного (на Девичьем поле) 16 сентября 1826 г. Здесь заранее устроена была особая ротонда для высочайшего света во главе с императором, окруженная галереями, по соседству же установлены были столы с затейливыми угощениями: красочные корзинки с калачами и пряниками, окорока, жареная баранина и дичь, мед, пиво, березовые ветки с привязанными к ним яблоками и пр. Здесь же устроены были и фонтаны, из которых должно было литься белое и красное вино – все это предназначалось для угощения народа, причем специальными афишами, развешанными загодя, предусматривался определенный порядок проведения застолья. По первому сигналу публика должна была занять места у скамеек, по второму сигналу сесть вкруг стола и лишь по третьему – приступить к трапезе.
Но русский народ испокон веков не настроен на подобные церемонии. Народный обед в ознаменование коронации Николая I проходил аналогично празднованию по случаю заключения Кучук-Кайнарджийского мира с турками в 1775 г. Едва прозвучал долгожданный сигнал, как тысячи страждущих ринулись к расставленным на столах яствам, сметая все, до чего дотягивались руки, и через несколько минут не осталось не только ничего из многочисленных блюд, сами столы и скамейки словно испарились, алчущая толпа бросилась к винным струям и, к изумлению присутствовавших иностранцев, через какие-нибудь четверть часа исчезли и фонтаны, после чего место народного застолья можно было определить лишь по истоптанному участку поля, на котором колыхалась не успевшая остыть от возбуждения, сразу поредевшая толпа.
В тот же день, после описанного гулянья на Девичьем поле, Николай I со свитой отправился на Большую Калужскую, на бал к Анне Орловой-Чесменской.
В одном из писем, датированном 1837 г., родственница Шереметевых-Заокорецких пишет М. С. Бахметевой о графине Анне следующее: «Она неизменная; точно такая же, как после потери родителя своего, только что не в черном платье, которого о. Фотий не терпел. Смеется от души, когда что покажется смешным, и сейчас [же] слезы готовы политься при воспоминании об отце».
Будучи в ссылке, последовавшей после воцарения Павла I, Алексей Орлов в надежде на скорую встречу с Марией Семеновной купил для нее в Карлсбаде двух обезьянок. В своих «Мемуарах» граф С. Д. Шереметев отмстив, что у М. С. Бахметевой детей не было, пишет: «Под старость она держала у себя маленькую обезьяну, которую называла Варенькой. Эта Варенька была с нею неразлучна, и даже визиты свои делала Марья Семеновна с обезьяной…».
О последних годах жизни М. Бахметевой известно, что после смерти своего благодетеля она жила в уединении, была поклонницей и близкой помощницей старца отца Зосимы, основателя пустыни в Верейском уезде, которая получила название Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни, являвшейся фактически женским монастырем (проезд до станции Зосимова пустынь с Киевского вокзала). Где-то рядом в Кондратьеве она и жила, оказывая пустыни материальную помощь. «В последние годы ее жизни была у нее больница и особое отделение „для бесноватых“, которыми она особенно занималась, отчитывая их…» [62, 287]. Отсюда уже никуда не выезжала, в монастыре той же пустыни она и похоронена.
Ежегодный доход наследницы А. Орлова достигал 1 миллиона рублей, стоимость недвижимости и драгоценностей была около 65 млн рублей. По смерти отца она, вернувшись из поездки на богомолье в Киев, посещала Ростов. До 1820 г. графиня ежегодно посещала Ростовский Спасо-Яковлевский монастырь, где проводила Великий пост и встречала Пасху. Первое серьезное духовное влияние оказал на нее ростовский архимандрит Амфилохий.
Знакомство графини Анны с Фотием, будущим ее духовником, состоялось до перевода его в Юрьев монастырь. Фотия Анна выбрала из-за его безграничного и бескорыстного служения вере. Вскоре состояние графини оказалось в его руках, но как замечает сама Анна, «он распоряжался для других моим состоянием, но себе отказывал во всем; я хотела обеспечить бедных его родных, он мне и этого не позволил». В эти годы Юрьев монастырь стал одним из самых богатых: его своды украшали золото, серебро, бриллианты, сапфиры, жемчуга и др. драгоценности. Чего стоил один только красовавшийся на одной из икон образок Знамения Божией Матери, вырезанный из цельного изумруда, усыпанный бриллиантами. По богатству и роскоши внутреннего убранства монастырь мог соперничать с Троице-Сергиевой и Киево-Печерской лаврами. В ризнице хранились дары царей, императоров, патриархов. Монастырь все больше и больше привлекал паломников, находящих здесь и приют и пищу: по распоряжению Орловой съестные припасы подвозились сюда целыми обозами. Графиня даже не интересовалась, кому и на что помогает материально.
Поблизости от Юрьева монастыря под Новгородом Великим графиня купила у помещика В. Семеновского за 75 000 рублей небольшую усадьбу и построила дом на том месте, где, по преданию, некогда стоял древний монастырь Святого Пантелеймона. Здесь она решила провести остаток жизни.
В главный собор Юрьева монастыря – Георгиевский, после смерти дядюшки Владимира, были перевезены по ее ходатайству останки Алексея, Григория и Федора Орловых, что позволило ей ежедневно молиться у гроба отца.
Архимандрит Фотий
Петр Спасский, получивший при пострижении имя Фотия, сын сельского дьячка Новгородской епархии, окончил в 1814 г. семинарию, после чего служил учителем Закона Божьего во 2-м Кадетском корпусе. Жил он «жизнью истинного отшельника, преисполненной всех возможных лишений для самого себя и щедрых деяний бедным новгородским монастырям и церквам, равно как множеству частных лиц».
Религиозные взгляды Фотия не совпадали с мировоззрениями многих влиятельных духовных личностей и направлялись в первую очередь против масонов, «верующих в антихриста, диавола и сатану».
Не скрывая своих мыслей, Фотий «возвысил вопль свой, яко трубу», и за проповедь, провозглашенную в апреле 1820 г. против мистиков, был удален из Петербурга, получив назначение игуменом Новгородского Деревяницкого монастыря. Буквально через несколько дней графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская убедила его стать ее духовником и на пожертвованные тут же средства помогла ему благоустроить «самый разоренный» его монастырь. Затем Фотия перевели в Сковородский монастырь с возведением в сан архимандрита. Все новгородские монастыри стали получать от него щедрые пособия. Несмотря на это, его почти ненавидели, называли иезуитом, «тонким пронырой, а когда дело шло о доказательствах, их ни у кого не было».
М. Корф сообщает о нем следующее: «Я познакомился с ним лично летом 1830 г., быв с матушкой в Новгороде на богомолье. Прием его всем и каждому был приемом высокомерного прелата, гордого своим саном, а может быть и своим богатством; но зато и принимаемы были все равно: и женщин, и мужчин, без разбора званий, он приветствовал простым „ты“. Не от этого ли и не жаловали его наши магнаты? Но сквозь эту грубую оболочку просвечивали искры светлого ума, поэзии, даже чего-то гениального. Те полчаса, которые я с ним провел, оставили во мне глубокое впечатление» [35, 586]. Однажды навестил Фотия государь в его монастыре. Он вышел без должного облачения и протянул руку для целования. Государь обернулся к провожавшему его графу Бенкендорфу и сказал по-французски: «Подтвердите, что я умею владеть собой», – потом поцеловал протянутую ему руку и пошел осматривать монастырь.
Но на другой день велено было вытребовать Фотия в Петербург и здесь научить его, каким образом должно встречать императора. Его тогда «продержали в Александро-Невской лавре три недели и сказывают, что, кроме смертельной раны, нанесенной его самолюбию, этот урок и разрешение возвратиться в свою обитель стоили ему до 30 000 рублей ассигнациями». Источником оплаты штрафа, очевидно, являлись богатства графини Анны. Еще более грубо обошелся он с М. Сперанским.
Несмотря на давнее оскорбление, в феврале 1838 г., государь, узнав о тяжкой болезни Фотия, «явил заносчивому архимандриту особенный знак внимания, тотчас отправил к нему из Петербурга лейб-медика Маркуса, на руках которого он и умер» [35].
Вскоре после знакомства с Анной Орловой-Чесменской Фотий посещал Александра I несколько раз, но смерть благоволившего ему государя изменила отношение к нему в худшую сторону и он вынужден был безвыездно пребывать в Юрьевом монастыре, занимаясь его украшением и обогащением, чему неизменно способствовала графиня Анна. Сам же архимандрит вел аскетический образ жизни, расстраивая свое и без того слабое здоровье. Вероятно, встречи в Петербурге были организованы графиней Анной, называвшей своего духовника «златоустом и великим угодником Божьим», которой он внушил «слепое, рабское повиновение». В результате этих встреч Фотий получил драгоценный крест и место настоятеля первоклассного Юрьева монастыря.
Знакомство Фотия с «Девицей Анной», как он называл ее впоследствии, произошло в 1820 г. Поначалу он чурался чрезмерного богатства графини, опасаясь его развращающего воздействия, Анну же прельщало бескорыстие монаха, которое, как ей казалось, являлось верным признаком беззаветного служения Богу.
Фотий посетил графиню в Москве. По оставленным им запискам, дом графини найти было непросто, монаху пришлось расспрашивать ночных сторожей где Донской монастырь и как подъехать к дому графини Анны, а добравшись наконец до места, Фотий долго изумлялся роскоши дворца «яко царского», величию кованой ограды с многими украшениями.
Анна отвела гостю уединенную комнату в верхних покоях дворца, там уготовлена была и постель, поставлены иконы, светильник с елеем «и все потребное», показавшееся ему «раем земным».
Осматривая дворец и его окружение, Фотий высказал явное неодобрение множеством художественных ценностей, представлявших собой, по его мнению, «идольские мерзости», подлежащие уничтожению. «Мерзости», однако, являлись весьма редкими по изяществу миниатюрными группами или одиночными скульптурными фигурами мужчин, женщин (в том числе и обнаженных) и зверей. Изделия эти были, вероятно, собраны Алексеем Орловым-Чесменским во время его пребывания за границей; их было такое множество, что, кажется, не было в огромном дворце комнаты без настольного украшения. Видел Фотий также «в разных местах мраморные идолы в саду и близ дома во дворце у дщери…». Комнатные вещицы изготовлены были в основном из серебра с использованием драгоценных камней и жемчуга.
И вот вся эта драгоценная коллекция, пережившая нашествие Наполеона, по велению Фотия была «извержена», а попросту рассеяна или изуродована. Драгоценные камни и жемчуг выламывались из оправы для использования в качестве украшений церквей, после чего сами предметы распродавались по ничтожным ценам. Бывший в то время в Москве итальянец Негри вспоминал, что «вдруг, в течение трех дней, полил целый дождь самых драгоценных и художественных произведений из дома графини Анны Алексеевны и наводнил лавки торговцев подобными предметами. Отдавали их за бесценок, среди них были и картины, мраморные изваяния и художественные редкости с вынутыми из них камнями, потерявшие вследствие этого свою ценность».
После знакомства Фотия с содержимым Нескучного дворца у него сложилось непримиримое отношение к памяти отца графини. Кроме «мерзостей» и масонских безделушек среди бесчисленных предметов, заполнявших помещения, оказалось кое-что из церковной утвари, о чем говорит в своих многочисленных записках и мемуарах историк граф С. Д. Шереметев: «Он [Фотий] вселил в нее [Анну] убеждение в греховности самых дорогих для нее людей – отца и дяди, с сознанием необходимости их отмолить, главным образом, за участие в отобрании церковных имуществ… Однажды он заметил надетую на ней брошку, изображающую камей высокого качества, но предосудительного содержания. Он вырвал у нее этот камей и, бросив на пол, стал неистово топтать его ногами…» (камея – резной камень с выпуклым изображением). «Под неотразимым влиянием Фотия графиня Анна Алексеевна не только замаливала греховность отцовскую, но и свою собственную…». Графиня щедро одарила своего духовника за очищение, избавившись от «идольских предметов», ему была поднесена митра «вся жемчужная и бриллиантовая с гранатами и с надписью на златой дщице [дощечке]: за ревность и одоление в 1822 лето масонских скопищ нечестивых… и более ста тысящ сия митра стоит». Судя по всему, Анна Алексеевна полностью подчинялась Фотию, и тот безраздельно ею верховодил. Злые языки, конечно же, приписывали им интимную связь. По вызову императора Фотий ездил «во дворец на конях Девицы Анны».
Дальнейшая жизнь графини протекала в отрешении от светских развлечений, в непрестанных молитвах и пожертвованиях: «…с трех часов пополуночи колокол звал уже ее из любимого ее уединения к утрене в монастырь; там проходя неутомимо все долгие бдения, посвящая промежуток службы на духовное чтение в келии безмолвствующего архимандрита, и почти не вкушая пищи, она, только после вечернего правила, поздно возвращалась в свое жилище близ монастыря, чтобы на следующее утро начать опять столь же трудный подвиг». В одном из писем графиня Анна называет свою «Пустынь» «раем земным». И так год за годом проходил в молитвах и подаяниях, свершаемых на деньги, вырученные от распродажи неиссякаемого наследства. Один только действующий Хреновский конский завод приносил огромную прибыль. Табуны лошадей с конских заводов графини продавались с аукционов в Москве, раздаривались знакомым.
Доброе сердце графини, развитое воображение и чрезвычайно богатое наследство привлекали к ней множество женихов. Еще при жизни отца, и особенно после его смерти, вокруг Анны роились молодые люди, но большой выбор блестящих партий не вскружил ей голову: она отклонила предложения действительного статского советника А. Б. Куракина, генерала Н. М. Каменского, князя И. И. Барятинского. Фотий говорил, что вдова Павла I, императрица Мария Федоровна, также предлагала ей в супружество своих «родных принцев» и это также она отвергла по его, Фотия, совету, мотивируя отказ преданностью Богу: «Между замужнею и девицею есть разность: не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Генерала Каменского, сына фельдмаршала, отличившегося во время финляндской войны, она полюбила и сама. Каменский, пережив до этого неудачную любовь к красавице Щербатовой, сделал А. Орловой предложение, но сознание того, что женихи сватаются к ней в корыстолюбивых целях, подогреваемое, как отмечали современники, ее единокровным братом, А. Чесменским, помешало браку. Генерал Каменский умер в 1811 г., графиня сильно переживала и осталась до конца своих дней незамужней, несмотря на то, что брак освобождал ее от светских обязанностей фрейлины.
Один из знавших ее священнослужителей заметил: «После пламенной ее любви к Богу одна только пылкая любовь к родителю исполняла ее сердце и окрыляла ее молитвы – ибо она столько же заботилась о спасении души его, сколько и о спасении собственной…».
Пожертвования Анны Алексеевны церквям и монастырям были поистине царскими: огромные суммы отпускались Киево-Печерской лавре, Почаевской лавре, соборам Ростова Великого; словно не вмещаясь в границы России, деньги вливались в знаменитые православные храмы Александрии, Дамаска и Царьграда. И, конечно, не были обойдены вниманием близкие се сердцу церкви и соборы села Остров, Николо-Перервинского монастыря, Донского монастыря, часовня наиболее почитаемой ею Иверской иконы Богоматери у Воскресенских ворот в Москве. Серебряные раки для святителей Никиты и Иоанна, погребенных в Софийском соборе Новгорода Великого, также сделаны на ее средства.
В Успенской Почаевской лавре, построенной на горе в пределах Кременецкого уезда в 8 верстах от границы с Австрией, в пещерном храме, освященном в честь Св. Троицы, в 1842 г. на ее средства была устроена серебряная рака для мощей прсп. Иова Почаевского.
Необычайная скромность Анны Алексеевны читается между строк книги А. Н. Муравьева «Путешествие по святым местам русским», впервые изданной в 1832 г. Автор книги, несомненно, лично знакомый с графиней Анной, вероятно, по ее просьбе упорно не называет ее имя. В главе о Ростове Великом он записал: «Я поспешил прямо в Яковлевский монастырь к святителю Димитрию. Подходя к собору, вспомнил, что мне поручено было поклониться гробу добродетельного старца Амфилохия, 40 лет молитвенно простоявшего у возглавия мощей угодника Ростовского». Описывая свое путешествие по Новгороду и посещение подземной, «пещерной» церкви Похвалы Богородице Юрьева монастыря, А. Муравьев пишет о захоронении Фотия и приготовленном гробе графини: «Распятый Господь, и по сторонам его, Божия Матерь и возлюбленный ученик, написаны во весь рост на восточной стене; к подножию спасительного креста Христова прислонен мраморный гроб, осененный среброкованным покровом, с крестным на нем изваянием; и на нем стоит златая икона Знамения Богоматери, сродная великому Новгороду… последний приют его [Фотия], который сообщался во дни его жизни с кельями; сюда часто спускался он, тайною стезею, к своему гробу, чтобы засветить над ним лампаду, или во мраке подземелья углубиться в размышления о вечности, доколе еще не настала. Я увидел в углублении другой мраморный саркофаг, смиренно прислонившийся к стене, но еще праздный, и угадал его назначение». Желание графини Анны быть погребенной рядом с Фотием, а не с отцом, дало повод сомнительному острословию, в котором повинен и А. С. Пушкин.








