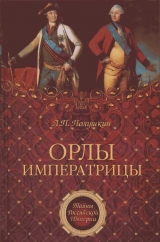
Текст книги "Орлы императрицы"
Автор книги: Лев Полушкин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Кончина
Умер А. Г. Орлов-Чесменский в 1807 г. в самый рождественский сочельник, и день отпевания его тела был неофициальным днем траура для всей Москвы. В. Орлов-Давыдов считал, что последние дни графа были чрезвычайно болезненными; чтобы заглушить доносившиеся из окон стоны и крики, в Нескучном дворце якобы заставляли играть оркестр.
Однако О. Иванов обнаружил среди архивных бумаг записку, написанную, видимо, кем-то из дворовых людей графа о последних часах его жизни, в которой говорится, что 22 декабря граф почувствовал себя слабее других дней, доктора прописали ему мускус, который якобы «хорошо подействовал и дал крепость». В следующие дни его прогуливали в креслах, причем он был «в совершенной памяти, многих призывал и говорил, между прочим, с Федором Петровичем Уваровым, говорил более получаса, приказывал ему показать лошадей. Бульон кушал и был в то время спокоен». В последний день сделался небольшой озноб, сменившийся жаром, который продолжался до полуночи.
Далее автор записки сообщает: «…в три часа пять минут разбудили меня и сказали, что граф очень худ. Я пришел и нашел, что дышит очень тихо. В три часа десять минут дыхание прервалось и мы увидели наше нещастие, пульсу уже не было. В 3 часа 15 минут доктор Мухин, за которым я послал, уже не застал его в живых».
По сообщению московского главнокомандующего Т. И. Тутолмина А. Орлов умер от «чахоточной болезни, в начале прошлой осени усилившейся, умножая изо дня в день слабость».
Тело графа лежало на высоком катафалке в большой зале дворца.
Отпевали его в церкви Положения Ризы Господней (на Шаболовке). Для отпевания А. Орлова-Чесменского был приглашен митрополит Московский и Коломенский Платон, но тот отказался, сославшись на нездоровье.
Сержант Изотов, спасший, как говорили, своему хозяину жизнь во время Чесменского сражения, и прослуживший ему до последних дней, был безутешен. Слухи о его подвиге ходили разные, говорили, что он заслонил хозяина своим телом от пули. Но пересказ М. Вильмот более близок к истине: «Сегодня утром хоронили графа Орлова. Мы обедали с господином Дивовым и его сыновьями, которые были при погребении и рассказали о происшедшем там ужасном случае. Во время знаменитой битвы при Чесме… корабль, на котором был брат Орлова, загорелся от турецких ядер и взорвался. Граф в ужасе от судьбы своего брата потерял сознание и стал падать в морс, но один сержант спас его жизнь, успев поймать. С этого дня граф стал его другом и покровителем, бедняк был членом семьи графа. Сегодня сержант, чья скорбь по графу была беспредельна, оказался назначенным среди других нести гроб. Когда он подошел к лестнице, его глаза и рот покрылись кровью, и он упал мертвым!» [16, 368].
Рассказывали также следующее: «В день погребения, когда Орлов лежал в параде, Изотов тотчас предстал в зале в мундире екатерининских времен. Грудь его украшена была многими медалями. Он стал с прочими у гроба, чтобы нести его через комнаты и по лестнице вниз на одр. Вельможи и другие знатные господа, собравшиеся для выноса покойного графа, сказали ему, чтобы он удалился, избежал физической нагрузки при выносе гроба. Но 80-летний старик, всю свою жизнь всюду сопровождавший хозяина, со слезами на глазах отвечал, что ему достанет еще сил отдать последний долг господину своему. Он присоединился к телоносцам, украшенным кавалериями, и неутешно плакал и рыдал, и более всех старался нести гроб по лестнице». Прощаясь, он произнес: «Думал ли я, что тебя переживу?» Через несколько минут он упал в обморок и скончался на месте. Крепостные люди графа молились и плакали навзрыд при выносе гроба, плакали и тысячи собравшихся на похороны москвичей.
Похоронили А. Орлова в подмосковной Отраде, в фамильном склепе Никольской церкви. В Москве память об одном из замечательных людей века Екатерины Великой хранят стены Донского монастыря, Нескучный сад с перестроенным в XIX веке дворцом, Ризположенская церковь на Донской улице, где его отпевали, остатки села Остров с красивейшей церковью, подмосковное село Хатунь, имение Отрада.
Глава V
Граф Владимир Григорьевич. Графиня Анна Орлова-Чесменская
Младший из братьев Орловых был единственным среди них, получившим высшее образование. По описанию его внука В. П. Орлова-Давыдова, это был и с точки зрения нравственности один из редких дворян-интеллигентов, если можно применить это слово к временам крепостного права.
Владимир Григорьевич от рождения не блистал здоровьем и по общему решению старших братьев, посчитавших его негодным к воинской службе, вплоть до 20-летнего возраста провел в деревне, набираясь сил. К нему была приставлена няня, учившая его Закону Божьему и строгому соблюдению всех церковных правил. Старшие братья, вырываясь на время из круговорота бурной столичной жизни в деревенскую тишь, подтрунивали над благочестием Владимира. С детских лет он полюбил простую русскую природу, с интересом рассматривал разнообразные цветы, травы, любил смотреть на звезды. Но когда наступила пора зрелости, на братском совете было решено, что бездействию пора положить конец и что Владимиру пришла пора овладевать языками и науками. Так и поступили.
С 9 июля 1763 г. Владимир зачисляется в Лейпцигский университет. Годы скромной размеренной жизни в студенческой среде приучили Владимира к лишенному блеска быту, дисциплине и рациональному распределению свободного от занятий времени. Здесь закрепились склонности его к естественным наукам и астрономии, состоялось близкое знакомство с крупными учеными (дʼАламбером, Дидро и др.). Полученные знания иностранных языков позволяли общаться с широким кругом лиц.
По субботам у Владимира собирались знакомые музыканты, любительские домашние упражнения которых также наложили отпечаток на развитие его интересов.
По окончании учебы и возвращении в Петербург молодой граф был пожалован в камер-юнкеры императрицы, которая обратила внимание на его способности, в шутку называла его философом, а однажды, что запомнилось надолго, угостила вишнями из своих рук. Владимир, как и все, кто был знаком с Екатериной, находился под влиянием ее обаяния.
Служба в академии. Путешествия
Указом от 6 октября 1766 г. Владимир Орлов назначается директором Петербургской Академии наук. В письме Вольтеру Екатерина назвала графа президентом, так как вся переписка по академическим делам перешла в его ведение (официально президентом Академии являлся К. Г. Разумовский, почти не уделявший внимания ее делам).
В то время при Академии наук существовала и Академия художеств, основанная И. И. Шуваловым. В день назначения В. Орлова директором он, принимая поздравления, получил от скульптора Академии М. Павлова, отличившегося созданием очень удачного бюста Григория Орлова, мраморную фигуру Венеры.
К 1770 г. Академия наук полностью избавилась от «художеств».
В. Орлов организовал путешествия сотрудников Академии по России «для внутреннего изучения». Отправляющегося в одно из таких длительных путешествий академика Палласа он просит исследовать состав воды усольских соленых ключей в местечке близ Самары под названием Усолье. Усольская волость была причислена к владениям Орловых после путешествия Григория и Владимира с императрицей по Волге в 1767 г. Паллас оставил подробный отчет о своем путешествии, который был впоследствии опубликован.
По словам В. Орлова-Давыдова, в задачи Академии, требующие внимания государыни, В. Орлов обычно посвящал своего приятеля, вместе с которым путешествовал по Волге с императрицей, Григория Васильевича Козицкого, получившего в 1768 г. должность кабинет-секретаря Екатерины благодаря протекции Орловых. Но чаще ему приходилось прибегать к помощи брата Григория, которому ничего не стоило добиться согласия государыни.
Исполняя государственную службу, молодой граф Владимир продолжал мечтать о путешествиях, добивался разрешения па них и в пути всегда вел дневник, отмечая в нем все, что считал достойным внимания.
В 25-летнем возрасте Владимир решил жениться по взаимной любви на фрейлине Екатерины II Елизавете Ивановне Штакельберг. Как было принято с детских лет, состоялся семейный совет, на котором братья долго отговаривали его от ранней, по их мнению, женитьбы, потом они не раз предлагали более выгодные партии, но любовь с годами только крепла, и наконец Владимир объявил братьям о своем твердом решении. Забегая вперед, можно с уверенностью сказать, что брак этот оказался на редкость удачным: супруги прожили 49 лет, буквально «до гроба», счастливой жизнью, в любви и постоянных заботах друг о друге и о своих детях. Уже 28 июля 1769 г. у них родился первый ребенок. «Дал Бог мне сына Александра. Хозяйка моя родила благополучно…. Государыня его изволила пожаловать Прапорщиком в Преображенский полк, а Н. Н. Маслов по отменной его величине из детей, записал в Гренадерскую роту, он родился без вершка аршин» (67 см).
Из сохранившейся корреспонденции Владимира Григорьевича видно, что помимо академических у него не на последнем месте был широкий крут личных забот, касавшихся большей частью его многочисленных владений. Нередко личные и академические интересы совмещались, о чем говорит длительное пребывание академика Палласа в творческой командировке в Самарской губернии и, в частности, изучение природных возможностей Усольской волости.
В одном из писем казанскому губернатору Брандту граф указывает на склонности его подопечных к взяточничеству, крючкотворству и прочее, «о чем в письме и говорить неудобно». В другом письме того же Брандта хвалит за проявленную решительность в устранении какого-то насилия, за объявленный управляющему «конскими заводами» выговор.
Принимая во внимание то обстоятельство, что расположенное в Самарской Луке орловское Усолье, близ которого существовал и конский завод, относилось к Казанской губернии, нетрудно разгадать направленность интересов президента Академии наук. В то же время «тон» его писем, адресованных губернатору, не оставляет сомнений в том, что степень «приближенности» лица ко двору императрицы играла решающую роль во взаимоотношениях его с официальными лицами, ибо губернаторы не могли находиться в подчинении у главы Академии наук.
Летом 1770 г. переписка с воюющими братьями прерывается в связи с предоставлением графу Владимиру отпуска по состоянию здоровья, который он использует для поездок по России и Малороссии с описанием впечатлений в дорожном дневнике. В нем содержатся записи о красотах природы, заметки о народонаселении, о почвах и растительности, о встречах с интересными людьми, о речках с указанием их истоков.
Начинается дневник с Москвы, откуда граф выехал в апреле. Путь лежал через Киев, Полтаву, Харьков, Воронеж, Саратов, Сызрань и, конечно же, через приобретенное Усолье.
Из Москвы граф, видимо, ехал вначале по дороге, которая почти совпадала с нынешним Каширским шоссе. «Места между селами Пахрой и Лопасней (села с такими названиями обозначены на карте Московской губернии 1774 г. – Л.П.) хорошие, с многими рощами». Хатунская волость в это время еще не принадлежала Орловым. Но надо полагать, что именно во время этого путешествия граф Владимир, как говорится, «положил глаз» на здешние места. Как бы там ни было, а через пару лет Хатунь, Семеновское и окрестные деревни и села также оказались в числе владений Орловых. А пока граф Владимир навещает здесь своих знакомых: обедает в Семеновском у Петра Федоровича Нащокина, ужинает у Александра Федоровича Брянчанинова, ночует в деревне Льва Александровича Нарышкина.
Далее описывается Малороссия. Под Полтавой Владимир Григорьевич посещает место знаменитой битвы с курганом, хранящим останки погибших здесь русских и шведских воинов. О селе Чернещине осталась следующая любопытная запись: «Народ очень ленив и пьян, весел, ласков, чистосердечен, и очень прост; вино зачинают пить с малолетства, и мальчики и девушки и бабы так же почти пьянствуют, как мужики».
В путешествии графа сопровождал его приятель Г. В. Козицкий, а по приезде в волжские имения к ним присоединился и местный друг Фока Мещеринов. Здесь Владимир задержался, разъезжая по окрестностям, на три недели: Переволока, Усолье, Новодевичье, отстроившееся после большого пожара. «Ездили на караульный бугор всей компанией и любовались более часу хорошим видом». 19 июня «ездили по утру с собаками, много зайцев везде, как и тут наехали». О здешних крестьянах записано: «Казались везде моему приезду рады, также и тому, что они за нас [за Орловых] достались. В Переволоке, Усолье, Ахтуше, Козьмодемьянске, Шиганах, а позже и в Новодевичьем согласились иметь училище на господском содержании».
Ездили на сенокос… «Время было дождливое, косить неудобно. Косцы, похлебав кашу и роспив пиво, пели песни, бились под кулачки и разным образом веселились». Под Симбирском граф увидел необычную картину: реки Свияга и Волга текут параллельно и в противоположных направлениях, причем русло Свияги заметно выше. Впоследствии это «чудо» граф реализует в своей Отраде, пустив на протяжении более версты ключевые ручьи в противоположных направлениях в нескольких шагах один от другого.
При Орловых вся луговая сторона Волги, лежащая против Самарской Луки, была оживлена появлением на ней хуторов, которые в короткий срок превратились в богатые деревни, сохранившие в названиях крестные имена членов фамилии Орловых: Ивановка, Григорьевка, Алекссевка, Федоровка, Владимировка, Екатериновка, Александровка, Натальино. Видимо, здесь в XX веке хозяйничали не слишком усердные большевики. Зато основательно «обработали» они Симбирск (ныне – Ульяновск), от которого не осталось ни кремля, ни церквей, ни исторического названия.
Большое усольское имение было выстроено уже в последние годы жизни В. Орлова, но граф в нем так и не побывал. Имение, макет которого экспонируется в Самарском историко-краеведческом музее, строилось, вероятно, в расчете на детей и внуков.
В ноябре 1770 г. у Орловых родилась дочь Екатерина. «Государыне было угодно ее крестить». Иван, Григорий и Владимир в Петербурге, Алексей и Федор продолжают воевать в Средиземноморье… «Нам кажется, что нас троих здесь и чтоб целое составить много недостает. Теперь уже, голубчики, за половину третьего года пошло, когда-то велит Бог свидеться? Не думали, чтоб мы настоль долгое время расстаемся» – пишет братцам Владимир.
Суета светской жизни и работа в Академии отразились на здоровье Владимира: доктора вынесли заключение настолько суровое, что надежд на выздоровление почти не оставили, впрочем, высказали рекомендации, которые давали, видимо, всем без исключения и которые считались панацеей от любых болезней: отправиться на лечение водами за границу.
Из Петербурга В. Орлов выехал 1 июня с женой, детьми и фрейлиной Роткирх. 17 марта Орловы отправились в Италию повидаться с братцами, куда и прибыли в 17 дней. В Пизе у Алексея Владимир пробыл 6 дней, потом один день в Ливорно – катались в шлюпке по морю, всходили на русский фрегат, стоявший на якорях в двух верстах от города. Заметим, что братья встречались через год после посещения Алексеем Петербурга и его сенсационного венского рассказа о мотивах убийства Петра III. В Пизе и Ливорно Владимир, вероятно, сообщил брату придворные новости, о которых не следовало говорить в письмах. Возможно, что и путешествие за границу было задумано с этой целью под предлогом лечения.
Вернувшийся в Россию Федор хронически страдает любовно-сердечными приступами. Как пишет Владимир, едва расставшись со своим очередным «предметом» и обретя некоторое успокоение, он недолго забавлял всех своими шутками, вскоре Владимир заметил признаки меланхолии у своего любимого братца.
Переписка Владимира с академиками становится все реже, близится отставка. Владимир пишет Ивану в село Остров, что, по слухам, отставным «запрещено будет носить мундир и к дворцовому подъезду подъезжать на ямских». Все больше внимания в переписке уделяется лошадям и охоте. Владимир просит Ивана, находящегося уже в Хатуни вместе с Фокой Мещериновым, подробнее описать местность, возможности охоты, просит дождаться его приезда. Туда же собирался и Григорий.
В начале мая после очередной размолвки Екатерины с Г. Орловым последний просил увольнения на пять недель в деревни и получил разрешение. Иван, Григорий и Владимир встретились в Москве, от дружеских встреч и гостей не было отбоя, всего «два дни были трое вместе, – жаловался младший, – и мало очень время оставалось одним быть, от утра и до вечера гости были, может быть часа три-четыре одни были». Побывали братья и в Хатуни. Алексею, вновь уехавшему в Италию, Владимир пишет: «В твоей Хатуне все места выглядел, и избрал для дома место, где буду помаленьку и строиться. Положение деревни сей вообще хорошо и для житья выгодно… Местоположение есть между тем очень хорошее, из того числа выбранное мною. Эта гора лежит точно против той горы, где для тебя будут хоромы строить. Мы будем верстах в пяти друг от друга, и в зрительную трубу можем глядеть».
Владимир сообщает Алехану о намерениях Ивана относительно волжских имений: «На Низ он не поедет и зимовать будет в Москве», а пока живет с Фокой в Острове, «веселится твоим заводом; жаль старинушки очень, что он одряхлел, да и того, что он очень мнителен, хоть и не признается. Прямой болезни у него нет, худеет и лихорадочные припадки часто имеет; ни он, ни доктор его Ореус, что за болезнь – не знают… Он никогда почти не лежит. Мое представление жить с тобою (в Хатунской волости. – Л.П.) принял он хорошо, только не мог уговорить его поселиться с нами, а все упрямится и тянет на низ… Я надеюсь что время переменит у него сии мысли и он будет Хатунец».
Наконец войско Пугачева, не позволявшее Ивану отправиться «на Низ», потерпело сокрушительное поражение в битве с царскими войсками под предводительством Михельсона. Пугачевцы понесли большие потери, были рассеяны, питались лошадьми. А вскоре сам Пугачев при помощи своих бунтовщиков был схвачен А. В. Суворовым и доставлен, связанный по рукам и ногам, в Симбирск в деревянной клетке на двух колесах.
Казнь Пугачева, приговоренного к четвертованию, была произведена в Москве перед самым приездом сюда Екатерины на празднование заключения мира с Турцией и подавления Пугачевского восстания. Эта казнь была торжеством всех дворян, множество их съехалось из окрестных губерний, чтобы насладиться зрелищем кровавой расправы.
В дворянской среде наступает умиротворение, Владимир сообщает Алексею, что «братья на охоте, и старик в Хатуне гоняется за зайцами. Лошадь, подаренную им Графу Никите Ивановичу, не хвалят. При Дворе и на половине Их Высочеств еженедельно балы и концерты».
Вскоре Владимир получает отставку «генерал-порутчиком и с жалованьем по смерть». Федора Екатерина пока не отпускает, продолжая время от времени оказывать братьям знаки внимания. Владимир, отмечая отставку, устроил большой прощальный обед академикам, выглядел на нем необычно оживленно и приветливо со всеми приглашенными. Знаменитый академик Эйлер, хотя и был слепым, подметил разницу между графом Владимиром Григорьевичем домашним и графом – президентом Академии, испытав на себе во время службы «всю тяжесть его железного скипетра». Из 88 прожитых лет граф В. Орлов отдал государственной службе восемь, может быть, поэтому он и прожил дольше всех своих братьев; в XVIII веке такой возраст был большой редкостью.
Хозяйственное управление по владениям братьев Орловых все более и более переходит от Ивана к Владимиру. Появилось «много распоряжений в Хатуне» Алехановой насчет разведения там «всякой всячины». Но пока там командует Алехан московский, Владимир пишет брату: «Алехан твой меня убаял, чтоб хором мне не строить, а жить в твоих…Он плутандус великий. Леску у тебя несколько повыведу». И добавляет, что лесу там столько, что «и правнукам достанется».
Кем был для Орловых «Алехан московский» нам неизвестно, можно только предполагать, что по аналогии с главным хозяином хатунских владений звали его Алексеем и что он являлся побочным сыном Алексея Григорьевича.
Как видно из сохранившейся переписки, к этому времени в Хатуни, видимо, построен уже дом для Алехана и какие-то постройки для Владимира, которые он собирается улучшать, но встречает противодействие Алехана московского и решает переориентироваться на Семеновское, ставшее вскоре на всю оставшуюся жизнь его настоящей Отрадой.
Отношения графа Владимира с племянницей не сложились. По свидетельству родового летописца Шереметевых Сергея Дмитриевича Шереметева, дядя графини Анны Алексеевны «оставшийся „во отца место“, был человек рассудительный, хозяйственный, но склада довольно чуждого „Алехану“. Анна не могла вполне ужиться с дядей; она оставалась одинока среди отцовской широкой обстановки и долго не приходила в себя».








