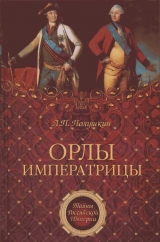
Текст книги "Орлы императрицы"
Автор книги: Лев Полушкин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Дворянская охота
Одним из самых популярных развлечений в дворянской среде была псовая охота. Наиболее состоятельные содержали в загородных имениях большие псарни, целый штат дворовых, обеспечивавших уход за собаками (борзыми и гончими) и игравших во время охоты второстепенные роли. Это были тенетчики, обыщики, подгонщики и др.
Псовая охота начиналась с псарни, которая состояла из двух отделений: одно, общее, отводилось гончим собакам, а другое, для борзых, делилось на такое количество хлевов, сколько свор имелось на псарне. Каждая свора состояла из двух борзых, иногда на охоте использовались своры из двух пар борзых на сворке (ремне), которую держал в руке борзятник.
При псарне находилась изба для псарей, варница (кухня), сени для кормления собак и чулан для хранения конской упряжи, охотничьего снаряжения и одежды охотников. Поблизости располагалась и конюшня для охотничьих лошадей с сараем для экипажей, использовавшихся при выездах на дальние от дома расстояния, что называлось выездом «в отъезжее поле». Кроме того, при псарне содержалось особое помещение для больных собак и щенят – своего рода собачий лазарет.
Главным лицом во время псовой охоты был ловчий – человек из дворян, знающий все тонкости гона, повадки зверя и т. д. Особые роли отводились доезжачему, выжлятникам, борзятникам.
Охота на зверя начиналась с приходом весны. Тенета (сети) устанавливались загодя, в зимнюю пору, в местах, где, зная по опыту прошлых лет, спешил скрыться от преследования не подозревавший подвоха зверь. По существовавшим поверьям новые тенета полагалось окропить кровью, и потому первого пойманного зверя живым не брали. Наиболее распространена была охота на зайцев вследствие их необычайной плодовитости и неистребимого почти повсеместно множества. Особенно многочисленные их скопления по весне обнаруживались на островах, образующихся вследствие разлива рек. Тогда охота походила на бойню загнанного естественным путем зверя и, вследствие этого, для большинства помещиков интереса не представляла.
Обычная массовая охота на зайца, которого можно было встретить в любое время года, начиналась по весне вблизи больших и средних рек и продолжалась до глубокой осени. Различались русаки, беляки, менявшие на зиму свою шубу на белую, и тумаки – помесь русака с беляком.
Передние лапы зайца много короче задних, передвигается он прыжками, отталкиваясь распрямляющимися, как пружины, задними лапами, которые при приземлении оказываются впереди передних. По этой причине ему при беге под гору зачастую приходится скатывается кубарем. Длина его прыжка на равнине составляет около двух метров. Сила задних лап такова, что нередко зайцу удается отбиться от хищной птицы (коршуна, совы), при этом он переворачивается на спину. Но не только лапы спасают его от гибели. Жизнь научила зайца хитрости; он большой мастер запутывать следы, основным приемом при этом является петляние, при котором он, следуя в определенном направлении, останавливается и по своим же следам движется в противоположную сторону, после чего разворачивается снова в нужном направлении и делает «смет», т. е. прыжок в сторону. Собака или любой другой преследующий его зверь, идя по следу, приходит в тупик, вынуждающий искать точку смета, на что при длинной петле уходит много времени, Перед ночлегом заяц проделывает такую процедуру несколько раз, после чего спокойно укладывается где-нибудь под сваленным деревом или в другом укромном месте.
Порой удивительную находчивость проявляет заяц во время преследования его хищником. Так, например, однажды во время погони, когда расстояние между зайцем и преследующей его собакой сократилось до нескольких метров, заяц, увидев впереди два сросшихся дерева, сиганул в просвет меж стволами, а увлеченная погоней собака не успела среагировать и разбилась.
Особенный интерес представляла охота глубокой осенью, когда все русаки побелеют, а голод может выгнать вслед за ними и «красного» зверя, каковыми считались лисица и волк.
Но при охоте на лису в вечернее время следовало быть очень осторожным; лесная обманщица, куролеся по кустам и болотам, могла так запутать собак, что нередко приходилось разыскивать их самих по нескольку дней в окрестных деревнях и рощах.
Для охоты дворяне собирались компанией, чаще всего гостями были соседи по имениям, приезжавшие со своими собаками и людьми. Такие сборы устраивались обычно то у одного, то у другого соседа и проходили как праздники. В окрестностях, представлявших интерес для охоты, сооружались беседки, домики, в которых можно было после удачного дня отдохнуть, вспомнить за столом запомнившиеся эпизоды и заночевать.
Иногда практиковалась и ружейная охота, когда общество упражнялось в стрельбе «из-под гончих», получая от этого большое удовольствие и веселье. Но псовая охота велась без применения огнестрельного оружия и заключалась в следующем.
Предварительно выбиралось место, чаще всего это была роща, называвшаяся на охотничьем языке островом; вокруг острова или с определенной заранее стороны его, на которую предполагалось гнать зверя, выстраивались охотники-борзятники со сворами борзых, а в остров въезжали доезжачий, 2–3 выжлятника и от 20 до 40 гончих собак. Главной задачей доезжачего было направить гончих на след зверя, которого затем гнали из острова в поле, на открытую местность, где караулили борзятники. В нужный момент борзых спускали со сворки и скакали за ними галопом, пока собаки не настигнут и не схватят зверя. Тогда охотник, соскочив с лошади, убивал зайца или волка ножом, лисицу – ударом кнутовища арапника по голове. Арапник представлял собой длинную витую ременную плеть с короткой рукояткой. Зайца били ножом меж лопаток, отпазанчивали, то есть отрезали концы лап для поощрения собак и вторачивали (привязывали) к седлу за задние ноги. Лису вторачивали за шею. Волка убивали ударом ножа под левую лопатку, иногда зверя (зайца, лису, волка, медведя) брали живьем, некоторые помещики устраивали потом травлю, при которой зверя выпускали в поле или в обширный двор, а вслед за тем спускали собак, тренируя их на злобность и заодно любуясь кровавым зрелищем убийства загнанного зверя.
Охотники одевались в шаровары, длинные сапоги и кафтаны, темные у борзятников и яркие у выжлятников, чтобы лучше видеть их в лесу. Обязанностью выжлятников являлось формировать, направлять стаю гончих во время охоты и собирать их по окончании охоты. Для выгона зверя из острова использовали громкие звуки: стук, крик, хлопанье арапника.
Семеновское – Отрада
В 1775–1778 гг. Владимир, видимо, большую часть времени проживал в Москве, не забывая о постройках в Семеновском. В 1777 г. он получил от московского архиепископа Платона храмозданную грамоту на строительство в Отраде церкви во имя своего небесного покровителя благоверного князя Владимира. А летние месяцы 1779–1780 гт. проводит уже в загородном имении, которое хотя и не достроено, но для летней жизни вполне пригодно. К этому времени относятся распоряжения на запрет охоты на зайцев и на разведение в прудах рыбы.
По ходу работ в Семеновском у хозяина все более и более появляются новые мысли по благоустройству имения, строительство растягивается на многие годы: в 1778 г. производится отделка печей, форточек, дверей, из Москвы завозятся изразцы; в 1786 г. заготовлялся строевой лес для дома, в 1792 г. покупался кирпич для постройки конюшенного флигеля, но все это делалось параллельно с проживанием семьи графа в летнее время.
Искусствоведы предполагают, что здание отрадненского дома проектировал старый знакомый Григория В. Баженов. В пользу последнего говорит тот факт, что конфигурация плана дома полностью совпадает с планом баженовских павильонов Михайловского замка в Петербурге. Вот что пишет по этому поводу один из соседей В. Орлова по загородному имению, Свербеев, передавая слова самого Владимира: «Призвал я лучшего в то время архитектора, и указал он мне место на высокой горе построить тут трехэтажный барский замок и церковь. План мне полюбился, однако исполнил я его не совсем в точности. Церковь на высокой горе, на открытом от лесов месте, построил, а для постройки дома спустился пониже, к берегу реки, между лесами… Начавши строить, я опять не послушался архитектора – вместо трех выстроил только два этажа». Любопытно, что парадные залы усадебного дворца по размерам уступали жилым помещениям, из чего следует, что хозяева предпочитали удобство бытовых помещений показной стороне построек.
Дом строился добротным и прочным в расчете на жительство в нем нескольких поколений: сводчатые потолки, толстые стены, предусмотрены все возможные удобства; в дом была даже проведена вода из одного из отдаленных родников. Просторная купальня на первом этаже была «назначена как будто для великанов». Библиотека размещалась в нескольких комнатах и в кабинете графа.
Парк занимал площадь в 600 десятин по обе стороны реки Лопасни и был одним из величайших в России, здесь был устроен даже «кунстштюк» – два ручья, находящиеся в паре метров друг от друга и текущие навстречу.
Проводились и прудовые работы: из Щучьего пруда в Лопасню был устроен каскад и фонтан «против дома по ту сторону реки», еще один каскад был устроен в «Елизаветинском парке», названном именем жены графа. Прямоугольные пруды питались ключевой водой, возле них были сооружены беседки, имеющие внешний вид сельских домиков, а внутри находился небольшой зал; сюда приходили смотреть кормление рыбы по звонку колокольчика, как это делалось в Нескучном, пить чай, порой устраивались пикники.
В Отраде Владимира неоднократно посещали братья, восхищались красотою мест и их обустройством, и, по свидетельству В. Орлова-Давыдова, просили их там похоронить.
В домашних условиях граф Владимир одевался просто, но всегда исключительно чисто. Обычно он носил длинный байковый или суконный сюртук зимой и темный нанковый летом, вместо жилета – широкий шелковый камзол и вокруг шеи белый кисейный платок.
Д. Н. Свербеев в своих записках пишет, что у В. Орлова не было наград, не считая медали в память 1812 г., которую выдавали всем дворянам, имевшим право носить военный мундир. Д. Свербеев пишет также: «Лучшим из всех подмосковных соседей был граф В. Г. Орлов. Он был родовитее других серпуховских помещиков… но всех их Орлов превосходил… богатством, несравненно высоким перед всеми образованием и достойным глубокого уважения своим характером».
Крестьян было принято отдавать на обучение портняжному, башмачному, шорному, аптекарскому делу, из их среды готовили садовников, конюхов, плотников. Крепостные, обладавшие талантами и игравшие в театре или в оркестре, в основную часть времени были заняты работой по своей «специальности» (плотницкой, башмачной и т. д.). У Владимира были знатные музыканты, сказывались близкие знакомства Алехана с двумя именитыми и талантливыми композиторами, Березовским и Бортнянским, находившимися в его окружении в Италии. Ну как не воспользоваться таким знакомством? Во время войны с турками Владимир через некоего Ивана Автономовича просил прислать ноты церковных сочинений Д. Бортнянского, а чтобы избежать дубляжа, прилагал к письму уже имеющиеся у него ноты. Одновременно он просит прислать и разные музыкальные инструменты для своего будущего оркестра. Владимир и сам любил петь и нередко «веселил песнями» своих домочадцев и братцев.
Музыкой сопровождались обеды, по субботним вечерам в отрадненской бильярдной давались вокальные или инструментальные концерты. Граф не любил громкой музыки и слушал в соседней гостиной комнате, а по окончании произведений порой делал замечания своему крепостному капельмейстеру Л. С. Гурилеву, отцу известного композитора АЛ. Гурилева, автора многих популярных песен и романсов, среди которых всем известный «Однозвучно гремит колокольчик».
Дом и территория усадьбы в дневное и вечернее время были наполнены жизнью и движением. До прогуливающихся доносились звуки «волторна» или других музыкальных инструментов, это готовились к выступлениям крепостные артисты. По воскресеньям вся большая семья собиралась в церкви, стоящей на вершине горы.
В главной конторе графа, готовившей различные хозяйственные бумаги, касающиеся управления вотчинами, конторщики, несмотря на незначительное жалованье, крепко держались за свои места; один из них оставил своей жене 25 000 рублей, другой сумел дать сыну такое воспитание, что после смерти графа Владимира тот не только получил свободу, но и, прослужив некоторое время в канцелярии Его Императорского Величества, стал сенатором.
Усадьба Отрада вплоть до революции 1917 г. являлась одной из самых богатых в России. К сожалению, от внутреннего убранства Отрады до наших дней дошли лишь воспоминания.
Была у Владимира Григорьевича и коллекция табакерок, одна из которых особенно ценилась Орловыми – это был подарок Екатерины II: на шести ее сторонах были изображены эпизоды дворцового переворота: Петергоф, Измайловские казармы, Зимний дворец…
В верхнем этаже дворца находилась самая большая в доме комната – столовая с окнами в сад. Здесь также висели портреты, а в простенках между окнами стояли фамильные бюсты и пудовые шандалы для свечей. Лепной потолок расписан К. Брюлловым, пользовавшимся покровительством Орловых, часто у них гостившим. Возможно, поэтому К. Брюллов хорошо знал лошадей и умел писать с них картины, которые впоследствии покупал основатель уникального отечественного музея коневодства Я. И. Бутович. На высоких полках располагался старый фарфор, расписной сервиз – также подарок Екатерины. Здесь же хранились (вероятно, после смерти Алексея) в особой витрине – кейзер-флаг, подаренный А. Орлову после Чесменской баталии, а на специальном столике – обломок адмиральского корабля, на котором этот флаг был поднят.
Еще одна гостиная с зеленоватыми стенами, поверху которых шел широкий бордюр итальянской ручной работы, была обставлена мебелью красного дерева. И всюду картины, картины, картины… Они не умещались в комнатах, так что приходилось развешивать их в проходных помещениях. Дворец был наполнен художественными и историческими ценностями. Чего стоила одна только мебель конца XVIII века: здесь были и резные, позолоченные с округлыми спинками диваны и кресла, и зеркала в золоченых рамах, и изящные столы, и бюро, на которых размещались фигурки мейсенского фарфорового завода. Интерьеры дворца украшены были двухцветными кафельными печами, каминами с ажурными часами в корпусах, расписанных под фарфор, коваными решетками, лепными карнизами, наборными паркетами.
За Лопасней находился английский парк с боскетами и разными поэтическими сооружениями. Пруды, выкопанные, по преданию, пленными турками в низине у реки, питались из пробивающихся тут и там ключей и имели первоначально форму вензелей Г. Орлова и Екатерины II. Особенно красив был Лебединый пруд с островом посредине.
Основные постройки Семеновского образовывали сложный и единый дворцово-хозяйственный комплекс: на небольшом пространстве сосредоточены, примыкая друг к другу, дворец, флигели, павильоны, служебные корпуса, оранжереи. Белокаменные столбы главных ворот завершались фигурами сторожевых львов, парковые ворота украшали бронзовые изваяния орлов.
Одной из главных достопримечательностей Отрады является Успенская церковка-мавзолей Орловых, построенная по проекту Жилярди в 1832–1835 гг. и разоренная в 1920-х гг. Подвальное помещение мавзолея предназначалось для захоронения Орловых, а позднее – Орловых-Давыдовых, принявших Отраду в наследство. Невдалеке от усыпальницы был установлен бронзовый бюст Екатерины II с надписью вокруг по цоколю: «Екатерине Великой, благодетельнице Орловых».
Летняя жизнь графа
Размеры отрадненской усадьбы и ее окрестностей, пригодных для охоты, ограничивались участками, отданными крестьянам из окрестных деревень для земледелия. Но охота – одно из основных развлечений, сочетавшее приятное с полезным. С этой целью леса, не входившие в состав парка, были разделены на рощи-острова. Никаких следов от этих рощ не осталось, так как после смерти Владимира леса поступили в надел крестьянам и были повырублены.
В первые годы жительства Орловых в Отраде охота устраивалась регулярно, для чего сюда приглашались гости, на отъезжем поле появлялись большие кавалькады охотников, сопровождаемые сворами собак и целыми поездами из повозок с припасами для дальних поездок, – владения Орловых не ограничивались окрестностями Отрады и Хатуни.
В письмах Владимира Григорьевича можно прочитать следующее: «На сих днях был два раза на поле с Дубенским С. А., первой – в Киясовке, а другой в михневских местах», «Сегодня сижу дома и отдыхаю. С непривычки от верховой езды разломался. Завтра и после завтра поеду на поле с Дубенским и Ворониным», «Досадил мне Ямщик (кличка собаки. – Л.П.), вдруг сунулся в стадо, поймал овцу, ну рвать ее, насилу отбили».
И снова в письмах сыну об охоте в хатунских местах: «Сегодня… празднуем Сонюшкины имянины, завтра поедем на поле в Михайловское… в ночь прискакал гонец от дядюшки Алексея Григорьевича с известием, что он будет через несколько часов сюда… он едет на короткое время на битюг (на Хреновский завод. – Л.П.), товарищ его Петр А. Бахметьев и Чесменский, – последний прибыл на сих днях из Петербурга». И через несколько дней: «15 (ноября) пригнали лошадей с битюга…», «17 как мы отобедали и легли с Папахиным отдыхать, то прискакал Алехан, Бахметев П. А. и Чесменский, накрыли опять стол и подчивали их. 17 же приехал и Н. А. Зиновьев. 18 рано все ускакали; брат с товарищами на битюг, Зиновьев в Москву… слухи о войне подтверждаются. Многие из молодых людей хотят ехать волонтерами, из числа оных Зиновьев и Чесменской».
В другом письме: «Не думано, не гадано, вдруг на двор бряк брат Алексей, вчерась по утру. Он возвращается в Москву с Битюга, здесь ночевал, теперь собирается домой… Очень весел и доволен, ласки и дружбы оказал нам всем, давно уже не видал его так здорова и благорасположена». Возможно, настроение Алексея определялось недавно полученным письмом от Екатерины II, в котором победитель шведского флота адмирал Чичагов назван был последователем победителя Чесмы.
Сам Владимир также в добром настроении: «Я довольно гуляю по чистым полям, зайцев ни много, ни мало, но без скуки можно ездить. Верный мой товарищ Лука Алексеевич [Воронин] вчера затравил от роду в первый раз пять зайцев на свою свору, да на сих днях отроду же в первый раз лисицу, что его столь обрадовало, плясал сидя на лошади, от крику охрип… Гончие добры, борзыя резвы, товарищ Лука весельчак». Настроение прекрасное: «Сяду в карету и пущуся в Щеглятьево, там псы дожидаются» (44/1).
Забота графа Владимира о своих крепостных подтверждается в следующем письме сыну: «Боюсь весны, чтобы люди голодом не сидели… лучшего состояния не только из околотка, но может быть из всего Серпуховского уезда, но несмотря на то уже я истратил более пяти тысяч рублей на вспомоществование им и сия осторожность будет не лишняя, лучше потеряю деньги, нежели буду видеть однаго из подданных моих терпящих голод. Николи не чувствовали они благодеяний моих столь сильно, как ныне, признают искренне оное, молят Бога о всей моей семье… не знаю деньгам употребление достойнее сего».
Большое внимание уделял граф Владимир и своим нижегородским владениям, и в первую очередь Симбилеям – крупнейшему селению этой приволжской вотчины, где проводил едва ли не каждое лето один-два месяца.
И здесь хозяйский дом-дворец представлял собой типичный образец дворянской архитектуры того времени. Большое двухэтажное каменное здание с девятью окнами по фасаду имело бельведер в центре и мезонины по бокам, что украшало общий вид усадебного строения.
В помещениях размещалась изготовленная руками крепостных столяров мебель тонкой работы, имевшая в каждой комнате отличный от других помещений цвет и стиль: для кабинетов мебель изготовлялась из красного дерева, для столовой – дубовая, для спален – из карельской березы.
Известный нижегородский краевед Д. Н. Смирнов обрисовал усадебную жизнь Владимира Орлова несколько иначе, чем Орлов-Давыдов. «Не желая лишаться во время поездок в свои провинциальные имения привычных бытовых условий, – пишет он, – граф возил с собою всю семью и весь „двор“. Полтора – два месяца в году 36 комнат симбилеевского дома, флигеля, службы и добрая треть крестьянских домов едва вмещали прибывших пятью обозами хозяев и слуг.
При выездах графа сопровождали гусары, гайдуки, казачки, арапы (составлявшие „букет“ на запятках экипажа. – Л.П.), карлики и скороходы. Последние, по-другому бегуны или скоробежки, были одеты в легкие куртки с цветными лентами-наколками на локтях и коленках, на головах у них красовались бархатные шапочки с перьями. Скороходов кормили легко, вернее держали впроголодь, „чтобы прытче бегали“. Господа употребляли их вместо почтальонов, отправляя с разными поручениями в соседние усадьбы.
В графской кухне действовали перенесенные на русскую почву келлермейстер (начальник винного погреба), мундкох (начальник плиты), братмейстер (заведовал жарением мяса), шлахтер (варил супы) и кухеншрейберы (второстепенные поварские должности).
При личной особе графа состояли дворецкий, камердинер, чтец (граф был слаб глазами), стряпчий (дока для сношений с казенными местами), врач, брадобрей, парикмахер, гардеробщик, массажист, мозольный оператор».
Упоминает здесь Д. Смирнов и об астрономе, поэте, живописце, архитекторе, капельмейстере Гурилеве, богослове и других сопровождавших графа якобы при всех его перемещениях из усадьбы в усадьбу.
К сожалению, Д. Смирнов писал свою книгу «Нижегородская старина» во времена жесткой коммунистической цензуры, может быть, поэтому в строках о Владимире Орлове сквозит оголтелое недоброжелательство к помещичьему быту, без которого его в целом интересная книга не увидела бы свет (его материалы долго не пропускали цензоры).
Говоря о способных крепостных, он, например, пишет следующее: «Много и других талантливых русских людей, проявлявших ум или способности, всю жизнь оставались в Симбилеях рабами помещика, который в любую минуту мог их оскорбить, ударить, подарить, продать, заложить, проиграть… В непрерывных празднествах и удовольствиях проходило пребывание московского вельможи в „провинции“. Крез-аристократ считал прямой обязанностью принять, угостить и обласкать свою младшую братию – провинциальных дворян. Ряд званых обедов следовал один за другим. „Обеды“ сменялись „банкетами“ и „трактованиями“» и т. д.
Вынужденный следовать идеологической указке, не обобщает ли Дмитрий Николаевич В. Г. Орлова заодно с некими «злодеями-рабовладельцами»? Действительно ли мог граф Владимир ни с того ни с сего «оскорбить, ударить» крепостного? Что касается приглашений в Симбилеи «младшей братии – провинциальных дворян», то это похоже на правду, почему бы и не угостить соседа по-барски, общаясь с ним скуки ради? Заканчивается рассказ о симбилейском пребывании Владимира следующими словами: «Наскучив обедами и банкетами, произведя ревизию финансовых дел симбилейских вотчинных управителей, граф со своим „двором“ отбывал в подмосковную резиденцию. После его отъезда население облегченно вздыхало. Мундшенки и обершенки вновь обращались в старост и приказчиков».
Для сравнения приведем записи о графе Владимире другого краеведа – полковника Вячеслава Николаевича Калёнова, с книгой которого под названием «История Хатунской волости» [М., 2002] можно ознакомиться в Государственной Публичной исторической библиотеке в Москве. Его работа основана на архивных данных, лишена цензурных правок и потому заслуживает несравненно большего доверия, нежели книга Д. Смирнова. В. Н. Калёнов был жителем деревни Лапино, расположенной в десятке километров от Хатуни в живописном месте на берегу реки Лопасни.
По словам самого В. Орлова в его письме сыну, приведенном выше, он «истратил более пяти тысяч рублей на вспомоществование им [крестьянам] и сия осторожность будет не лишняя, лучше потеряю деньги, нежели буду видеть однаго из подданных моих терпящих голод. Николи не чувствовали они благодеяний моих столь сильно, как ныне…». Вот что пишет В. Калёнов в подтверждение этих слов: «Да, был хозяин заботливый, добрый к природе и людям и след его не захлестнули разрушительно-злые, суровые волны времени… Память о добрых делах графа Владимира долго передавалась из поколения в поколение крестьян не только деревень, входящих в состав его владения, но и далеко от Х. [атунскй] В. [олости]». Судите сами: в 1801 году 29 декабря указано графом управляющему «Отрадой»: «Жалую за работы крестьянам 5500 рублей. Зачесть им в оброк, а излишние выдать деньгами и записать в расход…» Спасал граф своих крестьян и от рекрутчины, покупая рекрут добровольцев на стороне, хотя рекруты стоили в это время очень дорого…
Когда «у трех семеновских крестьян пали в зиму 1801 года лошади» и купить их было не на что, каждому из них было выдано по 20 рублей. А вот еще распоряжение из Отрады от 9.05.1801 г.: «Погорельцам от молнии крестьянам (две избы) выдать по 50 рублей» и т. д.
Существует также другой независимый источник (Лебедев А. И. Семейные воспоминания протоиерея/Душеполезное чтение. М., 1910), характеризующий графа Владимира как справедливого хозяина. После трагической гибели священника церкви села Авдотьино, входившего во владения Орловых, граф Владимир отправил его старшего сына Алексея Никитича Лебедева в Москву к владыке Платону с просьбой посвятить его в священнический сан на освобожденное место. Узнав об этом, дьякон той церкви, претендовавший на это место, ночью поджег дом отсутствовавшего Лебедева с разных сторон, чтобы уничтожить его семью. Дело в том, что «в то время вдовых не производили в священники» – так сказано в источнике.
Когда графу Орлову стало известно об этом, он в пылу гнева хотел затравить злодея собаками, но затем предоставил решать судьбу его самому пострадавшему: «Делай с ним что хочешь». А. Лебедев оставил губителя своей семьи Суду Божьему: «Семью все равно не вернешь».
18 ноября 1791 г. умер «старинушка» Иван. Похоронили его там же, где покоился уже Григорий – в отрадненском склепе Владимирской церкви, впредь до сооружения в сосновой роще часовни – мавзолея Орловых. А в 1796 г. находившиеся в Петербурге Алексей и Владимир получили сообщение о смерти любимого «Дунайки» – Федора. За несколько дней до смерти Федор призвал к себе всех шестерых своих воспитанников (незаконнорожденных детей) и, прощаясь, сказал: «Живите дружно, мы дружно жили с братьями и нас сам Потемкин не сломил». Душеприказчиками своими Федор оставил братьев Алексея и Владимира, которые похоронили его рядом с останками двоих старших братьев. Это случилось за полгода до смерти Екатерины II.








