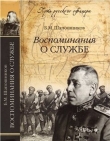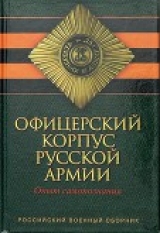
Текст книги "Офицерский корпус Русской Армии. Опыт самопознания"
Автор книги: Лев Толстой
Соавторы: Антон Деникин,Петр Краснов,Антон Керсновский,Анатолий Каменев,Александр Редигер
Жанры:
Военная документалистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 49 страниц)
6. Урегулировать скорость производства строевых и нестроевых офицеров таким образом, чтобы первые всегда имели преимущество. Установить положительным законом, что никогда, нигде и ни при каких условиях нестроевой офицер не может обогнать своих сверстников, оставшихся в строю.
7. Необходимо установить строгое соответствие между чином и должностью. В настоящее время все нестроевые должности занимаются лицами в несообразно высоких чинах. Недавно еще мы видели генерал-лейтенанта смотрителем музея, другого генерал-лейтенанта – учителем черчения, генерал-майора – библиотекарем и т. п. В прямое нарушение закона начальники отделений разных главных управлений военного министерства производятся в генералы; казначей – генерал; смотритель зданий – тоже генерал; в последнее время инспектора классов в кадетских корпусах тоже повышены в генералы и так далее в этом роде. Подобные порядки должны быть изменены, причем для каждой должности определен известный чин подобно тому, как это существует в строю.
8. Вывести столь глубоко укоренившееся в русской армии хамство, преследуя не только дерзость младшего по отношению к старшему, но также и всякую грубость начальника относительно подчиненного.
9. С возможною точностью определить те результаты, кои желательно получить при обучении роты, батальона, полка и других строевых частей. В деле достижения поставленных целей, т. е. в способах и приемах обучения, предоставить строевым начальникам полную свободу. Контролю должны подлежать лишь результаты, причем начальники не имеют права устанавливать какие-либо личные требования.
10. Снять военный мундир с полиции и жандармов, которые по роду своей службы ничего общего с армией не имеют. Переименовать в гражданские чины тех офицеров и генералов, которые занимают должности в других ведомствах, например, в министерстве двора, министерстве внутренних дел, в государственном коннозаводстве, ведомстве учреждений императрицы Марии и т. п.
11. Лишить отставных офицеров права ношения военной формы, ибо многие из них своим неопрятным видом, несоответственным родом занятий, а иногда даже и неприличным поведением подрывают уважение к мундиру; серьезный же контроль над ними на практике невозможен. Нигде нет того, чтобы лица, ушедшие со службы, носили форму. Даже германские офицеры, у которых корпоративное чувство развито гораздо сильнее, чем у наших, при выходе в отставку снимают мундир. Кроме того, необходимо сократить число отставных генералов. В настоящее время почти каждый воинский начальник и смотритель провиантского магазина увольняется в отставку с производством в генерал-майоры. На 1.400 генералов, состоящих в России на действительной службе, приходится чуть ли не 10 тыс. отставных. Подобный маскарад подрывает значение генеральского чина. Полковников, прослуживших известное число лет, можно увольнять с генеральскими пенсиями, но без производства в генералы.
12. Ввести суды общества офицеров во всех тех корпорациях и учреждениях военного ведомства, где служащие носят военный мундир.
13. Следует значительно усилить для гражданских лиц судебную репрессию за оскорбление офицера или нижнего чина в тех случаях, когда будет доказано, что оно было направлено не против личности, а против звания военнослужащего. При нахождении оскорбленного в строю и вообще при исполнении обязанностей службы наказание должно еще более повышаться. Нужно установить тот взгляд, что в указанных случаях оскорбление наносится не известному лицу, а правительственной власти. С другой стороны, следует беспощадно карать офицеров и солдат за всякое самоуправство по отношению к мирным гражданам, особенно если оно сопряжено с употреблением оружия.
14. Необходимо до самого крайнего предела ограничить случаи употребления войск против граждан. По самой идее армия, комплектуемая на началах всеобщей воинской повинности, есть учреждение государственное, а не орудие господствующей политической партии. Вследствие этого, рассуждая отвлеченно, вооруженную силу можно употреблять лишь против врагов государства, а не против врагов известного режима. На практике осуществление этого принципа в полной мере, конечно, трудно; но во всяком случае нужно избавить армию от исполнения обязанностей полиции. Войска следует вызывать не для того, чтобы они были зрителями разных демонстраций и уличных беспорядков, подвергаясь при этом совершенно незаслуженным оскорблениям, а лишь при открытом восстании, когда правительство решило действовать оружием. Применяемый в настоящее время способ употребления вооруженной силы приносит неисчислимый вред: он порождает антагонизм между народом и армией, приучает толпу не бояться войск, а в этих последних подрывает дисциплину и чувство воинского достоинства.
Из перечисленных выше мер 2-я и 3-я вызовут крупные расходы. Однако средства для них найдутся в пределах самого военного министерства. Для этого прежде всего можно сократить срок службы в войсках на один год, увеличив в то же время на год срок пребывания в запасе. Вследствие этого военная численность армии не изменится, мирная же численность уменьшится на целый контингент (т. е. в пехоте – на одну четверть), что даст огромное уменьшение расходов.
Кроме того, значительная экономия получится от указанного выше закрытия кадетских корпусов.
Затем следует уничтожить разные ненужные учреждения вроде фельдъегерского корпуса, всевозможных комитетов и комиссий; упразднить многочисленных генералов, состоящих в распоряжении высших военных сановников (при одном главном артиллерийском управлении их несколько десятков); уничтожить должности бригадного командира в пехоте и кавалерии, дивизионера в артиллерии и т. п.
Сокращение срока действительной службы на один год нисколько не отразится на обучении и воспитании войск, если только в связи с этим армия получит хороший корпус офицеров и не менее как по шести надежных, хорошо оплачиваемых сверхсрочных унтер-офицеров на роту.
В случае проведения указанных реформ, в состав нашего офицерского корпуса будут попадать люди, получившие не только законченное общее и прекрасное специальное образование, но – что еще важнее – чувствующие призвание к военному делу, свободно избравшие его своей специальностью в таком возрасте, когда наклонности человека уже вполне определились.
При таком составе офицеров все дело подготовки войск в мирное время и управления ими на войне примет совсем другой характер.
Мартынов Е. И. Из печального опыта Русско-японской войны. Издание 2-е. – СПб., 1907. – С. 39–62.
А. Мариюшкин. По вопросу об офицерских занятиях
Одним из наиболее действительных приемов теоретической подготовки командного элемента армии являются, как известно, офицерские занятия.
Целесообразно поставленные занятия при наличии опытных руководителей, способствуя повышению общеобразовательного уровня, имеют притом и чисто воспитательное значение, развивая самодеятельность, находчивость и способность принимать решения при самых неожиданных положениях. Несмотря, однако, на громадную роль теоретической подготовки, вопрос о постановке занятий до сих пор не получил еще положительного решения.
Как бы ни была горька действительность, тем не менее нельзя не сознаться, что еще и до сих пор часы, например, тактических занятий носят крайне томительный и нудный характер.
Очень немного счастливых частей, где этот вопрос поставлен на должную высоту; где благоприятный подбор руководителей, направляемый уверенной рукой начальника, вносит живой интерес и сообщает делу характер увлекательного спорта.
При исследовании причин наших неудач в минувшую кампанию неоднократно раздавались голоса, что доминирующей причиной следует признать слабую тактическую подготовку нашего строевого элемента.
Если бы даже при более глубоком исследовании и обнаружились более действительные причины, то все-таки нельзя не согласиться, что и подобное заявление имеет свой raison d'etre. Там, где, не покладая рук, совершается плодотворная работа мирного времени, где царит уверенность, что обстановка при всем своем бесконечном разнообразии не застанет врасплох, где всякое действие повлечет немедленное противодействие, где, наконец, находчивость и личный почин доведены до понятия обязанностей, – там никогда не будет растерянности.
Война – это высший экзамен офицерской работе, и государство вправе рассчитывать, чтобы на этот экзамен мы явились во всеоружии и чтобы для нас не было неожиданных вопросов, которые окупаются кровью.
Жизнь с каждым годом становится сложней, а с ней вместе усложняются и условия, характеризующие жизнь во всех ее проявлениях.
Ни одна область сложного механизма не испытывает такого быстрого роста, как область ратного дела. Каждый новый год в военном деле обогащается новыми средствами: совершенствуется оружие, видоизменяется техника, повышаются требования и усложняются задачи…
Если раньше все достоинства офицера воплощались в понятии храбрости, то в настоящее время одного этого качества уже недостаточно. Теперь храбрость, при неуклонном порыве вперед, должна быть неотъемлемым свойством каждого нижнего чина, да и от него требуется понимание маневра своего.
От офицера же, помимо храбрости, требуется еще и уменье
Государство, чуткое к нуждам и личным интересам своей армии, вправе потребовать от нее высокого проявления мужества, исполнения своего долга, а от командного элемента – еще понимания исторических задач и полного сознания обстановки.
В настоящее время и на Юге, и на Западе, и на Востоке идет лихорадочная работа, и нам неуклонно надо стремиться, следуя постоянно вперед, увеличивать дистанцию
Армия – вечный часовой, который никогда не покидает своего поста. Постоянная бдительность и совершенствование на славу Великой Родины – вот ее обязанности; безопасность, величие и слава отечества – вот ее права!..
При том громадном значении, которое принадлежит уменью, весьма естественны требования, предъявляемые к офицеру в смысле постоянного совершенствования. «Только в могиле отдых» – вот лозунг военнослужащих.
Училище только подготавливает офицера к дальнейшей работе, указывает ему курс, которого следует держаться…
Если не изменяются основные начала военного дела, то меняется и совершенствуется техника, а следовательно, и приложение этих начал тоже неминуемо подвергается колебанию.
Вечная неутомимая работа, постоянная готовность ответить на вопросы времени – вот центр стремлений современного офицера. «Непрерывное образование себя науками с помощью чтения», постоянный учет приемов и средств своих, а пуще всего соседей – вот данные, при которых опасное «немогузнайство», а с ним и громадная ответственность перед родиной не будут иметь места.
Одного знания устава теперь далеко не достаточно; помимо того, что жизнь и действительность обгоняют его, следует не забывать, что «в уставах порядки писаны, а времен и случаев нет».
Немцы выиграли блестящую кампанию в 1870 году, имея Фридриховский устав. Несмотря на несвоевременность устава, тем не менее война не застала Пруссию врасплох. Ясно, что подготовка армии, выдержавшей такое славное испытание, базировалась не на уставах, а на стройной системе, отвечающей духу времени и данным оружия. Только постоянная упорная подготовка и планомерность работы могли создать такой прекрасный корпус командного состава с высокоразвитым чувством самодеятельности и взаимной выручки…
К сожалению, у нас иногда замечаются поразительные взгляды на военное дело.
Не так давно даже в печати проводилась мысль, что вся военная наука не двигается дальше устава и что только знание уставных требований и форм необходимо современному офицеру.
Отсюда ведь недалеко и до требований дать устав с годными на все случаи формами. Чего легче – дать рецепты на 5-10 случаев, изучить их и пригонять, не мудрствуя лукаво.
Но вот в том-то и беда, что одиннадцатый случай как раз может оказаться непредусмотренным.
Не хочется верить, что изгоняемая Суворовым в свое время «Повариха» находит спрос и в XX веке…
Возвращаясь к затронутому вопросу, нетрудно согласиться, что постоянная теоретическая подготовка, постоянное пребывание в курсе дела, доведенная до обязанностей находчивость при бесконечно разнообразных положениях – вот. пути, по которым неуклонно «следовать надлежит» каждому, кто имеет честь носить военный мундир.
Правильно поставленные тактические занятия наиболее отвечают условию успеха подготовки. <…>
Здесь должна совершаться работа другого характера: работа мысли, работа творчества и уменья разбираться в самых сложных деталях обстановки…
Современные сражения раскинулись на сотни верст. Никакие уставы, как бы они совершенны ни были, не могут предвидеть тех разнообразных положений, в которых может очутиться каждая часть.
Каждое дело, как бы оно мелко ни было, всегда носит отпечаток индивидуальности и как бы ни были разнообразны решения, но если они отвечают духу обстановки и принципам военного искусства, они всегда приводят к единому результату.
Ясно, что прогресс военного дела теперь требует от начальников всех степеней не только уменья выполнять уставные требования, но и знания тактики, знания современных приемов.
Постигать тайну этих приемов на опыте поздно и опасно. Если наука мирного времени требует только желания и часов, то в военное время она уже вызывает жертвы. Нет ничего бессмысленнее бесцельно утраченной жизни!
Победа окупается не числом жертв, а сознанием идти в бой «не для борьбы, а только для победы»…
Современный бой построен на самодеятельности частных начальников. Недаром минувшую кампанию называют войной капитанов, а тактику настоящего тактикой директив и разумной инициативы. Отсюда ясно, насколько приобретает значение ориентировка всех начальников от мала до велика и основной идее операции.
Теперь для того чтобы каждый понимал свой маневр, недостаточно распределить роли и поставить задачи каждому. Обстановка на войне капризна, «Его Величество случай» – неуловим…
Может статься, что поставленная час тому назад задача окажется несоответствующей; может статься, что целый ряд данных потребует иного выполнения, от которого выиграет общая цель, решится участь боя. <…>
В силу высказанных условий, теперь от офицера требуется при безусловном понимании своих обязанностей «смотреть дальше своей роты и батальона»…
Почему необходимо, чтобы и тактические занятия получили более широкий масштаб.
Мне скажут, какая польза решать младшему офицеру задачи на отряды больше батальона, когда его деятельность ограничена полуротой. Но ведь в каждом деле работа будет продуктивна тогда, когда понят весь сложный механизм его
Лучшим из способов тактических занятий следует безусловно признать военную игру. Дабы привлечь к работе всех, отряды в заданиях должны быть силой не менее дивизий, так как только тогда станет понятен весь сложный механизм современного боя. <…>
Сущность высказанных суждений слишком велика для нашего дела, чтобы его игнорировать, и если бы мне даже и не удалось положительно разрешить затронутый вопрос, все же я уверен, что осуществление его принадлежит недалекому будущему. Высказанные по этому поводу мнения более компетентных лиц, испытанных опытом, помогут разобраться в сложности его, и чем скорее это будет, тем лучше.
В военном деле все должно быть ясно и прочно.
В горячем стремлении современной офицерской массы к совершенствованию сомневаться нельзя… Жизнь предъявляет слишком огромные требования, чтобы оставаться инертным; мировые события слишком сложны и непредвиденны, чтобы не прислушиваться к ним…
Неудержимое стремление во всем вперед и постоянная готовность – вот единственно надежный щит вечно бодрствующей неожиданности!
Офицерская Жизнь. – 1912. – № 11 (311).
Д. Аничков. Офицерский вопрос в современной армии
Значение офицера в современной армии более чем ясно: хорош корпус офицеров – и армия непобедима плохи офицеры – впереди новые Мукдены и Цусимы…
И вот для создания этого необходимого для армии доблестного офицерского корпуса государство не должно жалеть средств, ибо затраты эти окупятся сторицею. Наоборот, экономия тут недопустима и приведет лишь к новой катастрофе. Но как наилучшим путем использовать средства? Как и куда направить их, дабы на затраченный капитал получить наивысший процент?
Для достижения наилучших результатов, нам кажется, необходимо придерживаться следующего.
Прежде всего корпус офицеров должен быть однороден, дабы каждый офицер, гвардейский и армейский, служащий в строю, имел одинаковые шансы на повышение в чинах. Разделение офицеров на будущих генералов и заранее обреченных дотянуть лямку лишь до первого штаб-офицерского чина, да и то «с увольнением», в сущности, неправильно и даже теорией осуждается как система нежелательная. С постепенным переформированием юнкерских училищ в военные однородность эта, впрочем, мало-помалу достигается естественным путем.
Уменьшение числа офицеров путем расширения института подпрапорщиков, которым с успехом и могут быть переданы некоторые функции офицера без ущерба для дела (напр., гимнастика, маршировка, ружейные приемы) при непременном условии высшего наблюдения и контроля со стороны офицера. Подпрапорщики не являются суррогатом офицерства вроде, напр., прапорщиков запаса, ибо они продолжают числиться нижними чинами и дальше фельдфебеля или взводного не могут подняться (что совершенно правильно и должно быть сохранено как необходимое условие существования этого института). Они просто «помощники офицера» и как таковые весьма полезны.
Подъем умственного и нравственного уровня офицерской среды, создание типа офицера-идеалиста, офицера-фанатика своего дела, но не узкого специалиста, а широко и всесторонне образованного офицера-гражданина в высоком смысле этого слова. Такой тип должен вырабатываться школой, в которую должны поступать исключительно «охотники», любители военного дела, серьезно им интересующиеся, способные отдать ему все свои силы, умственные и физические. Но кроме «охоты», необходимо еще нечто, а именно значительное умственное развитие, при наличности коего только и возможно идейное отношение к делу, вера в принцип и высокое чувство гражданского долга. Оба эти условия, – и любовь к военному ремеслу, и умственное развитие будущего офицера, – достижимы лишь при соблюдении третьего условия, столь же необходимого, по нашему глубокому убеждению, как и первые два. Это третье условие – поступление в военную школу не в детские годы, когда наклонности ребенка еще не определились, а в более или менее зрелом возрасте, когда среднее образование уже вполне закончено и умственное развитие юноши доведено до достаточной высоты.
Существует вполне правильное мнение, что задача средней школы – общее, отнюдь не специальное образование, развитие ума, подготовка к дальнейшему высшему или специальному образованию. Так смотрят на гимназию в министерстве народного просвещения, такая точка зрения существует и за границей. Это принцип совершенно правильный, всеми специалистами признанный за незыблемый закон, и отступать от него по меньшей мере неблагоразумно. В «эпоху великих реформ» мысль эта была понятна и отчасти осуществлена гениальным Милютиным, переименовавшим общие классы корпусов в «военные гимназии». Эти новые средние военно-учебные заведения явились тогда новыми не только по названию: в них изменена была программа, приравненная к курсу реальных училищ, в них уничтожена была та кадетская закваска, которая вместе с традиционной шагистикой должна была отойти в область преданий; в них совершенно изменился взгляд на воспитание, и мертвая поверхностная «муштра» уступила место более вдумчивому отношению воспитательского персонала к учащимся, в основу коего легли совершенно иные принципы. Словом, из казармы, с ее специфическим запахом, какой был тогдашний кадетский корпус, выработался тип учебного заведения, прекрасно обставленного и направленного на совершенно новый путь, главнейшей целью коего было воспитание, а не вколачивание, образование, а не бурсацкая долбня. Лучшие педагогические силы того времени привлечены были к осуществлению гениальной мысли одного из величайших сотрудников незабвенного Царя-реформатора, и плоды этого огромного труда не заставили долго себя ждать: во-первых, военные гимназии по составу преподавателей и педагогов очень скоро оказались одними из лучших в России учебными заведениями, а во-вторых, как ближайшее следствие, в армии, обновленной духом и мыслью, совершенно исчез исторический тип Скалозуба.
Но неправильная для дела воспитания и образования точка зрения, что будущих офицеров необходимо воспитывать в исключительно военном режиме с детских лет, скоро вновь восторжествовала и в конце концов привела к уничтожению детища графа Милютина, военных гимназий, и к возвращению, если не совсем к прежнему типу кадетских корпусов, то, во всяком случае, к типу, близко с ним схожему. В новых корпусах, сохранивших, правда, свою программу средней школы, гражданский элемент специалистов воспитателей-педагогов снова был вытеснен и заменен строевыми офицерами без всякой педагогической подготовки. Снова усилена строевая муштра в ущерб умственному и духовному развитию и воспитанию Грубость, чересчур высокий тон заступили место добрых, гуманных отношений, существовавших в гимназиях между воспитанниками и их руководителями. Подтянуть военно-учебные заведения, якобы до того чересчур распущенные, стало ближайшею целью нового времени. Общая реакционная волна тогдашней политики коснулась и ведомства военно-учебных заведений. Гуманный Милютин, широко образованный и дальновидный государственный деятель, сошел со сцены, и плоды трудов его завяли.
Прошло около четверти века, первый экзамен новой системы, только что пережитая нами маньчжурская эпопея, сдан неудовлетворительно. Русский офицер, как будто бы подтянутый (только как будто бы), но в действительности неподтянутый, военный по внешности, но не по внутреннему содержанию, не выдержал этого экзамена, еще раз доказав всему свету глубокое значение исторического «школьного учителя», т. е. умственного развития солдата вообще, а офицера, его воспитателя и руководителя, в особенности.
Вполне сочувствуя стремлению привести все военные училища к одному типу и уничтожению юнкерских училищ, мы все же не можем считать эту реформу окончательной. По нашему глубокому убеждению, контингент молодежи, поступающей в военные училища, тогда только будет вполне соответствовать своему назначению, когда средняя школа, их подготовляющая, будет на высоте своего призвания, выпуская своих питомцев не только с известным багажом положенных по программе знаний, но и со значительным умственным развитием и, главное, с любовью к. книге. А это умственное развитие, эта любовь к книге, в стенах кадетского корпуса обособленного, увы, возможны лишь с большим трудом. Там, где мало уважения к книге, мало стремления читать запоем, там не может быть широкого развития, и развитые, интеллигентные мальчики являются в такой среде в меньшинстве. Вымуштрованный по-солдатски кадет в настоящее время анахронизм. Теперь нужно нечто иное: пусть в задумчивых глазах юноши, будущего офицера, светится светлая мысль, пусть сверкает в них твердая, непоколебимая решимость посвятить себя служению Родине, всей душой и сердцем отдаться высокой идее самопожертвования на пользу и славу Отчизны!
Вера в идею, в принцип, высокоразвитое чувство долга – вот те гражданские доблести, которые предъявляются современному офицеру. Твердое знание службы, твердая дисциплина, справедливость к подчиненным и постоянное изучение военного искусства – его обязанности как офицера-воина. Первое достигается путем гражданского воспитания в средней школе, которая должна быть единая, общая, не исключительно военная. Второе – назначение специально-военной школы, военного училища. Это второе, т. е. техническое образование, должно начинаться лишь в зрелом возрасте, по окончании средней школы, и должно продолжаться не менее трех лет, срока вполне достаточного не только для образования, но и для воспитания будущего офицера в духе строгой дисциплины и преданности своему долгу до самозабвения.
Отсюда вывод: кадетские корпуса как среднеучебные заведения должны быть реформированы, и все внимание государства должно быть обращено на создание рациональной общегражданской средней школы с правильно поставленной системой нравственного и физического воспитания.
В заключение настоящей заметки не могу не привести высокопоучительных слов, высказанных князем де Линь: «Если ты не мечтаешь о военных обязанностях, если ты не поглощаешь книг о воине и карт полей сражении, если ты не целуешь следов старых солдат, не плачешь, слушая повествования об их борьбе, не умираешь от томления, чтобы увидеть что-нибудь подобное, и от стыда, что ты этого не видел, хотя это не твоя вина, то поскорее сбрось с себя мундир, который ты позоришь. Если мысль участвовать хотя бы в одном сражении не восхищает тебя, если ты не чувствуешь влечения участвовать повсюду, где разгорается бой, если ты рассеян, если ты не дрожишь при мысли о том, что дождь может помешать маневрам твоего полка, – так уступи свое место другому молодому человеку, который именно таков, каким я его хотел видеть».
Если ты не любишь военного дела до фанатизма, прибавим мы от себя, если ты можешь каждую данную минуту переменить свою службу на любую другую, лишь бы получить больше жалованья, то уходи скорее: ты не должен быть офицером.
Офицерская Жизнь. – 1908. – № 141.
П. Краснов. Чего войска ожидают и чего желают от молодых офицеров
Чего желает, чего хочет армия от своей офицерской молодежи?
Прежде всего – любви к. тяжелому, однообразному труду военной службы, любви к своему делу, любви и понимания. Любовь к солдату, понимание военного дела уничтожат все преграды. Любящий военное ремесло офицер быстро изучит его, быстро отыщет то, чего не дала или не успела дать ему школа. Ремесло… Я нарочно сказал военное ремесло, потому что нашу доблестную молодежь и упрекают именно в том, что она не знает своего ремесла. Любовь к строевому военному делу? Но откуда получишь ее, откуда, из какой книги, какого учебника почерпнешь ее?
Живой пример офицера-воспитателя, командира роты, батальона или эскадрона, его смелая, вдохновенная речь, его обожание военного дела – вот откуда – если почва для этого благодарная – зародиться может эта любовь к тяжелому ремеслу солдата. Если офицер-воспитатель будет хныкать, будет жаловаться на судьбу, на тяжесть службы, на то, что все ему надоело, что все это ни к чему, то и юнкер научится тому же. Я уже писал относительно казаков, а теперь повторю вообще для всех училищ, что подбор в них офицеров и особенно командиров должен быть особенный – это лучшие из лучших. Бодростью, жизнерадостною энергией, победною любовью к полю и полевому военному делу они должны дышать. Нечего и говорить, что все они должны быть из числа прошедших великую школу войны (без этого у них не будет необходимого авторитета), но это должны быть отличные стрелки, ходоки, наездники, прекрасные ораторы, обладающие священным огнем красноречия. Они должны быть благоговейно преданы Государю и Его Семье, быть влюблены в Россию и действительно готовы за них каждую минуту отдать жизнь… Они, только такие офицеры, способны зажечь любовь к военному ремеслу и дать в строй не офицеров-нытиков, говорящих о том, что правительство плохо оплачивает труд офицера, что военная служба невыгодна, что в строю нет карьеры и т. п., но честных и усердных работников.
Итак, первое, что нужно, это то, чтобы там, где готовят мастеров военного дела, их готовили самые лучшие, одаренные свыше, талантливые офицеры. Талант, как Божий дар, тем и дорог, что он способен заражать окружающих, влиять на них, как бы крупинками передаваться им.
Самое важное – люди, потом – программа и учебники. Жалуются на молодых офицеров, что у них сердце не затронуто воинским воспитанием, а между тем наше дело пахнет не только кровью, но требует особой моральной стойкости. Эту стойкость могут передать только люди, отмеченные особенной искрой Божией; таких людей нужно выискивать и находить для училищ/
Теперь посмотрим, чему должен быть научен молодой офицер. Уже из предпочтения в армии офицеров из юнкерских училищ офицерам, окончившим курс военных училищ, мы видим, что войска предпочитают, чтобы офицеры меньшему обучались, но зато знали бы назубок и умели передать в простой форме то, чему их научили. Знали всегда. Сколько раз приходилось видеть, что молодой офицер, только что с апломбом оспаривавший старшего в собрании, краснел и мялся перед строем солдат, не зная, что делать, с чего начать, как приступить к занятиям. Как часто мы месяцами маршируем под барабан или делаем ружейные приемы только потому, что такие занятия не обременяют голову, между тем как занятия сторожевой и особенно разведывательной службой требуют выбрать место, обдумать толково задачу и умело провести ее, а для молодого офицера часто легче решить задачу на плане на наступление целого корпуса, нежели на местности руководить взводом.
Для того чтобы этого не было, в училище должны быть обстоятельно пройдены: 1. Полевой и гарнизонный уставы. Не только выучены, но усвоены практически, для чего юнкера должны в течение прохождения курса быть по несколько раз начальниками постов и застав, а по гарнизонному уставу караульным начальником, караульным унтер-офицером и разводящим. Служба юнкерской заставы должна быть доведена до 2-х суток и состоять не из лежания на траве, а из интенсивной работы (съемка местности кругом заставы, выбор оборонительной позиции, пути отступления, посылка дозоров, объяснение дозорам их обязанностей и так далее; корм лошадей, водопой, варка пищи и пр.). Я не буду останавливаться на подробностях – они сами выяснятся, раз полевая служба не будет поставлена, как пикник на солнышке; 2. Войска желают иметь офицеров, знающих телеграфное, гелиографное и т. п. дело до полевого беспроволочного телеграфа и телефона включительно и знающих хорошо подрывное дело на практике; 3. Войска недовольны тем, что редкий офицер может скоро и ясно составить простое донесение, в котором толково ответит на вопросы: кто (сколько рот, эскадронов, орудий), где и что делает (движется, стоит на позиции, на биваке), приложив к этому ясные кроки и перспективный вид; 4. Войска недовольны тем, что молодому офицеру (особенно в кавалерии и у казаков) нельзя поручить повести стрелковое дело. Были случаи, когда офицер совсем не знал постепенности приготовительных к стрельбе упражнений, не знал сборки и разборки винтовки, не умел объяснить назначения той или другой части винтовки, мало того – цинично уверял, что «все это – ерунда» и что для того, чтобы хорошо стрелять, надо иметь способности с детства. Один молодой драгун, офицер полка, бывшего раньше гусарским, говорил нижним чинам, что чем кавалерия хуже стреляет – тем лучше, потому что «мы де – гусары…» Это уже упрек серьезный; 5. Войска жалуются на то, что редкий молодой офицер умеет произвести дознание. Служба его в этом отношении начинается с урока старшего офицера; между тем, казалось бы, училище могло бы научить этому несложному делу и вывести молодого офицера на первых же шагах службы из необходимости обращаться за помощью и советом; 6. Слышал я заявления, что многие молодые офицеры неискусны разбираться по трехверстной карте и даже не могут по ней ориентироваться. Это объясняется тем, что в училищах вообще мало карт, а если на маневрах юнкера и видят карту, то это знаменитую «зеленку», годную только для Петербургской губернии; 7. Кавалерия и, что странно, казаки не раз говорили мне, что молодежь предпочитает класс полю, а в поле теряется. Как мало у нас среди молодежи охотников! На состязаниях в Михайловском манеже и на ипподромах Красного Села и Тяглина уже лет пять совершенно отсутствуют казаки… Когда-то они были первыми инициаторами скачек; 8. Старые командиры полков говорили мне. что на планах молодой офицер умеет ворочать корпусом, но не знает, как повести разъезд; 9. Молодой офицер не умеет ковать лошадь, чистить ее, не знает, как помочь в простейших случаях заболевания (колики, наминки, ушиб, растяжения, засечка), не умеет собрать и уложить солдатское или казачье седло и вьюк; 10. Редкий молодой офицер умеет ясно и картинно рассказать нижним чинам о явлениях природы, о громе и молнии, о виде земли, о том, что такое электричество, как устраиваются железные дороги, – словом, ответить на те простые вопросы, которые постоянно возникают в солдатском мозгу и ответом на которые офицер поднял бы себя в солдатской среде, стал бы выше их, заинтересовал бы, словом, показал бы – что он начальник по праву; 11. В некоторых отделах обучения молодые офицеры грешат неправильной выучкой. Например, один офицер при обучении фехтованию учит наносить удары с кисти, другой – с локтя, третий – с плеча. При обучении езде один вводит жокейство: ногу, забранную в стремя, короткие стремена, согнутую поясницу; другой выламывает людям поясницу, требует преувеличенной оттяжки в каблуке – какой сумбур появится в голове у нижних чинов при таком обучении, когда сегодня их учат одному, завтра другому и всякий требует свое; 12. Казаки говорили мне, что молодые офицеры совершенно не ознакомлены с тем, чему учить молодого казака, чему – старослужащего, разведчика, конносапера и казака учебной команды, а потому всякое обучение молодым офицером сводится, в зависимости от темперамента, или к манежной езде (справа по одному на две лошади дистанции шагом), или к проскачке с рубкой и джигитовкой.